Текст книги "Архитектор и монах"
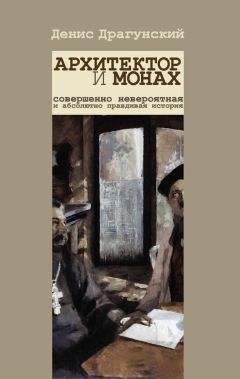
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
если бы сам царь лично явился в Россию и сказал: «Я жив, меня вывезли в Англию, но вот я перед вами, Романов Николай Александрович», – что бы ему сказали?
– Что? – не понял Дофин.
– Ему бы сказали: «Врешь, самозванец! Нашего царя убили в восемнадцатом году!» Ну, что смотришь, Дофин? Тебе скоро шестьдесят, дитя мое, а ты все еще… да, именно дитя. Сущий ребенок. У вас в Австрии все такие дети? Выдумка, которая прижилась в народе, – она становится вместо правды. Народ складывает свою легенду о власти, и эта легенда не терпит отступлений. Потому что народное мнение о власти – это гора, которую не сдвинешь с места. Но гора – это не сплошной гранит. В горе есть пещеры, щели, подземные ручейки – там идет невидимая глазу жизнь. Что-то размывается, осыпается, оседает – и в один прекрасный день начинается землетрясение.
В истоке всякой власти – жестокое и подлое преступление. И народ это прекрасно знает. Сначала это цемент власти, а потом едкая щелочь. То, что раньше скрепляло, разрушает. Рано или поздно власть начинает расползаться.
Но даже не в первородном преступлении дело. Народ его прощает, потому что народ сам довольно жесток и подл. И не в скрытности и лживости властей предержащих – они всегда таковы, иначе как получится предержать?
Все проще: наступило пресыщение. Власть одного человека не может быть вечной. Тем более что народ видел перемену власти. Видел и царя Николая, и Милюкова, и Набокова. Народ задумывается: а не многовато ли этого последнего? Не долговато ли он? Даже не задумывается умом, а вот такое ощущение в нем появляется. Ну, мол, сколько можно-то?
И вот тут правительство только войной и может спастись. А враги у России известные. Евреи и немцы. Ну, еще коммунисты. Но они, опять же, либо евреи, либо немцы.
8. Мадагаскар
– Я помолчу про немцев, – сказал Дофин. –
Я сам немец, и вот как у России с немцами вышло, – мне показалось, что самая чуточка национального злорадства мелькнула у него во взоре, хотя он опустил глаза, но под ресницами вдруг вспыхнуло что-то этакое. – Бог с ними, с немцами, с нами то есть… – Он поднял глаза и сказал: – Джузеппе!
Я в сороковом году был на Мадагаскаре. Был. Лично. Сам. Евреев там нет. Что ты мне на это скажешь?
– Ты? На Мадагаскаре? – я и в самом деле сначала не понял. – А зачем? И что там делать евреям?
– Мы туда поехали со Шпеером. Поплыли через Суэц. Весной сорокового. Построить театр, стадион и дом губернатора. По заказу местных властей. То есть французских колониальных властей, я имею в виду. Мы тогда вдруг стали сильно дружить с Францией, ты же знаешь. Вечный враг стал лучшим другом.
– Знаю, – сказал я.
– Там нет никаких евреев. Вообще. Ни одного.
– А почему евреи должны жить на Мадагаскаре? – повторил я; просто даже хотелось развести руками.
– Ты же мне столько раз говорил: туда надо выселить евреев.
– Господи! – тут уж я действительно развел руками. – Это же старая политическая шутка! Немецкая, кстати! «Что делать с евреями? – Пусть бы они уехали. – Куда? – Да хоть бы на Мадагаскар!»
– Да я знаю, – вздохнул он. – Но когда у нас в газетах написали, что по переписи у вас стало на три миллиона евреев меньше, я подумал… Кстати, у нас многие газеты писали, и по радио говорили, про имперский русский антисемитизм и что вы высылаете евреев – одних в Сибирь, других в Африку. На Мадагаскар. Это было перед войной. Эта перепись была в тридцать девятом, да?
– Не помню, – сказал я. – Неважно. Но ведь ты…
Он не дал мне договорить. Он продолжал:
– Я представлял себе, как огромные пассажирские пароходы плывут сначала через Босфор, по левому борту остается Земля обетованная, потом через Суэц, по Красному морю, которое расступилось перед народом Моисея и потопило войско фараона, а потом мимо Эфиопии к Мадагаскару. А когда я не нашел на Мадагаскаре ни одного еврея, я спрашивал, и все удивлялись, вот прямо как ты сейчас: «Откуда здесь евреи?» – тогда я представил себе, что эти пароходы шли на дно, и огромная вереница пароходов, от Африканского Рога до севера Мадагаскара, – лежит на дне. Там холод, мрак, рыбы проплывают мимо…
– Я сейчас разрыдаюсь! – я хлопнул ладонью по столу. – Но ведь теперь-то ты знаешь, что это ложь? Но теперь-то, теперь-то ты понял, что это немецкая коммунистическая клевета? Извини меня, Бога ради… Теперь-то ты знаешь правду?
– Знаю, – сказал он и замолчал.
– Это было самое правильное решение, – сказал я.
Еврейская проблема была, в общем и целом, решена. В России равноправие и свобода. Это серьезная коллизия, на самом деле. Равноправие без свободы – это тюрьма. Это военный лагерь. Свобода без равноправия – это торжество грубой силы.
Как объединить равноправие и свободу? Если один свободен жить так, как ему заблагорассудится – в рамках закона, о, да, в рамках закона, – но закон же не может определить все мельчайшие подробности жизни! – итак, если один свободен входить в комнату в шляпе, то другой свободен сделать ему замечание. Если он вежливый человек, то просто замечание. А если не очень вежливый, то может выпроводить:
«Выбирайте, сударь – или вы снимаете шляпу, или выйдите прочь, да поживее!» А там и вытолкать вон довольно грубо.
Если тут вмешаются еще и религиозные убеждения – страшно подумать.
Мне кажется, Россия нашла довольно простое решение еврейского вопроса.
Кто хочет жить как все – пусть и будет как все.
Пусть меняет имя, отчество и фамилию. Пусть обрусевает.
В вероисповедание мы не вмешиваемся. Им не обязательно состоять православными христианами, да вообще хоть какими-то христианами. Пусть у них будет синагога. Одна, не больше. Одна в большом городе, имеется в виду. Одна в Питере. И в Москве одна, и в Ростове. Кажется, хватит. Для самого упорного Михаила Петровича (бывшего Моисея Пинхасовича) – который хочет помолиться своему Богу – простите, своей ветхой версии Единого Бога. Бог в помощь. Я на него посмотрю.
Кстати, большинство обрусевших евреев стали атеистами.
Это понятно. Среди евреев много образованных людей. Может быть, даже слишком много.
Почему слишком? Потому что это раздражало русских, украинцев и мусульманские народы. Потому что к середине тридцатых годов – каждый второй профессор, директор завода, редактор газеты, известный врач, журналист, дирижер, режиссер – оказался евреем.
Конечно, они не нарочно… Или наоборот, нарочно! Вечно угнетенный народ, умный народ, живучий народ – которому русская революция и русская демократия дала свободу. Вот эти обрусевшие евреи – это и есть те самые якобы исчезнувшие три миллиона евреев. Они никуда не исчезли. Их никто не уничтожал. Они просто перестали быть евреями и стали русскими.
А кто не хочет становиться русским – в Сибири много места. Нет, Боже упаси, не о каторге речь. В Сибири, на берегах Амура, организовано поселение – как бы малая республика внутри России – без прав суверенитета, разумеется, без прав выступать на международной сцене, – но вот такая малая еврейская республика. Сверхновый Израиль, если угодно. Вот там живут евреи, которые пожелали сохранить свое еврейство, не переезжая при этом в Палестину. Видите, какое уважение к человеческим правам, какая свобода совести. То есть Россия сумела решить еврейский вопрос… Потому что самое глупое, что можно было бы сделать, – это закрыть глаза и шуточки шутить – дескать, евреи в России есть, а вопроса нет.
Есть вопрос. Был вопрос.
Ты спросишь, почему это только для евреев?
А для украинцев, татар, башкир, якутов? Тут ничего сложного. У татар, башкир, якутов – есть свои исторические территории. У евреев России и Европы такой территории нет. Поэтому выход был один – для евреев – не для всех, но для тех только, которые охвачены национальным вдохновением, – для этих евреев создать еврейскую национальную территорию. Новую. Далеко, в Сибири, почти у Японского моря. Потому что в Европейской России свободных мест нет.
Допустим, правительство устроило бы еврейскую республику на границе России и Польши, где евреев больше всего, где они веками жили. Что бы получилось в итоге? В итоге протестовали бы украинцы, белорусы, поляки, литовцы. Потому что поляки, украинцы, белорусы, литовцы тоже на этих землях веками жили! И у них там веками было национальное государство. Речь Посполитая. Великое Княжество Литовское. Могла бы возникнуть самая настоящая война народов. Национальная война. Это хуже, чем гражданская война! В гражданской войне можно перейти на другую сторону – но еврей никогда не станет поляком, а поляк евреем. И если отрезать от Польши хоть самый малый лоскут земли и сказать – вот здесь будет еврейская страна, – то такая война будет длиться веками. Вот как сейчас в Палестине евреи-переселенцы воюют с арабами, и конца этой войне не будет, милый мой Дофин! Не будет никогда, никогда. Я даже не могу сказать «дай Бог мне ошибиться».
Разве мы могли устроить в сердце Европы – ведь если описать вокруг Европы круг, то центром его будет как раз точка между Литвой и Польшей, где-то на западных границах России – примерно, приблизительно, ведь и сама окружность, описанная вокруг Европы, она ведь тоже приблизительна, ты понимаешь меня?
– Я понимаю тебя, – Дофин смотрел на меня без выражения.
Так всегда бывало, когда он был недоволен, но не в силах был объяснить, что именно ему не нравится, – такое отстраненное лицо у него было тогда, в те наши венские деньки…
– Понимаю, понимаю, – сказал он, на этот раз недовольный тем, что я замолчал.
А я замолчал, потому что вспомнил тринадцатый год, когда еще ничего этого не было. Не было войны, революции и еще одной войны.
Продлись, продлись, очарованье.
Как же-с… Дожидайся.
– Да, – сказал я. – Эта точка, центр, сердце Европы! Нельзя же было там своими руками разводить пламя национальной войны! Но Россия, слава Создателю и хвала русским казакам-конкистадорам, – Россия велика. В ней есть обширные безлюдные земли. И демократическое правительство нашло такие земли – хорошие земли, где большие реки, где поля и леса, где все на свете есть, – и отдало эти земли евреям. Щедрость небывалая! Где, когда, какое правительство дарит маленькой народности здоровенный лоскут земли – нате, живите, стройте свою жизнь сами, по своим традициям… И мы еще в чем-то виноваты. И нас еще заставляют каяться.
– Джузеппе, – он меня перебил, нарочито зевнув. – Ты как будто лекцию читаешь о политике правительства в еврейском вопросе. Прости, как у нас лекторы из Центрального комитета Коммунистической партии Германии.
– Я хочу, чтобы ты меня понял.
– Я понял, – сказал он. – Но вообще это ужасно, когда умный человек начинает оправдывать свое правительство.
– Но я же не о правительстве! О серьезных вещах. Евреи – народ трагической судьбы. Нельзя, чтобы трагедия евреев стала трагедией всего мира. Надо было решать вопрос.
– Значит, ассимиляция и депортация – это вклад в решение еврейского вопроса? Международный суд решил иначе… Но ладно! Допустим. Все-таки лучше, чем погромы. Хорошо. А сто пятьдесят тысяч…
– Сто пятьдесят шесть тысяч, – поправил я. – Восемьсот шесть.
* * *
Эту цифру в России и в Европе знал каждый. Сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот шесть евреев было убито в западных краях России в последний год войны. Когда русские отступили, а немцы еще не пришли. Теперь в тех местах почти в каждом городе стоял каменный обелиск с цифрами 156 806. А внизу – цифра поменьше: сколько евреев погибло именно здесь. Международная комиссия проследила, чтоб цифры совпали.
* * *
– Вот! – сказал Дофин.
– Но это не мы, – сказал я. – Это местное население. Они всегда были антисемитами. С семнадцатого века. И ты это знаешь.
– Знаю, – сказал он. – Но все равно это были ваши граждане.
– Вот я и говорю, – сказал я, кивая и пытаясь улыбнуться. – Трагедия евреев чуть было не стала нашей с тобой личной драмой. Я не хочу с тобой ссориться. Тем более из-за этого. Тем более что я с тобой согласен, и с приговором Международного суда согласен, со всем я давно уже согласен…
– Да, – вдруг встряхнулся Дофин.
Он любил перечить, я это прекрасно помню. Бывало, мы с ним слегка спорили, и я в конце концов говорил «да». «Да, я был неправ. Да, ты меня убедил». Иногда я чуточку лукавил, потому что мне надоедало спорить. А иногда ему действительно удавалось меня убедить. Но стоило мне сказать «да», как он тут же говорил «нет!». Тут же менял свою точку зрения. Или заявлял, что я его неправильно понял, и поэтому мое «да» не имеет никакой цены.
Вот и сейчас он вдруг сказал:
– Но в чем-то ты прав, наверное. Так получилось, что еврейский вопрос сросся с вопросом революционным. Помнишь, сколько евреев было в кружке Клопфера?
– Начиная с Леона, – сказал я.
– Да, – сказал он.
– Думать надо не о евреях вообще, а об отдельных людях, – сказал я. – Помнишь, как Леон сказал: в основе всех мировых трагедий лежит трагедия человека. Не человека вообще, а данного конкретного человека.
– Помню, – сказал Дофин.
– Это было в тот день, когда вы с ним познакомились, – сказал я.
Мы помолчали.
– Ты любил его? – спросил я.
Дофин вдруг засмеялся. Потом сказал:
– Ты, наверное, думаешь, что я сейчас вытащу из кармана фотографию Леона и оболью его лицо слезами? У меня нет его фотографии. Я забыл Леона. Мне он безразличен. Я не политик и тем более не педераст, как ты… – он выдержал издевательскую паузу и добавил: – …думаешь. Я не педераст, как ты, конечно же, до сих пор думаешь!
– Я так не думаю, Господь с тобой.
– Думаешь, думаешь. Хотя мне без разницы. Думай обо мне что хочешь.
– Я так не думаю, – я прикоснулся к рукаву его пиджака.
Он отодвинул руку и вздохнул:
– Хотя Леон мне нравился. Он волновал меня. Он волновал меня политически, представь себе.
А не так, как ты тогда думал. Зря ты это сделал.
У меня, дорогой мой престарелый друг Джузеппе, были замечательные женщины. Потом. Тогда, в январе тринадцатого, у меня никого не было. Ну и что? Мне было двадцать два года, всего-то!
У меня до того были женщины, конечно! Я потерял невинность, когда уж не помню сколько лет мне было. Но меньше восемнадцати. А в двадцать два – как раз когда мы с тобой встретились – небольшой перерыв. Буквально на несколько месяцев. А потом снова были. Всякие-разные. От и до. От горничных в номерах – они не были проститутками, клянусь тебе, я ни разу в жизни не нанимал проституток! Эти служанки отдавались мне просто так, по любви. Или ради шалости, но все равно не за деньги… Да, мой друг. От горничных в номерах до одной весьма известной актрисы. Меня даже дарила своей любовью – тебе первому признаюсь! – старушка Фанни цу Ревентлов. Только тсс! Никому! Всего два вечера, правда. Но воспоминаний хватит на всю жизнь!
– А кто она такая? – спросил я.
– Ах, что за женщина! Графиня. Царица Швабинга, чудный, ах, какой чудный, студенческий, веселый район великого города Мюнхена… А какие люди! Поэты, художники, артисты! Какие разговоры!
– Какие люди, какие разговоры, – сказал я. – Это Чехов.
– Что?
– Ты цитируешь Чехова, – сказал я.
– Я не нарочно! – засмеялся он. – Так получилось. Поэтическое настроение. Да откуда тебе знать, что там делалось, в Швабинге, ты ведь праведный старец…
– Праведный старец, в посте и молитве свой век коротая… – сказал я. – А это Лермонтов.
– Кто?
– Русский поэт. Тот самый, которого я тебе читал в первый вечер. Грузия цвела с тех пор в тени своих садов, за гранью дружеских штыков не опасаяся врагов… Помнишь? Когда ты спрашивал меня, что такое Грузия и что она делает в России.
– Да, помню, – сказал он не совсем уверенно и поэтому громко. – Конечно, помню! Вот. Старушка Фанни. Это было в июне четырнадцатого, до войны оставалось чуть-чуть. Впрочем, почему старушка? Ну да, мне было двадцать пять, а ей – сорок три. Но как это было прекрасно.
Он усмехнулся, у него даже глаза заблестели.
Потом вдруг вздохнул.
– Правда, я их не любил. Никого. Ни старушку Фанни, ни актрису, ни всяких девчонок. Влюблялся, но не любил. Даже свою двоюродную племянницу – я ее почти любил, но только почти. Представь себе, я спал со своей двоюродной племянницей. На грани инцеста. А что говорит Восточная православная церковь насчет двоюродных племянниц? Католики разрешают, но папизм погряз в разврате, я в душе никогда не был католиком, я вообще атеист и отчасти язычник – не пугайся, святой отец, это фигура речи, я просто люблю народные гадания, пляски и факелы в ночной темноте, – так что, как относится Восточная христианская церковь к двоюродным племянницам? Дозволяется или нет? Что ты молчишь?
– Дозволяется, – сказал я.
Я видел, что он как-то слишком разгорячен. Что он уводит разговор от какой-то волнующей темы.
– Жаль, – сказал Дофин. – Как жаль.
– Почему? – спросил я. – Почему тебе жаль?
– Я хотел оказаться грешником. Хотя бы с точки зрения Восточной церкви. Опять не вышло!
Он засмеялся, а потом полез во внутренний карман и достал записную книжку.
– У меня нет фотографии Леона, – сказал он. – А портретик есть.
Он вытащил из книжки квадратик твердой бумаги, завернутый в прозрачную чертежную кальку. Развернул. Это был рисунок тушью. Скорее даже шарж. Кудлатая голова, пенсне на кривом еврейском носу, презрительно сощуренные глаза, вздернутый подбородок.
Он положил этот крохотный рисунок на салфетку и уставился на него, подперев щеки кулаками. Потом повернул его ко мне.
– Сам рисовал? – спросил я.
Он кивнул.
– Зря ты это сделал, святой отец, – вздохнул он. – Леон мог приехать в Россию и устроить там революцию. Возглавил бы революционное правительство. Придумал бы для правительства какое-нибудь новое название. Например, Народный совет!
– Красиво, – сказал я.
– Ага. А Леон – председатель Народного совета. Красивее, чем премьер-министр.
– Это ты сейчас придумал, или это Леон тебе говорил?
– Я, – сказал Дофин. – Сейчас придумал.
А может быть, Леон. Я уже не помню. Да и какая разница… Только вообрази – Леон во главе России! Просто голова кружится. Другая страна, другая жизнь, другое всё. Может, и нам с тобою что-нибудь бы перепало. Ты был его соратником. Он бы назначил тебя министром. То есть каким-нибудь комиссаром Народного совета. А меня – ректором Архитектурной академии. Все-таки старый товарищ. Среди русских ведь принято помогать старым товарищам?
– Увы, не очень, – сказал я.
– Жаль, жаль, – сказал Дофин. – Ты прямо помечтать не даешь.
– Леон бы вряд ли помог. Это среди евреев принято помогать своим, – сказал я. – За это их все так любят и обожают. А мы с тобой не евреи. А Леон был хоть и еврей, но революционер. Все эти еврейские штучки его не интересовали.
– Тьфу на тебя! – сказал Дофин. Он в самом деле был слишком чувствителен к еврейской теме.
– Извини, – сказал я. – Сорвалось.
– Ладно, ладно, – сказал Дофин. – Если бы Леон был жив, всё было бы по-другому. И войны бы не было.
– Ну, неужели? – я пожал плечами и попробовал усмехнуться. – Странные у тебя мечты. Мечты о прошлом. Глупо. Извини, но глупо.
Мне было неприятно слушать его фантазии.
Мне не понравились слова «зря ты это сделал».
* * *
Зачем он так?
Ведь я Леона не убивал и Рамона не нанимал, не подговаривал. Я даже не подталкивал события. Самое большее, за что я мог себя упрекнуть, – что я не вмешался в ход событий. Не остановил Рамона. Но как я его мог остановить? Донести на него в полицию? Я был таким же эмигрантом, и уж во всяком случае не доносчиком – я ведь русский политический эмигрант, марксист, социал-демократ, честный человек.
Ну, а допустим – я обратился в полицию. Послушали бы меня? Приняли бы мой донос к сведению? Бросились бы ловить Рамона? Нет, конечно!
Честное слово, Дофин, говорил я в уме, мне было действительно не по себе. Дофин, я много чего повидал, я был в тюрьме, был в ссылке, голодал, замерзал, я бежал из ссылки, я зимой проваливался под лед, в меня стреляли! Да, мне вслед стреляли, я знаю, что такое «страшно»! Но тут мне было еще страшнее, Дофин.
Я и ушел. А что мне было делать?
Привязать его к кровати ремнями и простынями? Заткнуть ему рот и запереть дверь? Да и как это сделать, у меня не было для этого физических сил, у меня с юности постоянно ноет правая рука, я с трудом поднимаю чайник кипятку, мне больно застегивать пуговицы на рубахе. Но допустим, я силач и смельчак. Привязать к кровати ремнями – и что дальше? Чтоб Рамон умер от голода и жажды, в моче и дерьме? Я вдруг представил себе эту отвратительную картину, и у меня забилось сердце. За что его убивать? За что подвергать таким мучениям? За то, что он педераст и ревнует Леона к австрийскому мальчику-художнику? Причем попусту ревнует, потому что Леон и австрийский мальчик-художник вовсе не по этой части. Что они все, с ума посходили! Или дать ему денег, чтоб он уехал к чертям, далеко, в Аргентину? Но у меня не было столько денег. У меня тогда почти совсем не было денег…
У меня вообще ничего не было, кроме Дофина, с которым у меня ничего не было.
В чем же я виноват?
* * *
– Дофин, – сказал я. – Ты уже два раза сказал «зря ты это сделал». О чем ты? Что я сделал?
– Убил Леона.
– Что за бред?
– Нанял убийцу.
– Нет.
– Убедил его убить.
– Нет.
– Спровоцировал.
– Дофин, это уже слишком тонкая материя, – я засмеялся.
Наверное, мой смех его оскорбил.
– Знаешь, друг мой Джузеппе, – сказал он. – Дело об убийстве русского эмигранта Леона Троцкого еще не закрыто. Может быть, ты хочешь дать показания?
– Зови полицию, – я откинулся на стуле.
– Я пошутил, – сказал Дофин. – Я тебя не выдам, не бойся.
– Погоди. Меня не надо «не выдавать». Я не боюсь.
– Потому что ты епископ? И к тому же иностранец?
– Нет, Дофин, – сказал я. – Кстати, я не епископ, а митрополит. Впрочем, любой митрополит по определению епископ. Но неважно. Потому что я на самом деле ни в чем не виноват. Я уже давал показания, тридцать шесть лет тому назад. Да, а почему не закрыто дело?
– Неизвестно, кто убийца. Убитый есть, орудие убийства тоже есть – кулинарный топорик.
А убийцы нет.
– Убийца – Рамон Фернандес, ты что!
– Да. Все так считают. Все давали такие показания. Друзья и соседи Леона, друзья и соседи Рамона. И ты так считаешь, и я тоже. Но вот еще бы Рамона спросить, для полноты картины. Если бы его поймали. Или хотя бы, – тут Дофин подвинул кофейную чашку к самому краю столика и зачем-то стал пальцем, медленно, миллиметр за миллиметром, сдвигать ее кнаружи. Будто ища последнюю точку равновесия. – Или хотя бы…
– Упадет сейчас, – сказал я. – И ты заляпаешь брюки.
– Или хотя бы нашли его труп, – сказал Дофин. – Убил Леона и повесился. Или утопился. Или убежал, скрылся, а через тридцать лет объявился в Аргентине.
– Рамон Фернандес! – засмеялся я. – С такой типичной испанской физиономией и вдобавок с таким именем очень удобно исчезать. Дофин! Это же все равно что рыжий Ганс Мюллер! Может быть, он уже сто раз объявился, а ты не заметил. В той же Аргентине. Рамон Фернандес открыл лавочку. Рамон Фернандес стал кандидатом богословия. Рамон Фернандес арестован за попытку ограбления банка. Рамон Фернандес женился на Марии Санчес. Рамон Фернандес скончался наконец-то. Оплаканный вдовой, детьми и внуками.
– Ты читаешь аргентинские газеты? – сощурился Дофин.
– Я? С чего ты взял?
– Откуда у тебя все эти сведения? Ты читаешь газеты и ищешь Рамона?
Господи, подумал я, какой ужасный приступ наивности.
* * *
Почти как тот случай со швейцарской газетой, в которую был завернут кулинарный топорик. Бедный простодушный Дофин, читатель рассказов о Шерлоке Холмсе, решил, что это знак, что это улика, что это указывает на убийцу. Хотя «Журналь де Женев» прекрасно можно было купить в Вене. А другие наивные люди вспомнили, что «женевским жителем» называли Ленина.
* * *
– Нет, что ты, что ты! – сказал я. – Это я просто так придумал. На ходу. Импровизация, понимаешь? Шутка своего рода. Я пошутил, я хотел доказать тебе, на пальцах объяснить, что искать Рамона Фернандеса – пустое дело. На свете тысячи, а может быть, если считать Южную Америку, десятки тысяч Рамонов Фернандесов, и половина из них – похожи на нашего Рамона. Черноволосые красавцы. Уверен, что у половины из этой половины – порочные половые наклонности. А у половины из вот этой половины – какое-то темное пятно в биографии. Клянусь.
– Богом? – спросил Дофин; у него рассеянно блуждали глаза.
– Я не грешу против третьей заповеди, – сказал я. – И не поминаю всуе имя Господа Бога моего. Просто клянусь и все. Да, кстати. Я хорошо говорю по-немецки? Ты меня хорошо понимаешь?
– Хорошо, – кивнул он.
– Вот и хорошо, – сказал я. – А то я вдруг подумал: я говорю, говорю, говорю, рассуждаю перед тобою, а ты меня не понимаешь. Потому что я плохо говорю по-немецки, разучился.
– Ты неплохо говоришь по-немецки, – сказал Дофин. – Я тебя прекрасно понимаю. Да! Так что же ты мне хочешь объяснить? Ты шутил или ты хотел мне что-то доказать? Что я должен понять?
– Что среди людей по имени Рамон Фернандес наверняка найдутся точные копии нашего, как бы это сказать, беспокойного приятеля. И внешне, и по биографии. По всему, по всем признакам.
Дофин вздохнул.
– Джузеппе, – сказал он. – Из тебя вышел бы неплохой политик. Ты ловко умеешь уводить разговор в сторону. Даже я заслушался. Но ты не министр, а я не депутат парламента. Зачем ты виляешь и шутишь? Зачем говоришь о порочных красивых испанцах? Джузеппе, у меня вопрос простой и ясный – где Рамон?
Я молчал.
– И вообще, был ли Рамон?
Я молчал.
Рамон, конечно, был. Но Дофин переспросил меня еще и еще раз.
– Значит, ты что-то знаешь и лжешь, – сказал он. – Как это ужасно. Скрывать такие вещи. Мне неприятно с тобой говорить… – он запнулся и тут же поправился: – …говорить об этом, об этом происшествии, так сказать. Тридцать семь лет прошло. Я все время помнил тебя как хорошего человека.
Я не хочу, чтобы оказалось наоборот. Скажи мне правду. Может быть, Рамона вообще не было?
– Рамон был, – сказал я. – Что ты такое говоришь, Бог с тобою! Как это так – Рамона не было? Был, еще как! Ты что?
– Докажи, – почему-то вяло сказал Дофин.
– Позволь, позволь! Разве ты сам его не помнишь?
– Нет, – так же вяло ответил он. – Если честно, то нет. Не помню.
– Как это нет? – у меня кровь застучала в висках. – Он же много раз был в кружке Клопфера. Сидел в углу, на диване. В углу дивана. Рядом с этажеркой. Помнишь?
– Это ты мне говорил, что он сидел на диване, около этажерки.
– Что я говорил?
– Ты мне говорил, что там был некий Рамон Фернандес. Что он сидел в углу и слушал. И что он, как тебе казалось, с большой симпатией на меня смотрел. Якобы я ему чем-то понравился. Что-то я там остроумно сказал, и ему понравилось. Он сказал «Браво, браво!» и захлопал в ладоши. Якобы сказал и захлопал.
– Почему якобы?
– Хорошо, не якобы. Я тебе верю, что он на самом деле захлопал в ладоши. Но я этого не помню, вот беда. Хоть убей не помню, как он хлопал в ладоши и говорил «Браво!». Зато я помню, как ты это мне рассказывал. Несколько раз. Уже после того, как кружок кончался. Мы уже были на улице, шли домой. И ты говорил: «Там еще был такой испанец, Рамон Фернандес, ты его заметил? Ты ему понравился! Когда ты выступал, он хлопал в ладоши и говорил “Браво!”». Вот эти твои слова я прекрасно помню. Готов подтвердить под присягой.
– При чем тут присяга?
– Да ни при чем, конечно…
– Но ты же мне кивал, ты говорил «да, да»! Говорил? Кивал?
– Кивал, – усмехнулся Дофин. – А чего бы мне не кивать? Народу много, в комнате полутемно, я тебе доверяю. Вот и кивал и говорил «да, да». Может, даже пытался его себе вообразить. Как будто бы вспомнить. Рамон Фернандес. Испанец. Значит, небольшого роста, смуглый, чернявый… немножко курчавый. С порочным взглядом исподлобья. Большие черные, как маслины, глаза.
– Значит, ты его помнишь?! – чуть не крикнул я.
– Нет! – Дофин хлопнул ладонью по столу. – Я же говорю: пытался его вообразить. С твоих слов, Джузеппе, с твоих слов! И вот сейчас помню того человека, которого тогда пытался вообразить. И описываю его банальными словечками, как в бульварных романах! «Порочный взгляд исподлобья, черные, как маслины, глаза», – если бы я был детективом и услышал такое – сразу бы отмел такого свидетеля. Потому что он врет! Потому что изъясняется фразами из пошлых романов.
– Значит, ты врешь? – я решил слегка сбить его с толку. – А зачем?
– А? – вздрогнул он, а потом засмеялся: – Нет, дорогой мой старик, это ты врешь… Грех тебе. Впрочем, мы все врем. На каждом шагу.
Честно говоря, я сам на секунду засомневался. Давно дело было.
Нет, нет, нет. Это уж совсем какая-то мистика.
Все было в точности, как я рассказываю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































