Текст книги "Архитектор и монах"
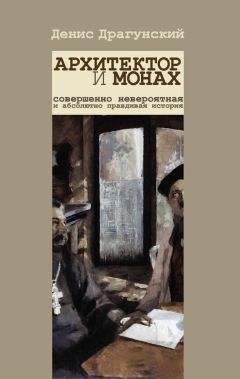
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Поэтому я написал, что я родился в небогатой семье. Что отец мой с трудом выбился в люди, но никакой радости от этого не приобрел. Что матушка моя очень страдала от бедности и домашних трудов, а потом от тяжкой болезни. Что жизнь – штука серая и жесткая, как дешевое солдатское сукно, и ах как жаль, что именно в нежные годы юности она повернулась ко мне своею колючей и пропотевшей изнанкой. Что вот теперь моя жизнь наладилась, у меня есть любимая работа, которая дает мне достаточно средств, и я могу быть весел – но я грустен. Грустен я потому, что не сейчас мне это все нужно, в мои почти пятьдесят (да, Джузеппе, в тридцать восьмом мне было без году полсотни!), – а тогда было нужно! Тогда, когда я был молод, голоден и обидчив и тяжело переживал свою бедность и свои неудачи.
Но я написал ей, что хорошие люди были и в моей жизни. Что некий заезжий русский философ, с которым я случайно встретился в кафе «Версаль» ранней весной тринадцатого года – когда вам, милая Ева, только-только годик исполнился, – познакомил меня с неким социалистом Клопфером. А этот Клопфер дал мне рекомендательное письмо ректору Мюнхенской архитектурной школы. И, наверное, этого Клопфера так уважал и ценил упомянутый ректор, что принял меня в свое заведение почти что, можно сказать, вне конкурса. Написал, что я учился архитектуре, с перерывом на войну, пять лет, в двадцать втором году окончил полный курс, а про войну, ранение и как я попал в газовую атаку – вспоминать не хочу. А теперь строю виллы по частным заказам.
Что я – еще раз – сердечно благодарен ей за то душевное доверие, которое оказала она мне своими письмами, но…
«Но, дорогая Ева, Вы всё понимаете сами. Я старше Вас на двадцать три года. Не будем шалить чувствами. Прощайте. Всегда Ваш, А.Г.»
* * *
Два месяца я не ходил на почтамт. Если спросить, что я эти два месяца делал, могу ответить точно – «я не ходил на почтамт». Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы не пойти на почтамт. Говорят, то же самое переживают курильщики, которые вдруг решили бросить курить. Всё их время, все силы, все мысли – всё сосредоточено на том, чтобы не курить. Это так, Джузеппе? Скажи. Ты ведь бросал курить, когда стал монахом?
– Так, – сказал он. – Говорят, не для всех так. Говорят, есть отдельные счастливцы, которые бросают легко. Вчера курил, сегодня – нет, и не хочется.
– А ты мучился? – спросил я.
– Ужасно, – он засмеялся. – Это было мое самое сильное испытание перед пострижением, правду говорю. Тем более что я курил трубку. Трубка – это не сигарета: чиркнул, закурил, затянулся, выбросил. Трубка – это особый вкус, особое ощущение в руке и на зубах. У меня были четыре трубки.
– Да? А зачем столько? – спросил я.
– Вообще-то нужно не меньше двух. Потому что, когда выкуришь трубку, она должна остыть и просохнуть. Часа два, а лучше три. Если набьешь горячую – совсем невкусно. А трубку еще надо чистить. Ножичками, ершиками или фитилями. Чистить трубку – аккуратно отскребать нагар, вычищать мундштук – это особое наслаждение. От этого трудно отвыкнуть. Мне кажется, бросать курить сигары или сигареты легче, чем трубки. В сигаретах нет ритуала. Нет теплого полированного дерева. Трубка – как чудесная игрушка. Почти живая. У меня были четыре разные трубки. Две прямые: одна длинная классическая, округлая, фасона «бильярд», другая – граненая, покороче. И две кривые: одна опять же классическая, «гнутый бильярд», другая совсем кривая, такая, что ли, шкиперская. Очень хорошие, английские трубки.
– А я совсем не запомнил, – сказал я. – Трубка и трубка. Я даже не заметил, что их было четыре. Хотя нет, припоминаю, кажется, что они были разные. То ли большая и маленькая, то ли прямая и кривая… Зато что я запомнил, так это жуткий дым.
– Ты же говорил, что такой чудесный медовый запах! – возмутился Джузеппе. – Ты лицемерил, дружочек! Ты хотел мне угодить.
– Может быть, – сказал я. – Ты позвал меня к себе, оставил ночевать, накормил. Надо было сказать тебе что-то приятное. Ну, или потерпеть.
А может быть, мне на самом деле сначала показалось душисто и ароматно. А потом заболела голова. Тяжелый сладкий дым. Хорошо, что ты бросил курить.
– Что ж не сказал сразу? – Джузеппе, казалось, разобиделся всерьез.
– Простите, ваше преосвященство, – сказал я. – Больше не буду, ибо лицемерие есть грех.
А куда ты девал трубки, когда бросил курить?
– Когда я уходил, две трубки у меня оставались дома. Пропали, наверное. А две, которые были со мной, в кармане, я отдал отцу эконому, чтоб он сам распорядился. Чтобы продал, а деньги внес в кассу монастыря. Это были очень хорошие старые английские трубки. Их можно было хорошо продать в антикварную лавку. Кажется, он так и сделал. Но я не спрашивал, мне было как-то уже не до того. Но я очень, очень мучился. Мне снилось, что я набиваю трубку, раскуриваю трубку, вычищаю трубку. Держу трубку в руке, сжимаю в ладони ее теплое деревянное тельце. Я просыпался, и потом было трудно заснуть.
Джузеппе задумался, туманно глядя сквозь меня.
– Понятно, – сказал я.
* * *
Да, конечно, понятно. Две вещи совпали в жизни бедного Джузеппе. Он прятался от полиции – и одновременно переживал моральный перелом. Перелом номер два: возвращение в лоно Церкви после длинного перерыва на социализм и терроризм. Но, несмотря на это, он все равно мучился, бросая курить.
А я мучился, проходя мимо почтамта. Изо всех сил сдерживался, чтоб не взяться за сияющую латунную ручку, не войти в зал и не подбежать к окошечку «до востребования».
Но, как курильщик, которому надоела отчаянная борьба с собой, который проиграл в этой борьбе, который убедил себя, что бросит курить как-нибудь в следующий раз, – в один прекрасный день – через два месяца после того, как я в письме распрощался с Евой, – я все же пришел на почтамт.
Письма не было.
Почему-то я был уверен, что она мне напишет сразу же. Ну, или пообижается недельку или две. Но я точно знал, что письмо меня ждет. А еще мне иногда хотелось, чтоб ее письмо вернулось к ней назад: не век же его хранят в отделе «до востребования» – наверное, через какое-то время возвращают. Была у меня такая мстительная мысль – что в один прекрасный день она приходит на мюнхенский почтамт, спрашивает, нет ли ей письма, – а почтовая барышня кидает ей конверт. Она хватает его – и, о Боже! Это ее письмо со штемпелем «не востребовано»!
Наверное, я хотел отомстить ей за господина Гофмана, за то, что она раздевалась при нем, фантазируя, что вот, вот, вот сейчас он обернется и набросится на нее; и за то, что она ему отдалась в конце концов. И ей было приятно. И она едва не застрелилась, когда он ее бросил. И чуть не отравилась, когда его расстреляли. Экая чувствительная барышня. Но отомстить я ей хотел, конечно же, не за это. Я, конечно, сумасшедший фантазер, но уж не настолько! Отомстить за то, что она обо всем этом так подробно мне рассказывала. Как бы дразня и унижая меня. А может, наоборот? Может, она так старалась меня завлечь? Или пуще того – такая у нее была эротика. Половая жизнь по переписке. Еще пока не додумались. Ничего, скоро додумаются. «Прелестница Гретти дарит вам все радости любви в своих интимно-откровенных письмах». Наложенным платежом. Тьфу. В общем, мне все это было противно вспоминать.
Некоторое время – противно. А потом я снова перечитывал ее письма. «Ну вот, – говорил я сам себе, – ты уже ей отомстил. Ты отказался с нею общаться. Может, она сейчас сидит и плачет. А может, уже покончила с собой. У нее получилось. Наконец. На третий раз». Вернее, на четвертый. Потому что она не только стрелялась и травилась, она еще вешалась на бумажной веревке. Когда сестра сказала ей, что она полная дура согласно психометрическим тестам.
Я представил себе этот утлый серый шпагатик, которым перевязывали бумажные пакеты. Наверное, ее экономная мама сворачивала эти веревочки в круглые моточки и держала в старой жестянке из-под печенья, вместе с пробками от бутылок и наждачной бумагой для чистки ножей. Так моя мама делала. Я представил себе, как двенадцатилетняя Ева тайком – конечно, тайком, ведь мама всегда тут, за плечом, над головой, всегда окрик, шлепок или просьба-приказ медовым голосом, – как Ева тайком вытаскивает эти мотки шпагата, разматывает их, связывает и свивает в одну, достаточно длинную и прочную, как ей кажется, веревку…
И мне становилось ее жалко, настолько жалко, что хотелось прямо сейчас поехать в Мюнхен. Приехать с утра пораньше, ночным поездом, снять номер в гостинице, побриться и принять душ, вытащить из чемодана свежую рубашку, одеться, брызнуться одеколоном, почистить ботинки у чистильщика в холле, заломить мягкую шляпу. Ту новую шляпу, за которую меня возненавидел сосед, и донес на меня, и меня посадили на полгода, и потом я пришел в квартирное бюро и познакомился с ней, – то есть ту самую шляпу, из-за которой я, в конечном-то итоге, познакомился с Евой. И опять прийти к ней в квартирное бюро: здравствуйте, товарищ Браун!
Прийти, и что? Да ничего. Просто улыбнуться, пожать руку. Сказать что-то ободряющее. Нет, погоди, говорил я сам себе. А потом что? Когда она улыбнется, встанет со стула и шагнет навстречу? И вот тут у меня в мозгу что-то выключалось. Я терял способность фантазировать, представлять себе. Я совершенно не представлял себе наш разговор. Конечно, я мог ей наврать, что приехал в Мюнхен по делу, встретиться с заказчиком или на открытие архитектурной выставки. Ну и что? Все равно ясно, что я приехал к ней.
О чем говорить? Тут уж надо не «о чем», тут уж надо «что-то» говорить, раз уж примчался за четыреста километров. Но мне совершенно нечего было ей сказать и совершенно не хотелось вести ее в кафе, а оттуда в гостиницу.
Кстати, с гостиницей могла быть заминка. В Германии теперь, то есть после тридцать третьего года, после тельмановских законов о безопасности, после того, дорогой Джузеппе, как «немецкие волки» устроили пожар в Рейхстаге…
– Припоминаю, – сказал он. – Темное дело.
– Неважно, – сказал я. – Хотя конечно. Это был повод, все так считали. Раньше никто не слышал про таких «волков». Их застрелили при задержании. Какие-то никому не известные Рем и Штрассер. Ну да, ну разумеется, они пытались отстреливаться, ранили трех полицейских, в результате Рем получил пулю в шею, а Штрассер выпал из окна, пытаясь скрыться. Все газеты долбили: «Рем и Штрассер, Рем и Штрасер», и по радио «ремиштрассер, рмштрсср»… Как Пат и Паташон! Ужас. Повод, чтобы сразу резко закрутить гайки. Но я не о том, Джузеппе. Я о том, что вся эта жутко высокая политика отозвалась на жизни простых немецких бонвиванов. На любителях небольших дневных приключений: отпроситься на пару часов со службы и убежать в дешевую гостиницу. Вдруг все изменилось.
Теперь в гостинице надо было регистрироваться. Почему? «Безопасность!» Какое внушительное слово! Особенно если его произносит портье, строго вращая глазами. О, с каким удовольствием портье смотрит на твое удостоверение. С каким наслаждением вписывает твое имя и номер удостоверения в журнал.
Фото! С каким упоением он сличал твое лицо с фотографией, а иногда вежливо просил снять шляпу или откинуть волосы со лба…
Гениальность Тельмана в том и состояла. Он дал власть всякой швали. И вся эта шваль его поддержала и поддерживает.
О, да, в Германии всегда было чинопочитание и мундиропоклонство. Один капитан из Кёпеника чего стоит! Ты, конечно, слышал, Джузеппе. Или видел комический фильм. Не видел? Это был реальный случай. Мелкий воришка купил по частям – тут брюки, там френч – форму пехотного капитана. Надел ее, вышел на улицу – и всё! Он в мундире, он господин судьбы и хозяин момента! На улице все кланяются. Младшие по званию отдают честь. Он приказал встречным отпускным солдатам идти за собой, и они подчинились! Они сели на поезд, приехали в соседний городок, зашли в ратушу, он арестовал бургомистра и выпотрошил сейф. И все кругом кудахтали: «Да, господин капитан! Так точно, господин капитан!» Потом кайзер его лично помиловал. Для кайзера это был пример немецкого порядка. Вот что значит дисциплина!
Да. При кайзере никто не смел проверять документы у офицера или вообще у прилично одетого господина. Прилично одетый господин всюду проходил без спросу, а в гостинице, заказывая номер, просто называл свое имя. При Гинденбурге проверить документы мог военный патруль или полиция. А при Тельмане любой гостиничный швейцар, любой дворник, любой привратник любой конторы – в Германии сразу расплодились привратники! Миллион привратников! – любой привратник мог спросить удостоверение личности у кого угодно. Законы о безопасности! Появились «ответственные за безопасность». В ресторане это был метрдотель, в многоквартирном доме – старший водопроводчик.
Всякая шваль принялась вдохновенно блюсти безопасность. Высматривать и доносить. Не пускать, задерживать, выспрашивать: «Кто вам эта женщина?», «Откуда вы приехали? С какой целью». А приличный господин, который раньше чувствовал себя хозяином – потому что у него был хороший костюм, дорогая сигара, деньги в бумажнике, – он сам по себе стал подозрителен в государстве рабочего класса. Даже слова «приличный господин» стали насмешкой, ругательством. «Ишь ты, какой приличный господин!» Приличный господин стал заискивать перед швейцаром и метрдотелем. Джузеппе, я демократ и социалист. Я не презираю людей за то, что они бедны или плохо одеты. Я сам из бедных – ты помнишь, какой я был худой и драный. Я сочувствую бедным и голодным. Но я ненавижу, когда шваль за мной следит и шваль мною командует.
Так вот, гостиница. Раньше я нанимал номер, говоря свою фамилию и платя за день вперед. Раньше я водил к себе в номер женщину, просто взяв ее под руку, – вел мимо портье, и ни одна шваль не смела задать мне вопрос. Какая разница, кто эта женщина – уличная девка или моя родная сестра? Зачем мы идем в номер – заниматься любовью или обсуждать, какой венок мы купим на могилу нашей любимой тетушки? Кого это должно интересовать?
Но это раньше так было. А вот теперь будьте любезны, зарегистрируйтесь. А если к вам приходит гость, мужчина или женщина, – пусть получит у портье гостевую карточку. Заполнит маленькую анкету. Имя-фамилия, дата и место рождения, номер удостоверения, к кому идет и цель визита. Цель визита, ты только вообрази! Три варианта: «деловые переговоры», «дружеская встреча» и «свидание с родственником». Нужное подчеркнуть. Мои девчонки выбирали «деловые переговоры». А серьезные дамы, с которыми у меня были серьезные романы, настаивали на «дружеской встрече».
Слава богу, у нас в Австрии этого нет. Это только в Германии. Но я до тридцать восьмого прожил в Мюнхене и нахлебался.
Но не в этом дело, дорогой мой Джузеппе. Не в том дело, что бедняжке Еве пришлось бы заполнять анкету и идти к лифту под мерзопакостным взглядом портье. Мне просто не хотелось вести ее к себе. Я никогда не мог пойти с женщиной, если я прежде не фантазировал о ней. Как это по-вашему? Если сначала не прелюбодействовал с ней
в сердце своем. В моих мечтах не было места для Евы, и даже нарочно, даже холодным рассудком, рассудочным, так сказать, воображением, – я не мог представить себе, что я ее обнимаю-целую-раздеваю и все прочее. Хотя разве можно такое представлять себе нарочно, холодным рассудком? То-то и оно.
Поэтому я успокаивался дня на два-три. Потом снова начинал о ней думать и снова приходил на почтамт. Наконец я понял, что всё, ждать смысла нет, и выбросить из головы тоже невозможно.
Я решил ехать к ней. Ну, скажем так, решил поехать узнать, как она там. Я совершенно серьезно собрал маленький чемодан. Почему я говорю, что серьезно? Чтобы ты не подумал, что это приманка, фокус. Когда долго ждешь автобуса, когда он опаздывает, нужно на минутку зайти в ближайшее кафе. Как только закажешь кофе – автобус тут же выедет из-за угла, и надо бежать к остановке, махая сразу двумя руками – одной рукой шоферу, чтоб подождал, другой рукой официанту – прости, братец, сам видишь! Верная приманка. У меня часто так получалось. Иногда я специально подходил к кафе или к газетному киоску, делая вид, что хочу выпить кофе или купить журнал, – и автобус меня слушался, тут же показывался в конце улицы.
Но тут я действительно, я серьезно собрался. Однако по дороге все-таки зашел на почтамт. Письмо ждало меня. Уже второй день, судя по штемпелю.
Я поставил чемодан около стола, сел на скамейку, вскрыл конверт и начал читать.
«Я не хотела Вам больше писать, мой дорогой, далекий, теперь уже бывший друг, потому что Вы правы, конечно, – не надо шалить чувствами, тем более что у нас такая большая разница в возрасте, в образовании и общественном положении. Я готова принять наше расставание без лишних слов.
Но вчера мне приснился сон про нас с Вами.
Мне приснилась война. Я не помню ту войну, только по рассказам мамы и папы. Хотя могла бы запомнить хоть что-то, мне уже шесть лет было, когда война закончилась. Но вот не помню, а выдумывать не буду.
А вчера мне приснилось, как будто идет ужасная война. Я в грязном обгоревшем доме, стою около окна, смотрю на улицу. Из этого окна я когда-то читала стихи прохожим – помните, я Вам писала про это? Но это мне не снилось, это я Вам просто объясняю, что это за окно. Окно нашей гостиной. А сейчас – то есть во сне – все ужасно. Я смотрю из окна. Мостовая разбита, дома на другой стороне разрушены, из выбитых окон идет дым, кругом мусор. Мне хочется плакать, потому что я совсем одна, я не знаю, где мама и папа, где сестра Эльза. Вдруг вижу: по улице бегут какие-то люди в военной форме, они подбегают к окну, протягивают руки и прямо из окна вытаскивают меня наружу. У меня нет сил сопротивляться, закричать, даже спросить, куда они меня тащат. Они сажают меня в большой автомобиль. Слышу, как они переговариваются. Они говорят про меня “она – его любовница”. И я сразу понимаю, о чем идет речь. Я – Ваша любовница. Уже давно. И вот сейчас мы едем к Вам. В какую-то крепость.
А Вы – фельдмаршал, даже еще выше – Вы главнокомандующий. Идет ужасная война, враги наступают. Мы едем, а на улицах стреляют, бегут солдаты, рвутся бомбы. Вот меня вытаскивают из машины, ведут по подземным ходам этой крепости. И вот я вижу Вас. Вы весь изможденный, бледный, одеты в фельдмаршальский мундир с крестами и звездами. Мундир помят, весь в кирпичной пыли, как в крови. Просто больно смотреть! Но я очень рада, что вижу Вас. Мы обнимаемся и целуемся. И тут в комнату вбегают вражеские солдаты. Они стреляют, я пытаюсь закрыть Вас своим телом, и мы оба падаем мертвые.
И какой-то голос громко шепчет мне прямо в ухо: “Он вмешался, он вмешался и поэтому погиб. И ты с ним погибла, потому что он вмешался”.
Я проснулась, было уже почти утро, я лежала и думала, что это значит. Из-за этого сна я все-таки решила написать Вам письмо. И сказать: не вмешивайтесь, мой далекий друг. Не надо вмешиваться. Вы понимаете, о чем я. И не пишите мне больше, никогда, никогда! Иначе несчастье свалится на Вас. Я так боюсь принести Вам несчастье.
Прощайте, Ваша Е.Б.»
Собственно, я уже давно не вмешивался.
12. Книга
– Джузеппе, – вдруг сказал он. – Джузеппе, ты чувствуешь настоящее?
Я не понял его и переспросил:
– Настоящее – что?
– Настоящее время, – сказал он. – Вот сейчас что-то происходит. Неважно что. Что угодно, ерунда какая-нибудь. Чашка кофе стоит на столе. Вот она, сейчас, в эту секунду, и ты на нее смотришь и чувствуешь: «в эту секунду чашка кофе стоит на столе, и я ее вижу». Ты умеешь так?
– Как – так? – Я никак не мог сообразить, о чем он говорит.
– Да очень просто! – он начал злиться. – Вот просто: ну, бог с ней, с чашкой. Вот ты на меня смотришь и меня видишь и чувствуешь это. Да?
– Да, конечно, – сказал я. – Я на тебя смотрю и тебя вижу.
– Это-то понятно, – сказал он. – Но ты это чувствуешь? Ощущаешь? Переживаешь?
– Что?
– То, что ты меня видишь. То, что я вот он, живой, здесь и сейчас, перед тобой? И кофейная чашка тоже, самая настоящая, горячая, полная пахучим кофе, – вот она, и вот это и есть реальность жизни? Да?
– Разумеется, да. А как же? Конечно, – сказал я.
– Точно? – спросил он. – Ты в этом абсолютно уверен?
Я вгляделся в него.
Да, да, конечно, передо мной сидел он, он, который… он, из-за которого… и я чувствовал это так сильно, как я вообще, наверное, никогда и ничего на свете не чувствовал.
– Да, – сказал я. – Уверен абсолютно.
– Хорошо тебе, – сказал Дофин. – А у меня не получается. Я умею только вспоминать. Вот через какое-то время – лучше через год, но можно и сегодня вечером – я вспомню всё в малейших подробностях, да не в подробностях дело, я вспомню все и почувствую все. И тебя, и чашку кофе. Именно почувствую, переживу. Но только в прошлом, понимаешь? Я могу сильно чувствовать только прошлое. А то, что сейчас, – как-то быстро мелькает и убегает в память. Чтобы потом ожить. А чтобы сейчас, вот сейчас – нет, не получается. Джузеппе, у меня было много приятных моментов в жизни. Самых разных. Я получал Национальную премию из рук президента Австрии. Я обедал с членами английского королевского дома. Я спал с красивыми женщинами, которых я очень хотел и долго добивался. И я щипал себя за руку, я кусал себе губы и говорил себе, едва ли не вслух шептал: «Не смотри в одну точку! Не отводи глаза! Не думай о всякой ерунде! Сосредоточься и чувствуй, вот оно, вот сейчас происходит! Вот сейчас тебе вручают медаль, и весь зал, полный красиво одетых дам и господ, аплодирует тебе, как чудесно! Вот сейчас ты сидишь напротив принца Уэльского, вы пьете белое вино, ты его спрашиваешь про политику Британии на континенте, он что-то отвечает с типичным английским юмором, как занятно! – Дофин перевел дыхание. – Вот, наконец: ты обладаешь женщиной, которую ты добивался полгода, и вот она твоя. Вот ты с ней в постели! И я просто кричу себе в уме: ощущай, ощущай, вот она голая с тобой, под тобой, вот ее руки, груди, губы, бедра и всё вообще, ты в ней, так почувствуй же это всеми дольками своей души!» Но нет. В голову и в душу лезут какие-то обрывки про другое. Про тот же обед с принцем Уэльским. Причем так ярко лезут эти обрывки, что реальная женщина, такая великолепная и такая желанная, как-то убегает в тень…
– Интересно, – я сочувственно вздохнул, хотя не очень понимал его.
– Действительно интересно, – ответил он. –
А особенно интересно, что завтра с утра я начинаю вспоминать эту женщину так сильно и так полно, что совершенно пропускаю то, что делается здесь и сейчас…
– Но потом-то вспоминаешь?
– Если что-то замечательное – например, вот эта наша встреча, – то да, конечно. А если какая-то чепуха – то нет. Забываю навсегда.
– Ты намекаешь, что вчера у тебя было любовное свидание? С очень красивой женщиной? Предметом давних воздыханий?
– Нет, – сказал он. – Я не о том. Мне кажется, я только сейчас начинаю понимать, что такое «жить сейчас». Не вспоминать про вчера и не мечтать про завтра.
В тридцать седьмом году и раньше – с тридцать третьего года, пожалуй, – я не хотел бороться. Ни вот столечко, – он даже пальцем показал. – Я отлично помню, как я лежал на тюремной койке, глядел в потолок, безрезультатно пытался как-нибудь напрячь мозг, как-нибудь сделать так, чтоб перед моим внутренним взором перестали кружиться телеса госпожи Браун, моей квартирной хозяйки в тринадцатом году, которая предлагала мне постель и всякие житейские удобства в придачу, и вазочку булочек, и кофе со сливками, а я отказался, да, да, а вот теперь вспоминал так и не виданные мною – не обнятые, не ощущенные – ее дамские прелести и роскошества, пышные груди и крутые ляжки. То есть на самом деле не вспоминал, а фантазировал, а еще вернее сказать – реконструировал, обнажал одетую госпожу Браун, снимал покровы, ой-ой-ой – тогда-тогда, в тринадцатом, мне было двадцать два, а тогда, в тридцать седьмом, уже почти сорок восемь, стыдно.
– Что стыдно? – я как-то потерял нить его речей.
– Стыдно валяться на койке и думать о голых бабах, как подросток-онанист. Даже в двадцать два это ужасно, а в сорок пять – просто слов нет. Стыдно.
– Бывает, – сказал я. – Особенно в одиночной камере.
– Мало ли что бывает! – почти обиделся он. – Все стыдное бывает. Имеет место. Ну и что? Это не оправдание. Да. Вот. Тогда я пытался напрячь мозг и думать о своей профессии… Но даже когда мне удавалось отогнать эти веселые картинки, мадам Браун и прочих дамочек, – мне не удавалось мысленно сосредоточиться на работе, на архитектурных проектах. А ведь замыслов было много, вот что ужасно. Но в голове у меня был серый полумрак, по бокам обсаженный какими-то толстолистыми цветочками. Я не знаю, что это было такое. Вроде пересохшего бассейна посреди полутемного зала, а по бокам горшки с цветами. Ерунда какая-то, да?
– Это у тебя было от тоски, – сказал я.
Дофин продолжал:
– Я уныло думал, что я не борец. Не храбрец и даже не рассказчик политических анекдотов.
Я просто художник, архитектор. У меня своя работа, у них своя. И тогда я думал, что это правильно. Что я не обязан протестовать ни против чего. Потому что в моей жизни есть только «вчера» или «завтра». Вчера – ладно, уже прошло. Завтра – ладно, завтра еще не наступило. А мне не надо вмешиваться. Вмешаешься – погибнешь, как писала мне несчастная Ева. Почему-то однофамилица моей старой квартирной хозяйки. Наверное, это знак. Скажи, ты же монах, ты должен знать – это какой-то знак?
– Не знаю, – сказал я. – Я же говорил: христианская вера запрещает гадания.
– Ладно, – вздохнул он. – Хорошо, пускай. Тем лучше.
Но потом, после войны, я понял, как стыдно было отказываться от борьбы. В сущности, всё, что произошло, – произошло именно из-за того, что мы отказались бороться. Не смейся, но всё это я понял, когда читал письма Евы. Вернее сказать, когда я их перечитывал после войны. Я был пустой человек, я был богемой средней руки, и вот я изменился. Из-за нее. Хотя мы ни разу не виделись, кроме тех двух коротких встреч в квартирном бюро в Мюнхене, в начале марта тридцать восьмого. В ней было столько тоски и отчаяния, в ней было столько растерзанного достоинства…
Особенно в ее письмах.
Я перечитывал ее письма много, много, много раз.
«Я Вам так доверяю!» – писала она, а у меня сжималось сердце от тоски.
Почему она мне доверяет? Почему женщина сразу начинает радостно и покорно доверять первому приветливому джентльмену, первому хлыщу, первому соблазнителю? Почему? Потому что женщина всегда покоряется мужчине. Почему? Как-то есть почему? Он же мужчина! Она не понимает, что у нее есть человеческое достоинство. Не женская судьба, а свое собственное достоинство, прости, что повторяю.
Вот точно так же народ, не имеющий чувства собственного достоинства, доверяет всяким проходимцам. Немцы всегда доверяли мундиру. Или чину. Покорялись ему. Почему? «Он же офицер!», «Он же директор!», «Он же государственный министр!».
Вдруг все перевернулось во мне. Я понял, что надо бороться.
Но я понял нечто более важное: бороться надо не за свободные выборы и отмену цензуры. Это всё придет потом. Сначала надо бороться за чувство собственного достоинства. За свою личность. Это борьба, которую каждый ведет в одиночку…
Для каждого это должно стать его собственной борьбой.
Поэтому я написал об этом книгу. Небольшую брошюру, точнее. Издал в сорок седьмом году. Тайно, без имени автора.
Я назвал ее «Моя борьба».
Специально так назвал, чтобы каждый читатель почувствовал, что это его собственная борьба, каждодневная борьба за личную свободу и личное достоинство. На фронтах обыденной жизни, на пятачках повседневности… Книга про то, как уважать себя. Про то, как читать газеты и слушать радио, как отличать правду от вранья. А главное – про то, как давать ежедневный отпор всякой швали, которая считает, что облечена властью. Самоучитель свободы, если хочешь.
Конечно, ее тут же запретили. Хотя я знаю, что ее тайно переиздавали за границей и перебрасывали к нам. Я знаю, что за «Мою борьбу» сажают. И мне стыдно, что вот я написал книгу и за нее сажают людей. То есть из-за меня.
– Дашь мне почитать? – сказал я. Конечно, это было глупо. Но вот так как-то сорвалось.
– Какой ты смешной, – сказал Дофин. – Ты думаешь, я ее таскаю с собой в кармане? Никто, ни один человек не знает, кто ее автор. Вот теперь ты знаешь. Ты меня не выдашь?
– Какой ты смешной, – сказал я и погладил его руку.
– Еще кофе, пожалуйста! – сказал он официанту.
– Сию минуту, – откликнулся тот из-за стойки. – Два кофе?
– Два кофе, – сказал я. – Еще воды, если можно.
– Непременно! – улыбнулся официант. – Две воды?
– Одну воду. Мне не надо, – сказал Дофин.
У дверей кафе остановилась машина. Хлопнули дверцы. Открылась дверь, на секунду впустив кусок яркого солнечного дня в полумрак кафе «Версаль». Вошли четверо.
– Монах, – сказал один другому. – Иностранец. Вот черт.
– Наплевать. Не трогай. Отсеки, – ответил тот.
Этот, который спрашивал, плотно стал рядом со мной, едва не втиснувшись между мною и столом, придавив меня своей тушей, а трое других бросились к Дофину.
Он вскочил, схватил стул и бросил его в окно. Стекло разбилось.
– Что ж ты, сволочь, делаешь?! – заорал официант.
– Полиция! – закричал Дофин. – Полиция!
Это было последнее слово, которое я от него услышал.
Ему накинули на голову черный мешок, согнули в три погибели и выволокли наружу. Хлопнула дверца автомобиля.
Тот, который отсекал меня, громко сказал:
– Scusi, padre! – он тоже принял меня за итальянца.
И выбежал вон. Снова хлопнула дверца.
– Ваш кофе, – сказал официант. – И вода.
Он поставил на стол две чашки и стакан. Потом подумал немного, хмыкнул и забрал вторую чашку.
– Вы позвонили в полицию? – спросил я.
– Телефон не работает, – он пошел к стойке, подвинул к себе телефон, поднял и показал мне молчащую трубку. – Ничего. Тут в каждом окне торчит пожилая тетушка. Поливает герань и высматривает прохожих и соседок. Она и позвонит.
– Кто?
– Тетушка.
– Какая? – я ничего не понимал.
– Любая, – сказал он. – Какая-нибудь. Она уже позвонила, готов держать пари. Полиция скоро будет. Вам принести счет?
– Я буду ждать полицию, – сказал я.
– Как угодно, – ответил он.
Вот, собственно, и всё.
* * *
– Вот, собственно, и всё, – сказал я репортеру. – Мне кажется, это были германские агенты. Я в этом просто уверен.
Я услышал тонкий и звонкий, но чуть приглушенный стук.
Ручка-самописка выпала из пальцев задремавшего репортера и упала на кафельный пол. Этот, как его, не Клопфер – или все-таки Клопфер? – заснул, пока я ему все рассказывал. Мне стало стыдно. За себя, что я так разболтался.
Он вздрогнул, проснулся, ловко нагнулся, подхватив ручку, и спросил:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































