Текст книги "Архитектор и монах"
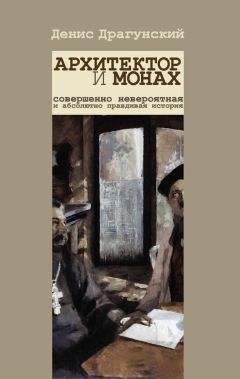
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Да, – сказал я. – Она была такая, совсем без тормозов. Без приличий. Но очень добрая и искренняя. Очень.
«Так что я с детства дурочка. А сестра умная. Ну и пусть, раз они так все решили, пусть оно так и будет.
А сейчас сестра моя, умница Эльза, работает портнихой в большом кооперативном ателье, и предел всех ее мечтаний – открыть свое частное дело. Но в наше время всякие частные лавочки – это не совсем прилично. Это не модно! Правительство стремится объединить все мелкие частные лавочки в большие кооперативы, а из кооперативов потом получаются нормальные государственные предприятия. Так что частные лавочки – это вчерашний день! И очень невыгодно к тому же. Очень высокий налог! Можно, конечно, обманывать налогового инспектора – то есть, конечно, нельзя, но многие обманывают. Можно сделать вид, что ты за пошив берешь меньше, чем на самом деле. Почти все частные портнихи так и поступают. Но это сколько доверия надо иметь к своему клиенту! Вот у нашей соседки была такая неприятность, она как раз частная портниха, и она делала, как все делают: выписывала чек на маленькую сумму, а остальное в карман. Но потом поссорилась со своей клиенткой, и та на нее донесла. Доказать ничего не смогли, но лицензию отобрали, на полгода: придрались к электросчетчику. Пломба там оказалась какая-то не такая. А это не она сама пломбу вешала, это электрик! Вызвали электрика, а он уже не работал на этом участке. Нет его, и все, и ничего не докажешь. Она сама стала разыскивать этого электрика, пошла в районный электроучасток, потом в городскую электрослужбу. Выясняла, куда он делся. Оказалось, его посадили. За что? А кто их знает. Сказали, что за дело. Просто так ведь не посадят. То есть это она считала, что просто так не посадят. А по-моему, по-разному бывает. Бывает, что и просто так.
Я не потому что против порядка, я думаю, что некоторых ведь отпускают, довольно часто, кстати говоря, отпускают. Одни говорят – каждого пятого, а другие, что вообще каждого третьего. Я не считала, да и откуда мне знать, а люди вот так говорят. Когда отпускают, то объясняют, что это ошибка следствия или ложный донос. То есть я говорю “посадили просто так” в смысле – по ошибке. Не знаю, за что этого электрика посадили. Может быть, он враг партии и народа. А может быть, просто напился пьяный и бутылкой кому-нибудь по голове заехал. Драку устроил, в общем. Мелкий уголовный преступник. Ну, или в самом деле по ошибке. А она, эта наша соседка, портниха, она на самом деле думала, что раз посадили, значит все, враг партии и народа, и лучше близко не подходить, а то сам влипнешь. Многие так думают, между прочим. Ну, одним словом, она испугалась и перестала писать письма. В общем, ее лишили лицензии на полгода. А через полгода надо было снова писать заявление, нести все дипломы и справки, и сидеть целый день в очереди, и потом ждать, когда по почте пришлют вызов. Идти получать лицензию, и опять в очереди целый день. Так что лучше не связываться, лучше работать в государственном учреждении. Или в кооперативе».
Там было еще много всего. На пятой странице у меня в глазах буквы стали одна на одну наезжать, и моментами я как-то переставал понимать, о чем она пишет. Но я дочитал до конца, про погоду и стук машин за окном. В общем, «всегда Ваша, Ева Б.».
Я опять написал какую-то витиеватую отговорку – что-де огромная масса срочных профессиональных дел не позволяет мне сесть и спокойно, неторопливо ответить ей, ответно описать черты своей жизни хотя бы на одну десятую долю так же подробно и обстоятельно, как она сделала в своем замечательном, искреннем, дышащем правдой, отмеченном незаурядной наблюдательностью, объемной памятью о событиях детства и отрочества и острым умом письме. Я надеялся, что разбирать эту фразу она будет примерно столько же времени, сколько у меня ушло на чтение ее пяти страниц мелким почерком. То есть она как бы тоже получит в некотором смысле длинное послание. Я усмехнулся, запечатывая конверт. Хотя усмешка эта была притворством. Я уже ждал ее ответа.
Ответ пришел, как всегда, на пятый день.
Из ее нового письма я с изумлением узнал, что ей на самом деле двадцать шесть лет. Всего двадцать шесть лет ей было в тридцать восьмом, когда мы встретились, когда она начала мне писать письма, – а я-то подумал, увидев ее в мюнхенском квартирном бюро, что это молодящаяся сорокалетняя дамочка. Почему? Наверное, потому, что она всю жизнь изображала взрослую. С двенадцати лет, когда ее в родном доме объявили дурочкой, она изо всех сил старалась выглядеть умнее. Серьезнее, взрослее, старше. Чуть-чуть печальное выражение бровей, натянутая кожа на лбу. Не знаю. Но факт остается фактом – я никогда в жизни так не ошибался с возрастом женщины. А если и ошибался, то в другую, в желанную для женщины сторону: та, что на самом деле старше, иногда казалась мне моложе. Это так естественно! Но тут, как видно, сама жизнь припорошила серой пылью бедную Еву. Вместо пудры и помады… Продуктовые талоны, очереди и вечный страх. Беспомощная попытка понять – сажают у нас просто так? Или просто так у нас не сажают? И глупая надежда – из пяти арестованных отпускают двух! Или вообще каждого третьего! От этих мыслей можно быстро состариться, особенно если думать об этом часто. А редко об этом думать не получается – потому что все время кого-то рядом сажают. То электрика, то соседа, то двоюродного брата. Берут. Заметают. «Изымают», выражаясь официально. Бедная Ева.
У нас в Австрии с этим было чуточку легче.
Хоть один народ, но все-таки две страны, и это неплохо.
Да. Между прочим! Ведь меня самого арестовали в тридцать седьмом, но довольно скоро выпустили. Так что, может быть, правду говорят, про каждого пятого. Хотя я не знаю, каким я был. Пятым или десятым.
Бедная Ева. Всего двадцать шесть, а так странно, так старо выглядит.
Или целых двадцать шесть – а все еще ни мужа, ни детей.
Все равно бедная.
Она написала, что всегда хотела стать артисткой. Наверное, не случайно вставала у окна лицом на улицу и читала стихи. Потом, когда окончила школу, никак не могла устроиться на работу. Училась неважно, если честно. Средне училась. Особенно по математике, физике и химии. Папа устроил ее работать в фотографическую студию. Однажды пришел и сказал, что договорился с хозяином. Студия «Эльвира», было такое заведение недалеко, четверть часа пешком. Довольно известная фирма.
«…Папа сказал это маме, прямо в прихожей, а я была в кухне и все слышала. Папа сказал: “Я договорился с Генрихом Гофманом, она пойдет работать в «Эльвиру»”. Мама сказала: “Она там все переколотит, переломает, фотокамеры очень дорого стоят, мы потом не расплатимся с этим Гофманом, она же ничего не соображает”. Папа сказал: “Какие, к черту, фотокамеры! Кто ей даст дотронуться до фотокамеры? Она будет работать ножками”. Я вышла из кухни и сказала: “Значит, я буду работать рассыльной? Бегать с пакетами?” Мне стало очень обидно, я чуть не заплакала. Я вообще очень легко плакала, и сейчас тоже, не обращайте внимания. Вот я вспомнила эту историю и опять чуть не заплакала. Я сказала: “Бегать с пакетами по всему городу?” Но папа вдруг улыбнулся, подошел ко мне, обнял и погладил по голове, и сказал: “Что ты, Ева! Ты у нас такая красивая! Господин Гофман будет тебя фотографировать. Ты будешь ему позировать – то с цветами, то с зонтиком, то с собачкой!” – “Для открыток?” – я даже не поверила такому счастью. “Да!” – сказал папа. “Ура! Ура! Ура!”
Но оказалось совсем не ура. Сначала, конечно, пришлось побегать с пакетами по городу. Отнести туда, принести оттуда… Но ничего. Потому что впереди были съемки для открыток. А потом, когда господин Гофман начал меня фотографировать, оказалось, что это очень трудно. Господин Гофман говорил, что я не так стою, не так улыбаюсь, не так ногу держу. “Странное дело, – говорил господин Гофман, – такая хорошенькая в жизни, а получается неважно. Неплохо, неплохо, но не так, как думалось поначалу. Казалось, что будет просто чудесно. Но что-то не то. Ты очень мила, но в движении!” – он мне говорил, когда я сидела перед ним на табуретке, с зонтиком в руках. Так его вертела и этак. Или пыталась замереть в веселой позе. Например, закрыться зонтиком, потом немножечко выглянуть из-за зонтика и улыбнуться. Господин Гофман смотрел на меня то просто так, то через квадратик сложенных пальцев, то через фотоаппарат. Потом он сказал: “Черт знает что такое. Ты вся в движении. Наверное, тебя на самом деле надо снимать в кино!”
Я чуть с ума не сошла от радости. Но он сказал, что это отдельная история.
Потом сказал, что мне надо раздеться совсем догола, он выйдет из комнаты, а я закроюсь зонтиком, чтобы ничего не видно, но при этом видно, что я голая.
И он меня так сфотографирует. Он сказал, что это будет очень привлекательно. Я сказала: “А вы честно не будете подсматривать?” Он сказал: “Ева! Я тебе в отцы гожусь, мне сорок шесть лет! У меня дети – твои ровесники. Мы с тобой на работе, это не флирт, а работа, запомни, ра-бо-та!” Тогда я сделала, как он сказал. Он вышел, потом вошел. Он стоял далеко, глядел через фотоаппарат и только говорил мне, как двигать зонтик. Чтобы с одной стороны было голое плечо, а с другой – голое бедро. То есть чтобы видно было, что на мне нет ни лифчика, ни трусиков. Потом вышел из ателье и из-за двери сказал: “Теперь одевайся”. Открытка получилась очень красивая, но мама очень сердилась, а папа – нет, хотя я думала, что будет наоборот. И еще мы много таких открыток сделали. Не только с зонтиком, а еще с большим фарфоровым блюдом. С высокой стопкой книг, разные словари и энциклопедии. С очень большим букетом. Со старинным резным креслом, его было тяжеловато держать, но гораздо легче, чем книги. Насчет книг я должна Вам рассказать маленький секрет. Они были такие тяжелые, что я их не могла удержать. То есть удержать могла, но это было некрасиво, потому что я их держала изо всех сил, даже зубы стиснула. Поэтому господин Гофман заказал муляж.
У театрального декоратора. То есть не настоящую стопку книг, а картонную, легкую. “Видишь, – сказал он. – Я вкладываю в тебя деньги!”
И еще я должна рассказать один секрет, я Вам очень доверяю, сама не знаю почему. Я когда Вас первый раз увидела в Мюнхене в квартирном бюро, я сразу подумала: “Вот этому человеку можно доверять!” Вот какой секрет: мне нравилось сниматься голой у господина Гофмана. Мне так это нравилось, что я сама придумывала новые сюжеты для открыток. Одна получилась вот какая: я увидела в магазине фототипию с какой-то известной картины знаменитого художника, там голая женщина стоит в лесу. Я сказала господину Гофману: “Давайте сделаем фотографию с этой картиной. Я стою голая и держу в руках картину, на которой голая женщина!” – “Ого! – сказал господин Гофман. – Прекрасно, прекрасно! Очень талантливо! Отличная идея. Сама придумала? А то папа твой говорил…” – “Что мой папа говорил?” – спросила я. “Ну, понимаешь ли, твой папа говорил, – господин Гофман слегка замялся, – что ты слишком робкая, не веришь в собственные силы”. Но я-то знала, в чем дело. Папа, наверное, говорил ему, что я очень глупая.
Ну и пусть, ну и пусть. Я больше на это не обижалась. И теперь не обижаюсь. Не всем быть умными, как сестра Эльза. Помните сказку про умную Эльзу? Вот она-то самой последней дурой и оказалась! Но я все равно люблю свою сестру и очень ей сочувствую – такая умная, а всего только портниха в маленьком кооперативе. Такое невезение! Я же вам о ней писала, да? Да, конечно, писала. А я кто? Я вообще никто, служу в квартирном бюро, выдаю ключи, принимаю ключи. Но я же дура, какой с меня спрос. А она умная. Дочку назвала Роксаной. В честь жены Александра Македонского. Я вам об этом точно писала, так что извините.
Вот. Вот я и подумала: дура-то я дура, зато господин Гофман очень красиво меня фотографирует. Одну фотографию – с фарфоровым блюдом – даже поместили на обложку художественного журнала. Это был журнал про фарфор. Господин Гофман хотел написать мою фамилию, но я сказала, что не надо. Все-таки я была голая.
Но мне очень, очень нравилось у него сниматься вот так. Иногда он даже не уходил из комнаты, когда я раздевалась, а просто отворачивался. Но ни разу не подсматривал. Я, когда раздевалась, и потом, когда одевалась, смотрела в его спину, не отводя глаз ни на секундочку. Но он не поворачивался. И он очень ко мне вежливо относился: смотрел на меня только через фотоаппарат и сам ставил осветительные лампы и экраны, пока я была одетая. И не допускал в комнату никаких ассистентов.
Потом к нам в ателье “Эльвира” пришли люди с киностудии. Мужчина и девушка, чуть постарше меня. Долго со мной разговаривали. Потом мы с девушкой ушли в другую комнату, закрылись на ключ, и она велела мне раздеться и посмотрела на меня голую. Господин Гофман мне сказал, что это обязательно. Девушка сказала, что все очень хорошо.
На следующий день они прислали мне сценарий. То есть кусочек из сценария, где мне надо было сыграть маленькую роль. Господин Гофман сказал, что такая роль называется “эпизод”. Но надо с чего-то начинать. Все артисты начинали с эпизодов.
В общем, этот эпизод был такой: какая-то дамочка выбегает из парадного подъезда. Там в сценарии было написано, что она поссорилась со своим любовником и убежала от него. Зима, поэтому она в шубке. Она бежит по улице, видит телефонную будку, заходит в нее и звонит другому любовнику. Шубка распахивается, и все видят, что она совершенно голая.
То есть она выскочила из дома голая, только накинув шубку.
То есть все видят, что я совершенно голая.
Я очень доверяла господину Гофману. Я знала, что он хочет мне добра. Но все-таки я ему сказала, что не буду сниматься в этой роли. Потому что я хочу выйти замуж. Я выйду замуж, и вдруг мой муж увидит этот фильм, где я голая! Представляю себе, как он заорет на меня! “Подумай хорошенько”, – сказал господин Гофман. Я подумала и сказала, что все может обернуться еще хуже, гораздо хуже. Что я из-за этого фильма вообще никогда не выйду замуж. Почему? А потому что любой молодой человек, как только меня увидит, сразу скажет: “Ага! А я ее уже видел голую! И не один я! Все видели!” Он не только на мне не женится, он не захочет даже познакомиться со мной. Не такая уж я дура. Некоторые простые вещи легко могу сообразить. Я даже заплакала. Потому что я так доверяла господину Гофману, а он мне, получается, хочет подложить вот такую свинью.
Господин Гофман сказал мне, что я очень ошибаюсь. Во-первых, на кинозвездах, которые снимаются в кино голыми, с большим удовольствием женятся разные богатые и знаменитые люди. Те же артисты. Или миллионеры. Он тут же стал перечислять мне имена разных киноактрис и их мужей. Я не знаю, что это за люди, в основном французские и итальянские фамилии, Лили Ренар и Джульетта Малапарте, кажется. Я больше не запомнила, но я ему поверила и перестала плакать. Тем более что он сказал примерно так: “Да, Ева, для какого-нибудь пошлого лавочника это ужас и стыд. На то они и лавочники, плебеи, вонючая толпа. Ты знаешь, что такое плебеи, что такое толпа? А настоящие мужчины, люди искусства или люди больших денег, они выше толпы. Выше этих пошлых предрассудков”. Да, я знала, что такое плебеи-лавочники и люди искусства, господин Гофман мне часто про это рассказывал, объяснял разницу.
“А во-вторых, – сказал господин Гофман, – никто тебя голой и не увидит”. Он объяснил, что все будет точно так же, как в наших открытках. Меня так поставят в телефонную будку, что перекладины в стеклянных стенках как раз закроют мне грудь, ну и внизу тоже. То есть будет видно, что я голая. При этом никто не увидит ничего неприличного, все неприличное будет закрыто.
Замечательно! Но я уже была ученая и спросила:
“А кинооператор? А осветители? И вообще, там, на съемочной площадке, очень много народа! Я этого все равно не хочу, чтоб столько народу видело меня голой”. Господин Гофман сказал: “Ева! Это не флирт, а работа!” Я сказала: “Я все равно не хочу и не буду!” Тогда он обнял меня и поцеловал. Я не знаю, нравился он мне или нет. Но он был мужчина, а женщина должна покориться воле мужчины. Тем более что я столько раз при нем раздевалась, хотя он отворачивался. И столько раз стояла перед ним голая, хотя закрывалась зонтиком или фарфоровым блюдом. Поэтому я не стеснялась, когда он меня стал раздевать. Если бы я стеснялась, я бы подняла крик, а тут сидела на кресле, как ненастоящая, только руки поднимала. Мне было немножко страшно. Но я бы солгала Вам, мой далекий и почти незнакомый друг, если бы сказала, что мне это всё не понравилось, что я была в ужасе, что меня тошнило от отвращения. Моя умная сестра Эльза мне про всё это вот так рассказывала, и я ей верила. Поэтому сначала немножко боялась. Но мне понравилось. Видите, как я честна перед Вами. Я Вам совершенно доверяю.
Поэтому я в конце концов согласилась сниматься в этом фильме и ездила на съемки, на три дня в Гамбург, мы ездили вместе с господином Гофманом. Но потом из фильма вырезали как раз этот кусок, режиссер сказал, что этот эпизод оказался лишний, так что всё оказалось зря. Еще через месяц господин Гофман сказал, что работать у него я могу и дальше, если захочу, но только чтоб я думать забыла про все эти глупости. Я уже забыла, сейчас я забыла, клянусь Вам, мой дорогой далекий собеседник, но тогда я все очень хорошо помнила, и мне показалось, что все в жизни совсем зря. Я пошла домой, нашла в шкафу старый папин военный револьвер – я знала, что он там лежит, мне Эльза говорила: если ее бросит Микки, она застрелится из папиного револьвера, который в платяном шкафу на самом дне, под картонками со старыми детскими вещами, мама их не выбрасывала на всякий случай. Ха-ха-ха! А зачем стреляться, дорогая сестричка, если всё это – такая ужасная гадость? Вытащила револьвер, почистила его и смазала оливковым маслом, я его сутки держала в мисочке с маслом у себя под кроватью, чтобы вертелся барабан и поднимался курок, и застрелилась. В смысле попробовала. Но у меня не получилось. Я выстрелила мимо. Не смейтесь, пожалуйста. Револьвер был тяжелый, и рукоятка у него была скользкая от оливкового масла. Я ее вытерла, конечно, но масло все равно вытекало из всех щелей. У меня дрожали руки. Когда я нажимала на гашетку, револьвер к сожалению, выскользнул у меня из руки, и пуля пролетела мимо, только чуть-чуть обожгла шею. Потом на этом месте вздулся пузырь. Потом мама это заметила. Пуля улетела в окно. Интересно, где она шлепнулась на мостовую? Я во всем призналась маме и папе, потому что мне было уже все равно. Они меня отправили в больницу, я там принимала успокоительную микстуру и совсем успокоилась, а когда вернулась, то года два работала продавщицей в универсальном магазине, обувной отдел, а потом на выборах победили коммунисты, товарищ Тельман совершил мягкую и бескровную демократическую революцию, и у господина Гофмана отобрали студию “Эльвира”.
А самого господина Гофмана забрали. За то, что он антисемит и был членом тайной террористической партии “Немецкие волки”. Я об этом не знала, клянусь Вам! Он был такой мягкий и веселый, какие волки? Поразительно. А насчет антисемита – тоже неправда, потому что у нас работали две девушки-еврейки, и все было нормально.
Я пошла в отделение полиции безопасности, я хотела выручить господина Гофмана, хотя он со мной так нехорошо поступил, но его тоже можно понять: он как раз овдовел и собрался второй раз жениться на взрослой серьезной женщине. Не мог же он продолжать романчик с девчонкой! Это мне объяснил врач, когда я лежала в больнице, врач тогда со мной проводил успокоительные беседы, два раза в неделю. Поэтому я на него совсем не злилась. Ну, только немножко. И это было тогда, тогда, восемь лет назад! А сейчас я про него совсем забыла. Но тогда я подумала – ведь и хорошего тоже было много, ведь правда? Поэтому я пошла его выручать. Смело пришла в полицию безопасности. Меня принял какой-то офицер, он очень долго со мной разговаривал. Задавал какие-то мелкие вопросы. Я очень боялась, что он станет спрашивать о разных таких вещах, то есть о наших интимных отношениях».
Это огромное, подробное и путаное письмо вдруг прервалось буквально на полуслове. Почему? Непонятно. Мне было досадно – представь себе, я уже погрузился в это чтение, в ее жалкую жизнь, в ее маленькие глупенькие чувства – мне казалось, что я читаю роман писателя-модерниста, поток сознания, я же говорю… и вдруг – стоп. Точка. Вернее, даже точки не было.
Мне просто было как читателю интересно – что там дальше? Влюбится в офицера полиции безопасности? Но при этом я немного тревожился. Письмо обрывалось так резко, как будто кто-то ее застиг за писанием и буквально вырвал у нее ручку. Вдруг с ней что-то случилось? Меня охватило беспокойство. Мне хотелось точно убедиться, что она жива-здорова. Но господи, какие глупости! Я растер себе грудь кулаком, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Огляделся – никто на меня не смотрел.
Ибо дело происходило, мой дорогой Джузеппе, опять-таки на венском почтамте. Я всякий раз не мог донести письмо до дому. Распечатывал и читал тут же, сидя на дерматиновой скамейке за столом с толстым стеклом, под которым располагались образцы телеграфных бланков и всякие почтовые правила, – и все это под латунным абажуром в стиле недорогого фабричного модерна.
Я сидел, глядел на оборванную строку и думал, что же там, в Мюнхене, могло с ней произойти. Раз она так оборвала письмо.
* * *
– Действительно, глупости! – засмеялся Джузеппе. – Она же его отправила!
– Что? – спросил я.
– Она же отправила письмо! И сама, я полагаю, надписала конверт, – сказал Джузеппе. – Сам посуди: если бы кто-то вырвал перо у нее из рук – как бы она смогла заклеить конверт и надписать адрес? И бросить письмо в ящик?
* * *
Ну да, конечно, я это прекрасно понимал. Я понял это буквально во вторую секунду. Но в первую секунду я встревожился. Что с ней? Где она? Смешно. Какие мы все отзывчивые, однако.
Этот резкий обрыв письма позволял мне ответить кратко. Вот так:
«Дорогая Ева, Вы так внезапно прервали свой рассказ! Что случилось? С нетерпением жду окончания письма. Искренне Ваш, А.Г.»
Следующее письмо было гораздо короче. Она, во-первых, просила прощения за то, что даже не поставила подпись. Потому что она очень устала. И еще потому, что вдруг увидела, сколько листочков исписала, и пришла в ужас. Разве можно писать такие неприлично длинные письма! Но раз уж написала, то пусть так и остается. Но больше ни слова.
«Хотя, если Вы настаиваете, вот печальное продолжение моего письма. Офицер полиции безопасности не задавал мне никаких нескромных вопросов. Хотя мне почему-то казалось, что он и так все знает. Не знаю почему. Такое у меня было впечатление: он все время на меня хитренько поглядывал, все время оглядывал мою фигуру. Хотя я пришла в очень скромном закрытом платье. Я объясняла ему, какой господин Гофман был порядочный человек. Никого не обижал, ни евреев, ни поляков – у нас работал один старый поляк, – и никаких “немецких волков” у нас в студии не водилось – я даже позволила себе засмеяться. То есть я как будто даже пошутила. Он тоже улыбнулся и сказал: “Спасибо за все, что вы рассказали. Надеюсь, что все будет хорошо”. Потом он дал мне чистые листы бумаги. Два. Он попросил, чтоб я внизу расписалась. Два раза на каждом – на лицевой стороне и на оборотной. “Зачем?” – спросила я. “Я потом заполню протокол, – сказал он. – Коротко запишу, что вы сказали”. – “А это не запрещено законом, подписывать чистые листы?” – “Что вы! – сказал он. – Мы так всегда делаем, так гораздо удобнее!” Но я колебалась. Тогда он сказал:
“Я даю вам честное слово, понимаете, чест-но-е сло-во спец-ко-мис-са-ра, что ваша подпись не будет использована против ваших интересов. Но, впрочем, если вы настаиваете, если вы мне не доверяете – садитесь и ждите, пока я оформлю протокол. Прочитаете и подпишете, – он наклонил голову и посмотрел на меня, оглядел меня всю, от туфелек до гребенки в волосах, и потом обратно, сверху вниз. – Или у вас нет времени?” У меня было время. Но я не могла оскорбить человека недоверием. Он был такой приятный, искренний. После победы Тельмана появилось много искренних, бодрых молодых людей. На государственной службе, я имею в виду. У них были очень милые лица. Простые, открытые лица, потому что они были в основном из рабочих или из сознательных бедных крестьян.
Я подписала эти листы. Он пожал мне руку. А потом я узнала, что господина Гофмана расстреляли. Его жена по секрету рассказала моей маме. Его новая жена. Моя, так сказать, счастливая соперница. Шучу, конечно. Когда мама это нам шепнула, я захотела пойти и выразить госпоже Гофман свое соболезнование. Но мама сказала “дура!”. Не закричала, а тихо сказала усталым голосом. И странно на меня посмотрела. “Что ты на меня так смотришь?” – спросила я. “А зачем ты ходила в полицию?” – прошептала мама. “А что?” – “Ничего, ничего, ничего, ничего”, – сказала мама. Я точно помню, что слово “ничего” она сказала четыре раза. Это случайно совпало, конечно же. Но я вспомнила, что подписалась под пустыми листами тоже четыре раза. Я не могла поверить, что они там что-то такое написали на листе, где моя подпись. Как будто я даю показания, что господин Гофман что-то такое делал с этими страшными “немецкими волками”. Не знаю. Но мне все равно казалось, что это я виновата. Тем более что господин Гофман такой талантливый человек, у него ведь не только открытки с девочками, он снимал портреты разных известных людей, профессоров и генералов, очень красиво и солидно. И все-таки он был мой первый мужчина, хотя и бросил меня. Но первый мужчина всегда бросает. Ну, или потом всегда куда-то исчезает. Мне все подруги так рассказывали. Никто, буквально ни одна не вышла замуж с первого, извините, раза. Ничего, что я Вам всё это пишу? Я вам доверяю совершенно, а всё это было давно, и давно прошло, и уже забыто. Когда я узнала, что господина Гофмана расстреляли, я заплакала, и плакала очень долго, а потом приняла много успокоительных таблеток и заснула. А мама с папой опять отвезли меня в больницу. При Тельмане все больницы в Германии стали бесплатные. Так что в этом смысле было гораздо легче. Тогда, первый раз, папе пришлось выложить некоторую сумму, кажется, не очень маленькую; папа меня не упрекал, потому что мы были обеспеченные. Но мама говорила: “Если бы ты умела держать себя в руках! На эти деньги мы бы нарядили тебя как принцессу”. Может быть, мама была права. Какая-то странная болезнь – действительно, не можешь держать себя в руках, лежишь на диване и плачешь… А потом мне в больнице дали бумагу в министерство, в министерстве – бумагу в социальную службу, и в общем потом меня взяли на работу в Мюнхенское квартирное бюро. Где мы с Вами и встретились, мой любимый далекий друг».
Ну, и еще какая-то ерунда. Несколько слов о погоде, кажется. У нас пасмурно, а у Вас? Но зато у нас тепло. И подпись: «Всегда Ваша Е.Б.».
Мне было неприятно читать это письмо. Нет, конечно, я не почувствовал ревности. Даже смешно. Хотя это было странно: такие исповеди, такие откровенности – незнакомому мужчине. И не просто незнакомому (хотя, конечно, просто незнакомому такие вещи не пишутся) – а «любимому далекому другу». То есть на самом деле я почувствовал ревность и засмеялся, когда это понял. Потому что это у меня давно. Смеюсь над собою, а поделать ничего не могу. Мне хочется, чтобы все женщины мира любили только меня. Или хотя бы те женщины, которых я знал, с которыми у меня хоть что-то было – хоть одно свидание, хоть даже встреча без поцелуев. Я потом ужасно огорчался, когда узнавал, что девушка, с которой мы в девятьсот седьмом году ходили в цирк-шапито, – что теперь эта девушка вышла замуж, родила двоих детей, а меня не узнает на улице. Негодяйка! Предательница! Она должна была сидеть у окошка и вышивать платок – в ожидании меня! Смешно. Но я правда так думал. Вернее, я, конечно, так не думал. Я так чувствовал. Возможно, из-за этого я так и не сумел жениться. Не сумел оторваться от всех своих любвей и привязанностей. Смешно. Но от того, что пять раз повторишь «смешно», – ничего не изменится.
Так что мне не понравились эти рассказы про господина Гофмана.
Тем более что я его странным образом знал.
О нем знал, точнее говоря. Это был поначалу талантливый репортер. Снимал разные аварии, пожары и катастрофы. Скорее, не талантливый, а удачливый – однажды умудрился сфотографировать крушение цеппелина. Он снимал толпу ликующих идиотов на площади Одеон, в августе четырнадцатого, когда объявили войну. Знаменитая фотография. Я там был. Я долго рассматривал этот снимок и нашел там себя. Уже сильно после – в середине двадцатых, наверное.
А потом он стал снимать солидные и красивые портреты.
Если бы я стал известным человеком, профессором или генералом, как выразилась Ева, – наверное, он бы сфотографировал меня тоже. А так – я проходил мимо ателье «Эльвира» и ухмылялся. Презрительно сплевывал. Возможно, как раз когда я проходил мимо, господин Гофман в своем ателье стоял в углу съемочной комнаты, отвернувшись к стене, а семнадцатилетняя Ева Браун дрожащими руками стаскивала с себя чулочки и панталончики, во все глаза глядя в спину мужчины сорока шести лет с двумя детьми, у нее медленно и сладко билось сердце, и она ужасно боялась, что он вдруг обернется.
Удивительно, как тесен мир. Или это круг нашего общения страшно широк, а мы об этом даже не подозреваем? И еще удивительнее, что я был среди ликующих идиотов-патриотов на площади Одеон второго августа четырнадцатого года. Хотя ликовал не очень-то – чувствовал, наверное, что из этого получится. Для Германии и для меня лично. Но не пойти не смог: странное, влекущее, повелительно зовущее чувство общности с народом. Даже если этот народ на четыре пятых – ликующие идиоты. Страх быть вне улья, вне стаи, вне массы, которая потеет, орет, втискивает тебя в общее мясное тело нации. Сколько лет понадобилось, чтобы излечиться от этого… Ева мне помогла избавиться от обольщения толпы. То есть ее письма мне помогли, потому что мы с нею так и не увиделись.
Но в тот момент мне ее письмо не понравилось.
Поэтому я ответил ей достаточно пространно, но сухо.
Я написал, что благодарю ее за столь подробный рассказ о жизни. Что рад был бы рассказать и о себе, но что жизнь моя очень скромна и бедна событиями. Вот так.
Не мог же я в самом деле рассказывать ей о Леоне Троцком, Рамоне Фернандесе и о тебе, мой друг Джузеппе! Или о том, как бешеные троцкисты Кукман и Пановский утопили Ленина в пруду около Любомирской улицы, потому что решили, что именно он подослал убийцу к Троцкому. Да и что бы ей сказали эти никому не известные имена? Ничего бы не сказали.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































