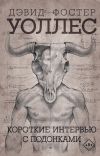Текст книги "Бесконечная шутка"

Автор книги: Дэвид Уоллес
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 105 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Небо блеклое и бледное, на порывах с Чарльз – которыми печально славится стадион «Никерсон» – развеваются все пять флагов Янки Конференс – Университета Вермонта и УНГ[90]90
Университет Нью-Гемпшира.
[Закрыть] уже нет. Очевидно, четвертый даун. Тысячи килограмм мяса, упакованного в щитки, встают на четыре конечности и пыхтят друг на друга, готовые рваться вперед и стопорить. Орин в двенадцати ярдах от схватки с мячом, вес перенес вперед, бутсы вместе, разноразмерные руки перед собой, как у слепого перед стеной. Взгляд зафиксирован на далекой заляпанной травой валентинке задницы центрового. В этой стойке, в ожидании снэпа, он напоминает дайвера, замечает за собой Орин. Девять мужиков на линии, на четырех конечностях, готовые застопорить атаку десяти мужиков. Далеко позади, в семидесяти ярдах или больше, ждет мяч дип бэк другой команды. Фуллбэк, единственная задача которого – защищать Орина от любого вреда, впереди слева, согнул колени, обмотанные кулаки вместе, локти врозь, как у пернатого хищника, готового броситься на что угодно, что прорвет линию и приблизится к пантеру. Оборудование Джоэль не то чтобы профессионального уровня, но все компенсирует ее техника. К третьему курсу уже есть и цвет. Звук только один, и он абсолютный: шум толпы и ее же ответ на этот звук, нарастающий. Орин против Делавэра, в полной готовности, шлем – нетронутого белого цвета, а внутри головы на десять секунд чисто, ни одной мысли, не связанной с лонг-снэпом, геройским шагом вперед и свечой кожаным мячом с глаз долой на такую высоту, что и ветер не помеха. Мадам СКОЗА зумом с противоположной зачетной зоны улавливает все. Улавливает его тайминг: тайминг панта точный до секунды, как при подаче в теннисе; это как сольный танец; она улавливает безбожный В-ВУМ по-над кульминацией одной гласной толпы; она фиксирует 180-градусную маятниковую дугу ноги Орина, ягодичную инерцию, от которой его шнурки оказываются высоко над шлемом, идеальный прямой угол между ногой и полем. Ее техника во время делавэрского разгрома, который Орин пересматривает через силу, – тот единственный раз за год, когда здоровый пыхтящий центровой перестарался и закинул мяч высоко над поднятыми руками Орина, так что когда он отбежал и схватил безумно скачущую хреновину в десяти ярдах позади, делавэрская защита уже прорвала линию, была вся за линией, фуллбэк – навзничь и затоптан, все десять атакующих – атаковали, не думая ни о чем, кроме прямого физического контакта с Орином и кожаным яйцом, – великолепна. Джоэль улавливает его бег – трехметровый боковой рывок, в котором он избегает первых рук и кривящихся пухлых губ, и но вот он оказывается в миге от прямого контакта и сбивания с бутс летящим наперерез делавэрским стронг сэйфти, когда крошечный 0.5-сектор цифрового объема, отведенного на каждый пант, кончается, и звук толпы мычит и умирает, и слышно, как встревает на последнем байте привод, и на гигантским экране – забранное пластиком лицо Орина с ремешком на подбородке, застывшее, и в HD, и в шлеме, сразу перед столкновением, крупным планом мощным объективом. Особо интересны тут его глаза.
14 ноября
Год Впитывающего Белья для Взрослых «Депенд»
У Бедного Тони Краузе в метро случился эпилептический припадок. Произошло это на серой ветке по дороге из Уотертауна до площади Инмана, Кембридж. Он больше недели пил кодеиновый сироп от кашля в мужском туалете библиотеки Армянского фонда в кошмарном центральном Уотертауне, Массачусетс, выбегая из своего убежища, только чтобы стрельнуть вытирку у отвратительного Эквуса Риза, а потом сгонять в аптеку «Брукс», в просто мерзотном ансамбле из синтетических слаксов, подтяжек и донегольской твидовой кепки, которую он выклянчил в профсоюзе докеров. Бедный Тони не осмеливался надевать красивые шмотки, даже красную кожаную куртку братьев Антитуа, с тех пор, как в сумочке той женщины оказалось сердце. Никогда он не чувствовал себя настолько загнанным и обложенным со всех сторон, как в тот черный июльский день, когда ему выпал жребий стырить сердце. Кто бы тут не задался вопросом: «За что?» Он не осмеливался носить что-то броское, боялся вернуться на площадь. А Эмиль до сих пор собирался его картануть из-за того кошмарного случая с By и Бобби Си прошлой зимой. Бедный Тони с прошлого Рождества не осмеливался совать перья восточнее Тремонт-стрит, или в Брайтон Проджектс, или даже к Дельфине в глуши Энфилда, даже когда Эмиль взял и просто дематериализовался из уличной тусовки; а теперь, с 29 июля, он стал нон грата и на Гарвардской площади и ее предместьях; и даже от одного вида азиата у него начинались пальпитации – чего уж говорить об аксессуарах от дома «Энье».
Т. о. Бедный Тони остался без единой возможности затариться. Не осталось никого, достойного доверия. С. Т. Крыса и Сеструха Лола были не надежней его самого; им он даже не говорил, где ночует. Пришлось пить сироп от кашля. Он уболтал Пилотку Бриджет и гея-проститутку Темную Звезду Стокли пару недель снабжать его дурью, пока Стокли не умер в хосписе Фенуэй, а сутенер Пилотки Бриджет не командировал ее в Броктон при невыносимо таинственных обстоятельствах. Тогда Тони почувствовал недоброе, смирил гордыню в первый раз и залег на дно еще глубже в лабиринте помоек за местным отделением № 4 МБРПВД[102] в Форт-Пойнте, и настроился не высовывать нос, пока может смирять гордыню и слать за героином Сеструху Лолу, снося бесстыдное обдиралово никчемной сучки, забыв о самоуважении и жалобах, до октября, когда Сеструха Лола слегла с гепатитом G и поставки героина совершенно иссякли, и если кто и мог надыбать достаточно, чтобы еще и делиться, стали те, кто мог сгонять на чудовищные расстояния под публично-открытым небом, и ни один друг – каким бы он ни был близким или обязанным, – не мог себе позволить так рисковать для другого. И тогда, без друзей и без связей, у Бедного Тони, на дне, началась Отмена Героина. Не просто напряг или ломка. Отмена. Слова невралгической болью отдавались в голове без парика с просто-таки ужасающим отзвуком зловещих-шагов-в-пустом-коридоре. Отмена. «Птичка без крыльев». Курофикация. Абстяга. Дохлая птичка. Бедный Тони ни разу не доходил до Отмены – ни разу, чтобы от начала до самого конца пустого коридора Отмены, – с тех пор, как он впервые ширнулся в семнадцать. В самом худшем случае какой-нибудь добрый человек мог оценить его очарование, если все было так отчаянно, что приходилось своим очарованием торговать. Увы, нынче его очарование сильно упало в цене. Он весил пятьдесят кило, а кожа была цвета незрелой тыквы. Он был на страшных трясах и еще потел. На глазу вскочил ячмень, который расцарапал глазное яблоко до красноты, как у кролика. Из носа хлестало, как из двойного крана, и выделения были желто-зеленого оттенка, который вовсе не внушал оптимизма. Еще непривлекательный запах сухой гнили, который чувствовал даже сам Тони. В Уотертауне он пробовал заложить свой пышный рыжий парик с накладным шиньоном, но заработал только мат на армянском, потому что на парике завелись блохи с его собственных волос. Незачем и начинать о критике армянского ростовщика в адрес красной кожаной куртки.
С каждым днем Отмены Бедному Тони становилось хуже и хуже. У самих симптомов появились симптомы, колебания и экстремумы которых он изучал с угрюмым интересом, сидя в помойке, в подтяжках и кошмарной твидовой кепке, вцепившись в сумку с париком, курткой и привлекательными шмотками, которые ни надеть, ни толкнуть. Пустой контейнер «Эмпайр Вейст Дисплейсмент Ко.», в котором он залег, был новенький и яблочно-зеленый, и внутри – весь голое мятое железо, и так и оставался новеньким и неиспользованным, потому что люди его обходили кругом. Бедный Тони не сразу понял, почему; на краткий миг это казалось мазой, хоть одной слабой улыбкой Фортуны. Бригада мусорщиков ЭВД все ему подробно разъяснила, хотя и немного бестактно, как ему показалось. Еще зеленая железная крышка контейнера протекала во время дождя, и вдоль одной из стенок поселилась колония муравьев – насекомых, которых Бедный Тони особенно боялся и ненавидел с самого неврастенического детства; а на прямом солнечном свете жилище становилось поистине адской средой обитания, которой, кажется, не выдерживали даже муравьи.
С каждым шагом в глубины черного коридора Отмены Бедный Тони Краузе топал ногой и просто отказывался верить, что может быть еще хуже. А затем он разучился чувствовать, когда ему нужно было, так сказать, попудрить носик в мужской комнате. Гендерно-дисфорический брезгливый ужас перед недержанием невозможно описать словами. Без всякого предупреждения из нескольких отверстий начинала изливаться жидкость различной консистенции. А потом, понятно, там и оставалась, жидкость, на железном дне летнего контейнера. Вот она, никуда не денется. Он не мог прибраться и не мог затариться. Вся социальная сеть его межличностных связей состояла из людей, которым было на него плевать, плюс людей, которые желали ему зла. Его покойный отец-акушер разорвал собственную рубаху в знак символической шивы в Год Воппера на кухне дома Краузе, 412 по Маунт-Оберн-стрит, в кошмарном центральном Уотертауне. Недержание и перспектива грядущего 4.11 ежемесячного чека от соцслужб вынудили Бедного Тони короткими перебежками сменить дислокацию на неприметный мужской туалет библиотеки Армянского фонда в центре Уотертауна, кабинку в котором он обустроил так уютно, как только мог, – с поблескивающими снимками из журналов, дорогими сердцу безделушками и туалетной бумагой на сидушке, и много раз смывал, и старался держать истинную Отмену в мало-мальской узде при помощи флаконов «Кодинекс Плюс». Небольшой процент кодеина метаболизируется в старый добрый морфин С17, лишь отдаленно и мучительно напоминая, как выглядит настоящее облегчение после абстяги. Т. е. сироп от кашля не более чем растягивал процесс, удлинял коридор – он замедлял время.
Бедный Тони Краузе сидел на утепленном унитазе в одомашненной кабинке днями и ночами, попеременно то заливаясь, то изливаясь. В 19:00 он приподнимал шпильки, когда библиотекари проверяли кабинки и выключали весь свет, и оставляли Бедного Тони во тьме внутри тьмы такой непроглядной, что он даже не представлял, где его конечности. Покидал он кабинку, может, раз в два дня, короткими перебежками в поношенных темных очках и каком-то жалком подобии капюшона или шали, свернутом из коричневых бумажных полотенец туалета.
Теперь, с продолжением Отмены, он стал воспринимать время по-новому. Время шло, царапая острыми краями. В темноте или мраке кабинки оно двигалось так, словно его несла процессия муравьев – блестящая красная боевая колонна таких воинственных красных южноамериканских муравьев, которые строят отвратительные высокие кишащие горы; и каждый из злобных блестящих муравьев за то, что медленно тащил время по коридору истинной Отмены, хотел свою миниатюрную порцию плоти Бедного Тони. На вторую неделю в кабинке само время стало казаться коридором, беспросветным с обоих концов. Еще через некоторое время оно вообще прекратило двигаться или допускать передвижение по себе и приобрело отдельную форму – огромной, грязноперой, рыжеглазой бескрылой птицы с недержанием, нахохлившейся над кабинкой, с внимательным, но совершенно равнодушным характером, ее нисколько не интересовал Бедный Тони Краузе как человек и она вовсе не желала ему добра. Ни капельки. Она говорила со своего насеста одни и те же слова, снова и снова. Неповторимые. Даже не самая светлая жизнь Бедного Тони не подготовила его к встрече с временем, обладающим формой и запахом; а ухудшающиеся физические симптомы казались распродажей в «Бонвите»[91]91
Универмаг в Нью-Йорке.
[Закрыть] по сравнению с черными заверениями времени, что все эти симптомы – лишь цветочки, знаки, указывающие на большие, куда более отчаянные феномены Отмены, которые зависли над головой Тони, качаясь на постепенно расплетающейся нитке. Оно не сидело спокойно и не исчезало; оно меняло форму и запах. Оно входило в него и выходило, как зек в тюремном душе, при мысли о таком у Тони всегда волосы вставали дыбом. Когда-то Бедный Тони имел наглость воображать, что знал о ломках не понаслышке. Но он и не знал, что такое ломка, пока ритмы времени – зазубренные, холодные и странно пахнущие дезодорантом – не вошли в его тело через несколько отверстий – такие холодные, каким бывает только сырой холод, – оборот, который он имел смелость считать клише – «продрогнуть до костей», – усеянные осколками колонны мороза, забивающие суставы хрустом битого стекла, стоит лишь чуть подвинуться на толчке, время вокруг и в воздухе, оно входит и выходит, когда захочет, такое холодное; и боль дыхания на зубах. Время пришло к нему в непроглядной тьме библиотечной ночи с оранжевым ирокезом, в корселете, кроссах «Амальфо» и больше ни в чем. Время опрокинуло его, грубо вошло, сделало свое грязное дело и снова вышло в форме бесконечного хлещущего потока жидкого говна, которое он просто не успевал смывать. Сколько угрюмых часов Тони провел в попытках постичь, откуда же берется столько говна, если он не брал в рот ничего, кроме «Кодинекс Плюс». Потом в какой-то момент он осознал: само время стало говном: Бедный Тони стал песочными часами: теперь время двигалось через него; он больше не существовал вне зазубренного потока. Теперь он весил скорее 45 кг. Ноги истончились и стали такими же, какими были когда-то привлекательные руки, до Отмены. Его преследовало слово «цукунг»[92]92
Дрожь (нем.).
[Закрыть], иностранное и наверняка еврейское, которое он даже никогда не слышал. Слово билось в ускоренном ритме в голове, ничего не означая. Он наивно полагал, что сойти с ума – значит, не замечать, что сходишь с ума; безумцев он наивно представлял вечно хохочущими. Он постоянно видел своего оставшегося без сына отца, – отвинчивающего боковые колеса у велосипеда, поглядывающего на пейджер, в зеленом халате и маске, наливающего холодный чай в стакан из рифленого стекла, рвущего рубашку из-за горя по чаду, хватающего его за плечо, падающего на колени. Коченеющего в бронзовом гробу. Опускающегося под снег на кладбище Маунт-Оберн – это издали, из-за черных стекол. «Промерз до цукунга». После того, как истощились средства даже на кодеиновый сироп, Тони еще просидел на толчке в дальней кабинке уборной БАФ, – окруженный недавно гревшими душу предметами одежды и фотографиями из модных изданий, приклеенными к стенке скотчем, который он выклянчил на справочной, – просидел почти еще ночь и день, не верил, что сможет задержать поток поноса, чтобы куда-нибудь уйти – если это «куда-нибудь» еще появится – в своих единственных слаксах-унисекс. Во время дневных часов работы мужской туалет был полон славяноговорящих стариков в одинаковых коричневых лоферах, чей скорострельный метеоризм вонял капустой.
К концу второго бессиропного дня (дня припадка) у Бедного Тони Краузе начался синдром Отмены еще и алкоголя, кодеина и деметилированного морфина – компонентов сиропа от кашля, – вдобавок к изначальному героину, что послужило началом таких ощущений (особенно от Отмены алкоголя), к которым его не подготовил даже недавний опыт; и когда появились реальные высокобюджетные глюки белой горячки, когда первый глянцевый и лохматый муравей-солдат пополз по его руке и по-призрачному наотрез отказывался смахнуться или раздавиться, Бедный Тони смыл остатки гигиенической гордости в фарфоровую пасть унитаза, натянул назад слаксы – унизительно мятые после того, как 10 + дней комкались у лодыжек, – сделал то немногое, что мог, в косметическом плане, надел безвкусную кепку и перемотанный скотчем шарф из полотенец и в отчаянии бросился на кембриджскую площадь Инмана к зловещим и двуличным братьям Антитуа – их штабу под прикрытием «Развлечений 'N пустяков из стекла», порог которого он поклялся не переступать вовеки веков, и но теперь решил, что это его последний шанс, – Антитуа, канадцам квебекского происхождения, зловещим и двуличным, но на деле незадачливым политическим инсургентам, услугами которых он дважды пользовался через Сеструху Лолу и теперь единственным людям, за кем остался хоть какой-то должок, с того самого случая с сердцем.
В куртке и кепке тракториста поверх шарфа на подземной платформе серой ветки станции «Уотертаун Центр», когда в мешковатые слаксы хлынула первая горячая струя, потекла по ноге и на шпильку – у него остались только красные высокие туфли с перекрещивающимися тесемками, почти полностью скрытые длинными слаксами, – Бедный Тони закрыл глаза, чтобы не видеть муравьев, кишмя кишащих на хилых руках, и издал беззвучный внутренний крик от ошеломляющего и рвущего душу горя. Его любимый боа почти целиком уместился в нагрудный карман, где и оставался, чтобы не привлекать внимания. В многолюдном вагоне Тони обнаружил, что за три недели из колоритного и привлекательного – хотя и на любителя – человека превратился в омерзительного городского бомжа, которого уважаемые люди в метро обходят или от которого медленно отодвигаются, словно даже не замечая. Его шарф из полотенец частично расклеился. От него пахло билирубином и желтым потом, а от подводки для глаз недельной давности толку мало, если неделю не бриться. Также имели место инциденты с мочой, в слаксах, для полного счастья. Просто никогда в жизни он не чувствовал себя таким противным или больным. Беззвучно рыдал от стыда и боли из-за каждой режущей кромки ярко освещенной секунды на людях, а муравьи-легионеры, бурлящие на коленях, раззявили острозубые насекомьи пасти, чтобы ловить слезы. Он чувствовал свой беспорядочный пульс в ячмене. По серой ветке, как и по зеленой и оранжевой, ходил грохочущий левиафанский поезд, и он сидел один в конце вагона, чувствуя, как царапает каждая секунда.
Когда все началось, эпилептический припадок показался не столько отдельным выдающимся кризисом, сколько очередным экспонатом в кунсткоридоре абстяги. На самом деле припадок – этакую синаптическую пальбу в иссушенных височных долях Бедного Тони – целиком вызвала Отмена не Героина, а старого доброго самого обычного спирта, который был главным ингредиентом и достоинством сиропа от кашля «Кодинекс Плюс». Тони употреблял до шестнадцати флаконов 40-процентного «Кодинекса» в день восемь дней подряд, и потому, когда взял и разом прекратил, буквально напросился на серьезную нейрохимическую взбучку. Первым знаком, не предвещавшим ничего хорошего, стал душ искр-фосфенов с потолка трясущегося вагона, плюс ярко-фиолетовая аура вокруг голов граждан, медленно отходивших как можно дальше от разнообразных лужиц, в которых он сидел. Их чистые розовые лица казались перекошенными, и каждое объяло фиолетовое пламя. Бедный Тони не подозревал, что его беззвучные всхлипы уже не беззвучные – вот почему все вокруг вдруг резко озаботились тем, что у них под ногами. Он только понял, что внезапный и неуместный запах карандашного дезодоранта «Олд Спайс», «Классический оригинальный запах», – незваный и необъяснимый, любимый бренд его покойного папки-акушера, запах которого он давно не чувствовал, – и писклявое перепуганное чириканье, с которым муравьи Отмены глянцево замельтешили и исчезли у него во рту и носу (естественно, каждый забрал на прощанье еще по щепотке Тони), предвещали какой-то новый и невиданный экспонат на горизонте коридора. В подростковом возрасте у него возникла сильнейшая аллергия на запах «Олд Спайса». Когда он опять обмочил штаны, пластиковое сиденье и пол, «Классический запах» былых времен усилился. Затем вдруг тело Бедного Тони стало распухать. Он смотрел, как его конечности становились легкими белыми дирижаблями, отказались ему подчиняться, отшвартовались и лениво поплыли носами вверх к снопам сварочных искр, лившихся с потолка. Он вдруг перестал что-то чувствовать – или, вернее, почувствовал Ничего, предштормовой покой нулевых ощущений, будто он сам стал занимаемым им пространством.
А потом случился припадок[103]. Пол в вагоне метро стал потолком вагона метро, а Тони оказался на выгнутой спине в водопаде света, давясь от вони «Олд Спайса» и бессильно наблюдая, как раздутые конечности носятся по пространству вокруг, как проколотые шарики. Грохочущее цукунг-цукунг-цукунг доносилось от каблуков его туфель, стучащих по перепачканному полу. Он слышал рык рвущегося поезда – поезда чудовищного, из другого измерения, – и чувствовал, как с ревом рванулась кровь в сосудах, и, пока не вдарила боль, казалось, в голове сейчас наступит оргазм. Голова надувалась до предела и, надуваясь, поскрипывала. А затем боль (припадки – это больно, мало кому из гражданских доводится это узнать) острым носком молотка. В черепе со всхлипом что-то надорвалось и давление устремилось наружу, и что-то вылетело из него прочь. Он увидел, как на жарком ветру из решетки вентиляции на Копли туманится кровь Бобби («Си») Си. Рядом с ним на потолке присел отец, в разорванной футболке без рукавов, расхваливая «Ред Соке» времен Раиса и Линна. На Тони было летнее платье из тафты. Его тело билось без «добра» с верхов. Он вовсе не чувствовал себя куклой. Скорее рыбой на багре. На платье были «тысяча оборок и дерзкий корсаж из вязаного кружева». Потом он увидел отца, в зеленом халате и резиновых перчатках, наклонившегося прочесть заголовки на чешуе рыбы, завернутой в газету. Этого никогда не было. Самый крупный заголовок был ТОЛКАТЬ. Бедный Тони бился, задыхался и выталкивал что-то из себя, тужился, а за трепещущими веками расцветал ярко-красный цвет крови, питающей зрение. Теперь время не столько шло, сколько встало на колени рядом в рваной футболке, открывающей крысьи носики сосков у мужчины, который презрел уход за своим некогда привлекательным телом. Бедный Тони содрогался, колотился, задыхался и трепетал в фонтане света. Он почувствовал в глотке сытный и наверняка опьяняющий кусок мяса, но решил его не глотать, но все равно проглотил, и тут же пожалел; а когда пальцы его отца в окровавленной резине разомкнули зубы, чтобы достать проглоченный язык, он решительно отказался неблагодарно кусать руку, которая забирала корм, а потом без всякого разрешения сверху все же укусил, и начисто отхватил пальцы в перчатке, так что во рту снова оказалось чье-то мясо в резине, а голова отца взорвалась остроконечными усиками цвета, как гибнущая звезда, между поднятыми зелеными руками в халате, и зов цукунга от стука каблуков Тони в борьбе с широкими больничными вытяжками света, на которых были подвешены его ноги, пока на пол, куда был устремлен его, Тони, взгляд, влажно опускался красный занавес, и он слышал, как кто-то кричит «Давай же, э», положив руку на его кружевной живот, и он стал ТОЛКАТЬ, тужиться, и видел, как вытяжки раздвигали его ноги все шире, пока с треском не раскрыли его и не вывернули наизнанку, прямо на потолок, и последний его страх был – папочка с кровавыми руками увидит, что у него под платьем, что спрятано от глаз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?