Текст книги "Дом Альмы"
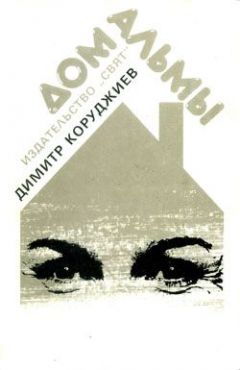
Автор книги: Димитр Коруджиев
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
40.
Днем к нам поступило двое новых пациентов – Карл-Гуннар и Уно. Оба – рослые и крупные. Карл-Гуннар был, вообще-то, здоров, просто решил поголодать в целях похудания. Воспитанный человек с мягкими, даже нежными манерами. Уно – полная ему противоположность, первый швед, который даже по моим представлениям говорит и смеется слишком громко. Я в точности знал, кто из них больше по душе Питеру, но тот ничем не выдал своего отношения, одинаково добросовестно помог обоим устроиться.
Нам никогда не представилось случая узнать, из какого города приехал Карл-Гуннар; никто не приставал к нему и с расспросами о профессии или семье. Так было принято в этом доме… Он тоже нам ничего не навязывал.
Шумный Уно тут же во всеуслышание объявил, что сам он из Стокгольма, владеет небольшим магазинчиком, где продает соковыжималки, миксеры и прочую кухонную утварь. Название магазина: «Доброе здоровье». Мы также были поставлены в известность, что он работает и живет с одной женщиной; в браке они не состоят. Странное чувство вызывала его готовность без тени смущения выкладывать подробности своей жизни где попало: в столовой, на лестнице, на веранде, причем не дожидаясь никаких вопросов. Если же точнее, все это уже казалось мне странным.
Незадолго до ужина Пиа сказала, что, покончив с делами, зайдет ко мне в комнату. Выразила сожаление по поводу вчерашнего, массаж по восточному методу пошел бы на пользу больному суставу. Правда, можно еще помассажировать стопу, там тоже расположены рецепторы, «отвечающие» за все органы человека… Я охотно согласился, мне казалось, что ей хочется поговорить о завещании. Вот только зачем мне это нужно? Почему меня так интересовали отношения Пиа и Альмы?
41.
Их отношения – не мое дело, это я понимал. Понимал также, что мелькнувшая у меня мысль насчет брака с Пиа очень скоро покажется мне анекдотической. Крупные состояния, имущество сами по себе никогда не производили на меня впечатления. Меня всегда устраивали моя квартира и зарплата. (Речь идет не о сознательно выбранной позиции, просто так меня воспитали, в том нет ни малейшего сомнения. Морган, Рокфеллер, даже чей-то преуспевающий австралийский дядюшка – все они воспринимались как персонажи красивых сказок. Вообразить их себе можно, но встретить в действительности – никогда.) Сейчас я жил рядом с Питером: «Все меньше денег, меньше еды, меньше одежды». А если бы мой интерес объяснялся элементарным желанием посудачить, я с кем-нибудь поделился бы пикантной новостью о завещании, хотя бы с Рене. Я же от этого воздерживался. В чем тогда дело? Я думаю, в следующем… Только надо иметь в виду, что такое понимание ситуации тогда у меня едва-едва складывалось…
Вы уже заметили, мое отношение к «Брандалу» определялось не одними лишь заботами о здоровье, хотя именно они привели меня туда. Искусного, бесшумно передвигающегося слугу почти не замечаешь, то же можно сказать о здешнем лечении. Все необходимое я исправно проделываю, но борьба с болезнью не может поглотить меня полностью. А вот иная сущность этого дома меня весьма занимает, ибо она и видима, и невидима: для съехавшихся сюда со всего мира «Брандал» – это Альма и Пиа, но и нечто куда большее, чем Альма и Пиа. Для того, чтобы проникнуть в эту иную, незримую сущность, нет более верного пути, чем понять отношения этих двух женщин. Питер явно не имел ничего против моего интереса, а потому я и считал себя вправе его проявлять.
42.
Вытянувшись на кровати, я положил левую стопу на колени Пиа. Она была в том самом красном спортивном костюме, в котором работала на кухне и в ванной. Щеки ее пылали, глаза то и дело украдкой взглядывали на меня. В них уже набухала первая слеза, да и сама Пиа, такая милая, казалась «рожденной» из слез, я воспринимал ее как легкий силуэт внутри прозрачной капли. Вместе с тем меня не оставляло странное чувство, будто она отдаляется, будто пальцы ее касаются моей кожи не впрямую, а посредством невидимого, загадочного существа. Ее жизнь уже становилась для меня забавной сказкой о несуществующем.
Никак не ожидал, что Пиа будет бросать на меня такие взгляды, оказывать пристальное внимание. Да еще в такой важный, может быть – самый важный для нее день! Неужели пустяковой истории вчера вечером она придает такое значение? Она легко массировала «тазобедренную» точку на моей стопе, когда я осторожно заговорил:
– Позволь поздравить тебя…
– С чем это? – ее палец замер на покрасневшей коже.
– Ну, как же, наследница Альмы!
– Какая наследница?
Я прямо рот раскрыл от изумления: смотри-ка, какой оборот принимает наш разговор, все перевернулось с ног на голову.
– Но она… Она что, не сказала тебе?
– Нет.
И я поведал ей о раннем приходе Питера. «Словом, „Брандал“ будет твоим! Но только почему Альма еще ничего… наверное, вы обе были заняты, так что, думаю, сегодня вечером…»
В окно ты увидел маленькое растрепанное облачко, плывшее низко над водной гладью канала. Выглядело оно таким же растерянным, как ты. Откуда ни возьмись появились огромные ножницы, щелк - и облачко перерезало надвое. Две белых тряпки, вот что от него осталось. Не в силах удержаться в воздухе, они упали и утонули.
– Но я не хочу этого! – вскричала Пиа. – Мои мысли были о тебе, о том, который важнее любого наследства!
Я был там, я слышал ее слова – и их оказалось достаточно, чтобы я снова почувствовал себя на седьмом небе.
– Не надо мне наследства! Собственность порабощает! Всю свою жизнь буду работать в таких домах, как этот, но владеть ими не желаю! Я мечтаю побывать в Америке, в Калифорнии!
– В Калифорнии находится разлом Сент-Андрэ. В один прекрасный день там случится землетрясение и штат просто исчезнет с лица земли, – нес что попало я, на самом деле горя нетерпением, проверить, насколько она искренна.
– Разве можно забивать себе голову такими вещами! Я люблю Альму, но не хотела бы стать такой, как она. Что хорошего в том, чтобы весь день и все отпущенные тебе Богом дни посвящать заботам о собственности?…
– Да, но если дело благородное…
– Я хочу хоть немножко личной радости… Чем больше собственность, тем больше люди отождествляют тебя с нею. Знаешь, мне начинает казаться, что дома, вроде нашего, вообще никому не должны принадлежать. Да, наследник мог бы продать «Брандал», но это как-то непорядочно. Альме хочется, чтобы ее начинание было продолжено. И почему она плакала? О чем ей было плакать?
Наши лица горели. Пиа достойна всяческого восхищения… А правда, почему Альма плакала? Что оплакивала? Что это – слезы радости или муки? Возможно, старческая сентиментальность… Как все смутно. А как хорошеет Пиа, когда сердится! Мне и в голову не приходило… Я встал и расцеловал девушку.
– Пиа, ты прекрасна! Я люблю тебя!
Схватив костыль, я заковылял вниз по лестнице. Где Питер?
– Она отказалась от полутора миллионов ради свободы! – воскликнул датчанин, выслушав меня. – Такие люди встречаются один на миллион! Теперь она достойна крыльев!
Никогда прежде его голос не звучал так гордо и торжественно.
43.
– Милые мои! Оба вы психи!
Тихий крик Пиа; Петер и я. Мы стояли рядом с ней у кастрюль с картофельной водой. (За нашими спинами Альма и другие готовили завтрак.) Мы еще и еще раз твердили, что ее поступок достоин восхищения.
– Психи, психи сумасшедшие вы оба!
Питер прекрасно понимал: говоря о Калифорнии, она может иметь в виду как реально существующий штат, так и любой другой уголок мира, любой островок в океане.
После завтрака мы с Питером и Пребен пошли на прогулку. Метрах в ста от дома пожилой человек старательно запирал ворота. На секунду его заслонило от нас «вольво», которое он вывел из ворот, потом мы оказались позади мужчины. Он обернулся, пристально посмотрел на меня, перевел взгляд на Пребена. Однако Питера, как мне показалось, вообще не заметил. Вне «Брандала», вообще вне того ограниченного участка пространства, которое он превращал в подобие «Брандала», Питер становился самым скромным и незаметным обитателем мира.
44.
Мы так и не решились расспрашивать Пиа о деталях ее разговора с Альмой. Следовательно, застраховали себя от ненужных подробностей.
45.
За эти дни я прочитал и третью книгу из своего чемодана – роман, посвященный жизни в Швейцарии. Автор ужасно страдает, т.к. нигде, даже в хваленой Швейцарии, не может найти того уровня демократии, о котором мечтает. Он мучается, тонет в хаосе чувств – и ждет, чтобы общество исправилось, тем самым исправив и его. Но общество, говорит он, никогда не исправится. Каков же итог? Автору (а таких, как он – легион) и в голову не приходит, что общество начинается с его собственной личности.
46.
Мы отошли примерно на километр от «Брандала», когда справа от дороги, на берегу канала, увидели маленький пляж. К нему на большой скорости свернули три «вольво». За рулем – юнцы лет пятнадцати-шестнадцати, на задних сиденьях – русоволосые девицы, бутылки, сигареты. Молодежный мир Запада. Каким образом эта наглая самоуверенность с годами превращается в истерическую мнительность, подобную той, что присуща автору(и, одновременно, герою) книги о Швейцарии, о которой я упоминал? Налицо вопиющая ошибка, причем вопиет она так, что никаким автомобильным рыком не заглушить.
– Все эти дети, – задумчиво молвил Пребен, будто угадав мои мысли, – объездят на скорую руку Европу, уже в двадцать лет доберутся до Штатов и Азии. Но так и пройдут через всю свою жизнь всего лишь туристами…
Пребен ронял слова спокойно, не вкладывая в них излишней страсти. (Явление приняло такие размеры, как бы заявлял он всем своим видом, что мой гнев не в состоянии ничего изменить – только напрасно потеряю силы.) «Так ли уж необходимо рваться на Ганг? Попробуй увидеть свой Ганг там, где ты есть в настоящий момент». Странное дело… мне казалось, я его понимаю. Диалог с себе подобными можно вести и молча, кому из нас не приходилось в этом убеждаться. На работе, в служебном кабинете, куда втиснуто пять столов, я не прерывал связи с коллегами, даже углубившись в свои бумаги. Но в те времена не могло быть и речи о какой-то связи между мною и таким человеком, как Питер, почти в полной мере это относится и к Пребену. А сейчас, шагая бок о бок с ними, я слышал, как не только они, но и дикие гуси, беззаботно покачивающиеся на глади канала, придорожные сосны и само солнце нашептывают мне: «Попробуй увидеть свой Ганг там, где ты есть в настоящий момент». За этими словами – ничто иное, как объединявшая нас вера: когда-нибудь для человечества наступит эра всеобщей телепатии, с глаз людей наконец-то спадет пелена. Телефоны, письма, легковые автомобили, поезда и самолеты – все это будет никому не нужно. Новый способ общения победоносно зашагает по миру.
– Пребен, у тебя датское имя?
– Да, это древнее имя.
– Викинги были датчанами?
– Да, датчанами.
Викинг… Пребен сдержан, точен, порядочен и старомоден. Нынче в моде все спортивное, даже пижамы: но Пребен, следуя в ванную, обычно бывает облачен в традиционный полосатый ночной туалет. У него даже джинсов нет, вообще ничего модного. «Сколько дней прошло с тех пор, как ты приехал?» Он смотрит на часы: «Через час станет семь». «Il est parfait!» [7]7
Он совершенство! (фр.)
[Закрыть] – как-то воскликнула Пиа. «Могла бы ты влюбиться в Пребена?» «Нет». Но есть женщина, которая влюбилась, и они уже десять лет вместе.
– … однако ничем друг друга не связывая. Брак – ужасный предрассудок. Если один из нас решит уйти, другой не станет ему препятствовать.
– Викинг? – говорит Пребен. – О, это слишком грубая романтика, она органически мне неприсуща. Викинги были жестокими людьми…
А брак, значит, ужасный предрассудок… Старомодный Пребен на улицах Копенгагена, мимо катятся детские коляски, вместо погремушек перед глазами младенцев болтаются осколки пивных бутылок… Поди, разберись, в чем истинная свобода: в осколках пивных бутылок или в сдержанности Пребена?
– Пребен, на вид ты настоящий джентльмен…
– Что ты, я совершенно заурядный человек.
Он начинает рассказывать мне о Камю. Потом о Хайдеггере. (Где-то когда-то я слышал эти имена, но, видно, их шепнул мне чей-то слабый голос, причем один-единственный раз, а ухо мое оказалось невосприимчивым.) Пребен не получил бог весть какого образования, работает в конторе по перепродаже подержанных автомобилей. Есть у него друг, с которым можно было бы потолковать на темы философии? Нет. А зачем, разве не достаточно просто читать философские произведения?
(Похоже, меня, как горбатого, только могила исправит. Урок деликатности, полученный в «Брандале», я, оказывается, не усвоил. Питер наклоняется и срывает пару широких листьев, высунувшихся из травы. Это для меня: я обкладываю листьями щиколотки, они у меня вспухают от ходьбы. А ведь он нагнулся специально – чтобы не встретиться со мной глазами.)
– Ребенка? Нет, ребенка я заводить не собираюсь. Зачем? Столько людей делают это вместо меня. В Азии и Африке рождается слишком много детей, они голодают; мой ребенок объел бы нескольких из них – в Дании питаются солидно. Ты, может, считаешь, что я неправ, но на этой земле все взаимосвязанно!
– А так Дания обезлюдеет!
– Этого ей все равно не избежать – из-за чувства вины. Пользующийся привилегиями постоянно опасается возмездия. Ничто не принесло бы Дании большего блага, чем равновесие, всемирное равновесие.
Не сговариваясь, мы втроем поворачиваем обратно.
– Мне иногда кажется, – говорит Пребен, – что перемены к лучшему начнутся в мире тогда, когда небольшие группки людей в разных его концах попробуют жить по-новому. Попытки – пока безуспешные – в этом направлении уже делались, но нужно предпринимать их снова и снова…
– Небольшие группки? – Питер пересчитывает нас: – Один, два, три…
Вот тебе и скромняга Питер! Таким я его вижу впервые. Мимо нас мчались все новые машины, но похоже, к пляжу они спускались с выключенным двигателем: после слов Питера вокруг воцарилась полная тишина.
47.
«Ты где живешь, Питер?» «У сестры, вместе с ней и тремя ее детьми. Имущества у меня нет». «Но ведь все те, кто тебя окружает, высоко ценят имущество, не так ли?» «Да». «Не станут ли они презирать тебя?»
Что думают обо мне другие?… Этим вопросом может задаться тот, кому ответ небезразличен. Но если забыть его, перестать им интересоваться, вопрос тоже перестанет при ходить в голову.
Питер – человек, которого каждый может взять к себе в дом. Вернее, вообразить, будто взял его к себе.
48.
Ноги сами понесли меня в холл, а не как обычно на кухню. Там, У большого стола, я застал Альму и Питера: Альма пересчитывала деньги. Вдруг я понял: это его плата, он, наверное, собирается уезжать. Испытывая смутную тревогу, я вышел на кухню и, не проронив ни слова, принялся помогать Пиа и Рене. Странно, но мы с Питером ни разу не говорили о том, сколько он собирается пробыть в «Брандале». Я воспринимал его как часть этого дома, как нечто, без чего этот дом вообще немыслим. Возможно, корни моей убежденности в том, что мы никогда не расстанемся с Питером, были еще более эгоистичными и лживыми – должно быть, я подсознательно считал, что уж меня-то Питер не бросит, останется в «Брандале» до тех пор, пока не придет пора и мне уезжать. Какой самообман! Ничего удивительного, если каждый из нас по отдельности думал так же. Питер умел внушить собеседнику чувство, что в нем нуждаются, а в результате у того в сознании прочно поселялась мысль: «Нам давно надо было встретиться». Возникала иллюзия, что Питер живет для тебя, а не для себя; для других тоже, но в меньшей степени.
Едва дождавшись завтрака, я нетерпеливо спросил Питера о его планах. Он улыбнулся:
– Уезжать пока не намерен…
Оказывается, денег у него было ровно на тридцать дней, и эти тридцать дней прошли. Он собирался уехать сегодня же утром, как только расплатится с Альмой. Однако она, пересчитав банкноты и заперев их в ящик стола, предложила Питеру остаться – совершенно бесплатно – до тех пор, пока он сам не захочет покинуть «Брандал».
«J'aime Alma [8]8
Я люблю Альму (фр)
[Закрыть]. – как-то сказала Пиа, – J'aime Alma.»
Мне тогда впервые пришло в голову, что атмосфера того или иного места может выразиться в чем-то совершенно конкретном. Такой конкретностью, ясно свидетельствовавшей об атмосфере «Брандала», был разговор между Альмой и Питером.
Альма разрешила ему остаться даже на каникулярный период, с двадцатого июля по первое сентября, когда все разъедутся и только Тура останется сторожить дом. Он в свою очередь предложил мне составить ему компанию. Я-то ничего не имел против – в августе мои всегда уезжают на море. Но вот деньги? Они ведь у меня тоже на исходе…
– Это я устрою, Альма тебя любит.
Мне стало весело, я огляделся. Слева от меня, рядом с Грете, сидела незнакомая девушка.
– Это ее дочка, – голос Питера как бы следовал за моим взглядом. – Зовут Мариэн. Приехала навестить мать и решила остаться на некоторое время.
Но все же почему он не сказал мне заранее, что скоро ему уезжать? А Мариэн красивая…
49.
Он обернулся. Она лежала в шезлонге перед его дверью. Ярко освещенная солнцем, ее грудь как бы парила над верандой, вот-вот грозя ворваться к нему в комнату.
Он шагнул вперед: всего три шага -он снаружи. Придвинул шезлонг и вытянулся рядом с телом Мариэн. (Состоящее из округлостей, оно матово блестело.) Остальные шезлонги были расставлены очень удачно: занявшие их, в том числе и Грете, лежали к ним спиной; да и солнце пекло, как никогда, так что все нежились с закрытыми глазами.
«Двадцать пять дней голодания… Так с каких глубин поднялась во мне эта сила? Я новое, незнакомое самому себе существо, черпающее энергию из воздуха». Должно быть, голод порождает эйфорию, от этого впадаешь в буйство, в транс, и кажется, будто так будет до самой смерти. Мариэн немного говорит по-французски. Слова не имеют значения, но он хорошо воспитан и старается их понять. Слова – тропка к телу, ничего более.
– Болгария?
– Да. Копенгаген?
– Да.
Она только что получила среднее образование, будет чертежницей. Уже нашла работу, это такая радость; приступать надо через месяц. В классе было тридцать человек, работу нашли всего восемь. Другие двадцать два? Двенадцать из них уже покинули страну. В Дании безработица – серьезная проблема, в Швеции с этим куда легче.
Девушка сгибает в колене правую ногу, пяткой упирается в сиденье шезлонга. «Безработица…» До чего странное слово… На щиколотке блестит цепочка, надо ее потрогать.
Он протягивает руку, легонько касается кожи. Слова излишни.
Рука добирается до колена, ползет дальше – вот она уже на бедре Тело идеально гладкое.
Как у Грете дела с коленом?
С коленом… Вопрос порожден прикосновением, это вполне естественно.
– Маме делали три операции, первые две были неудачны. После третьей она, хоть и с палочкой, может ходить, но опухоль не спадает. Похоже, и здешнее лечение не поможет, слишком поздно.
«Мама», «поздно» – слова какие-то важные. Откуда она их знает? Цивилизация чудесная штука. Она дарит телам умение произносить «мама». Но что это? Пот, его бисеринки сплошь покрыли гладкую кожу. Гм, рука…
– Я вспотела, пойду приму душ.
– Где вас устроили?
– На верхнем этаже, комната восемь.
– Я к вам приду вечером, часов в десять…
– …хорошо.
Мариэн исчезла, и он расслабляется. Блаженство и напряжение. (С десяти до десяти.) Надо думать о чем-нибудь другом.
50.
Нет законов морали. Я возвел очи горе – наверное, пытаясь обнаружить источник. Вижу огромное облако в форме тела.
51.
В девять вечера я просто лежал, ничего не делая. Стены комнаты так и пульсировали от моего возбуждения. Неожиданно для самого себя я вскочил и, не сознавая, что делаю, Уселся на ближайший стул.
Уселся на стул! Да еще довольно резво! Сустав мне это позволил!
Я быстро спустился в холл. Там никого не было. Из кухни доносились голоса. Пройдя через столовую, я отворил дверь в прихожую и столкнулся с Рене.
– Рене, посмотри!
Придвинув тот стул, на который всегда опирался, когда ел стоя, я сел. Она застыла на месте:
– О…
С изумлением я увидел, что из глаз у нее покатились слезы. Рене плакала все сильнее. Она была нарядная: красивые брюки, блузка в горошек, тонкая косынка на шее. Все это я заметил уже потом. Наверное, куда-то собралась.
Рене склонилась ко мне, обняла, расцеловала.
– Спасибо тебе, – срывалось у нее с губ, – спасибо тебе…
Потом она побежала на кухню, позвала Альму.
– О, – сказала Альма, – о, май дарлинг… Она тоже не скрывала слез.
Я сидел с глупой улыбкой, не смея шевельнуться. Неужто моим страданиям приходит конец? Сильнейшее потрясение сделало меня наивным, мой ум недоумевал: почему не распахнутся все двери, чтобы пропустить ликующие толпы, несущие факелы и поющие гимны?
«Люди, неужто судьба случайно обрекла меня на такие муки? Они длились день за днем, год за годом. Никому не пожелал бы я таких испытаний. Я был миниатюрной копией Спасителя; я был прикован, чтобы кто-то другой получил возможность двигаться. Но вот, доля моя изменилась!»
Но где же толпы?
Рядом только Рене, она одна. Поставив передо мной полную тарелку супу (морковь и крапива), она придвинула соседний стул и наблюдает, как я, давясь, пожираю подарок Альмы в честь первого успеха. Я успел забыть, что такое голод и что такое настоящая еда, но первая же ложка все ставит на свое место. Ни слова больше. Говорить и слушать я не намерен. Суп – вот подлинный источник жизни.
Последняя ложка. Огромное чувство вины перед Рене. (За возбуждение свое, за Мариэн… Ведь мне помогло сесть возбуждение…) Беру ее за руку:
– За что ты меня благодаришь?
– Так ведь сегодня четверг, мой выходной. И я поехала в город, чтобы полить кактус, другого дела у меня не было. Весь день молилась за тебя доброму Богу, просила помочь. А поблагодарила тебя за то, что Господь услышал мой голос.
Тяжелейшее чувство вины. Бедная Рене, как ты заблуждаешься… Я выродок, и исцеление даровано мне адом; теперь плачу я.
– Не плачь, не надо, – вытирает она мне слезы, – ты заслужил это. Утром я звонила маме в Северную Швецию, просила тоже за тебя молиться. Она ведь каждое воскресенье ходит в церковь. Вот и сегодня, перед тем, как вернуться, я говорила с ней, просила не забывать о тебе. Я привезла тебе кассетофон и десяток кассет почти все – классика.
Я целую шершавые костяшки ее пальцев. Я уничтожен, раздавлен.
– До недавнего времени, до этой зимы, я жила, как и все
– потребительски. Думала только о деньгах и вещах, хотя денег у меня никогда не было. Как-то вечером, сидя в одиночестве на кухне, почувствовала себя… такой одинокой и жалкой… как будто собственное сердце предъявило мне обвинения… Прежде я не верила в бога, но на следующий день записалась в одну маленькую христианскую секту. Так и здесь, в Стокгольме, у меня появилась семья. А благодаря единоверцам я вновь обрела свою прежнюю семью. Снова стала дочерью своей матери, стала чаще ее навещать. Самая важная обязанность человека – не позволять душе своей иссохнуть. Альма и Пиа, ты и Питер – никто из вас не верит в бога, но я вас люблю. Альма утверждает, что идет путем, отличным от христианского. А Питер как-то заметил мне в разговоре, что надо воспринять и внутренне осмыслить лучшее, что есть во всех религиях, причем не обязательно быть религиозным. Какой он интересный, этот Питер, вроде ничего особенного не читает, но духовно он выше многих.
– Я тоже тебя благодарю.
Рене никогда не узнает, что моя благодарность относится единственно к ее рассказу, а не к тому великому мгновенью, когда мне удалось сесть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































