Текст книги "Ода воздухоплаванию: Стихи последних лет"
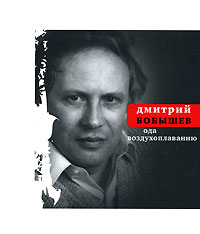
Автор книги: Дмитрий Бобышев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Гибель «Колумбии»
Там человек горит, и вот – сгорел.
Семь человек сгорели.
Обломки корабля, огарки тел —
земля хотела бы скорее.
И стряхивает их надмирный горб,
(дымит от этих букв бумага),
и мог бы Супермену – Святогор
помочь, но как? Земная тяга
такая, что ему не взять.
Скользят и руки у Атланта.
И ясно, что и было-то нельзя,
но и – не улететь обратно…
На высоте последний возглас «Ба!»
был заткнут воздухом стотонно,
и с неба пала яблоком судьба,
как у Нью-Йорка, нет – Ньютона,
нет, у – летучих: и мужей, и жён,
что утром там сгорели!
И сны горят: ведь невесомость – сон
над пропастью и в ускоренье.
Ещё живых костей и тверди – весь
вдруг навалился разом
расплавленный и неотвязный вес,
и лопнули корабль и разум.
Сквозь плазму нам теперь летать ли, нет?
Глядеть нам долу ли, горе ли,
и рваться ли из тягот и тенет?
Там человек…
Там семеро сгорели.
Шампейн, Иллинойс февраль 2003
Молодая звезда
Своим
не хватило, —
о будущих людях жалеем
и делимся сердцем:
«Дряхлеет Светило,
и станет Земля мавзолеем,
а в нём
не согреться».
Свой век торопили:
«Ослепнем в потёмках,
когда энтропия
сожрёт и сердца, и ресурсы…
И – будем в потомках
без Солнца.
Тут всё и стрясётся.
Стрясутся
все худшие беды».
Но хватит об этом!
И лучшее средство
от смерти
огромно восстанет:
Всемирное сердце
ответом и светом
из тени и тайны.
Взбираясь
на дикие кручи:
«Всё – в лезвиях, в крючьях,
как витязь?
Всё – в протуберанцах
и пульсах, —
на горе, нагое, на радость?»
– Дивитесь!
Пусть
будет сегодня:
глаза миллиардов глодая,
на небо субботне
зардеться
взнесётся
звезда молодая
по имени Солнце,
по имени Солнце,
по имени Сердце.
Шампейн, Иллинойс, 27 апреля 2002
Леди Боинг
Высоко пепелится
белёсый по синему след.
Летит неотмирная птица:
то ли есть она, то ль её нет.
Просто ль сунута флейта
Ариэлю для губ, чтоб играл,
или, может быть, это
мозговой мой изгиб, интеграл?
Вот и след разметало
по периметру бледных небес, —
сплав пластмасс и металла,
дух из бездн?
Не скажи, миллиардная штука, —
мы летали не раз.
Неужели ты кукла, ты шутка,
неужели не гулко и жутко
сердце бухало в нас?
Залетая
за оранжево-жаркий рубеж,
золотым залитая,
жёлто-рыжей ты делалась, беж.
В мегаигрища мозг вовлекая,
гуляла в моей голове.
И, лелея твоё великанье,
как любил его я, Гулливер!
И откуда выпрастывал силы?
А землились мы с ней
мимо белых и синих,
чуть не чёрных огней.
Мимо тёмно-хвостатых
оперений наш плыл фюзеляж,
оставляя гигантку в остаток:
– Слазь, летатель, земля ж!
Разорвала разлукою тело
на четыре огня
и в ядре громовом улетела
от меня.
Шампейн, Иллинойс, январь 2004
Ода воздухоплаванию (в 103 отдельных и совмещённых частях)
Когда огромный вздох слетает сверху,
тот звук не застаёт меня врасплох, —
душе уже не жаль за жизнь-помеху…
Но то – не ангел дышит и не Бог.
1
То – над листвой орехов и платанов,
поверх читален, спален-дормитор,
и яр, и сюр, голубизну глотая,
плывёт – на четверть неба помидор.
С куста ль сорвался, вдув охапкой воздух,
пузатый – так, что даже слышен хруст,
и хвост зелёный не забыв по сходству
с пунцовым овощем? Каков же куст?
Таков и плод! Под выхлопы пропана
заставил запрокинуться наверх:
пусть не сердца – глаза, – а не пропала
попытка оребячить вся и всех.
Не надо ни рубить, ни мять в турбине,
ни скорости крылить и оперять —
громадно и прозрачно теребимый,
лети, лети, пузырь и аппарат.
Суть – сбоку, где написано «Garsia».
Реклама! Но возьми себе на ум:
Коммерция – рискова и красива,
и сам парит в корзине толстосум.
На то и помидор, что это – пицца
с томатной пастой, сыром, колбасой
мечтает с кошельком совокупиться,
рты опалив счастливчикам собой.
Пожар земных страстей залить бы пивом
прохладным, и, воздушное, не ты ль
неспешно приближаешься?
2
Нет, с пылу
не ту я ждал гигантскую бутыль.
Бурбона «Дни былые» мы не станем
ни пробовать, как ни заманчив он,
ни воспевать, поскольку смыслом тайным
(всё тем же!) слишком густо напоён.
Что было в дни былые – подвиг, дерзость,
а после стало прахом, – вдруг и враз
вплывает ярким яблоком из детства…
Но только – как пародия и фарс.
3
Как это облачко, что с небосклону
не слазит, брюхом пучится из брюк,
вздувается… И вдруг – печальный клоун:
слеза под глазом, красный нос разбрюк.
Коко, да это ты ли, плут? Откуда?
– Цирк прогорел!
– Каких помоек из?
Обидели фагота-баламута,
и вот летит, пофукивая, вниз.
4
Но, если звук фанфарный выдуть зримым,
то здесь он – оком по небу пошарь,
и – куполом сверкнёт в глаза разиням
тугой, продолговатый к низу шар.
И цвет его – слепой во тьме увидит!
5
А вот веретеном раздутый гол,
забитый Голиафу в лоб Давидом
оранжевым по синему: футбол.
6
А этот – без примет, и в чёрном, некто —
не призрак ли? Его уже, боюсь,
в потёмках у секретного объекта
однажды застрелила Беларусь.
Теперь он здесь! А щёлкну объективом:
проявится ль? И если он исчез,
то значит, был-не-был, но стал фиктивен:
одно из неопознанных существ,
подмога нашим «Ангелам и силам»!
7
Да всё тут – сверхъестественная явь:
и даже возбуждённо-вздетый символ —
летит сосиска, в булочке застряв.
Народен этот образ и эпичен.
О чём он мыслит, по небу ходок?
О пиве, спорте, сексе и о пище —
все воплощает радости hot dog.
8
Все слуги королевские подмогой
упавшему, но – кверху! – со стены;
взлетая, перевёрнут гоголь-моголь,
и только пятки в воздухе видны.
9-96
О нет, не только! Формы, краски, пятна:
то в арлекинных ромбах, то в спираль
закрученно, то веером – обратно,
то, заглянув с павлиньего пера,
до дна души в тебя проникнет око…
И ты смотреть умей зеницей птиц:
глядишь на окоём легко-высоко,
и тяжести земные никнут ниц.
97-102
Фазан-петух летит, горя, как феникс.
Орёл, паря, становится горой,
в чьей глубине просвечивает оникс.
Не странно ли над прерией порой?
– Не страшно ли, наездник аппарата?
Ему (иль – ей!) нужна не только прыть:
спуститься, марку сбросить в цель куда-то,
найти струю и снова воспарить.
Летят планеты, инопланетяне…
103
Кто – эта? В ней всё ладно, всё с руки.
Туда зачем-то сердце так и тянет…
На выпуклых морях – материки:
Америки фигуристые стати.
Австралия-коала смотрит вниз,
Европы виноградный лист (а кстати,
и Африки с неё свисает кисть).
Левиафаном – Азия с Ионой,
бурчащим в животе её… Маня,
спускается, но лишь на миг, и – вон он,
уносит чей-то вопль: – Возьми меня!
Шампейн, Иллинойс, сентябрь 1998
Счастливый человек
Счастливый человек поцеловал в уста
Венецию, куда вернулся позже.
Такая же! Касаниями рта
ко рту прильнула тепло-хладной кожей.
Приметы на местах. Лев-книгочей;
зелено-злат испод Святого Марка,
а мозаичный пол извилист и ничей:
ни Прусту, никому отдать его не жалко.
Ни даже щастному счастливому себе.
Или – тебе? Поедем «вапореттом»
и вверим путь лагуне и судьбе,
и дохлым крабиком дохнёт она и ветром.
По борту – остров мёртвых отдалён:
ряд белых мавзолеев, кипарисы.
Средь них знакомец – тех ещё времён —
здесь усмиряет гневы и капризы
гниением и вечностью. Салют!
Приспустим флаг и гюйс. И – скорчим рыла:
где море – там какой приют-уют?
Да там всегда ж рычало, рвало, выло!
Но не сейчас. И – слева особняк
на островке ремесленном, подтоплен…
Отсюда Казанова (и синяк
ему под глаз!) в тюрягу взят был, во плен,
в плен, под залог, в узилище, в жерло, —
он дожам недоплачивал с подвохов
по векселям, и это не прошло…
И – через мост Пинков и Вздохов
препровождён был, проще говоря…
А мы, в парах от местного токая,
глядели, как нешуточно заря
справляется в верхах с наброском Рая.
Она хватала жёлтое, толкла
зелёное и делала всё рдяно-любительским,
из кружев и стекла,
а вышло, что воздушно-океанно,
бесстыдно, артистически, дичась…
Весь небосвод – в цветных узорах, в цацках
для нас. Для только здесь и для сейчас.
В секретах – на весь свет – венецианских.
Шампейн, Иллинойс, май 2001
Похищение Европы
На западе сердца
бродит сияние:
на западе солнца —
пульсов слияние,
громосмешение,
коловерчение.
Вся жизнь – мишенью,
жертвой вечернею…
Или во взмахе
молний, в бреду ли
Сафо с Ахматовой
любовь придумали?
В строку двухстопную
войдя внезапно,
бык-бог Европу
везёт на запад.
Валы Атлантики
встают атлетами
и опрокидываются
акробатами.
Нимфьи прихоти,
скотьи похоти,
на западе слуха
дальние грохоты.
Ритмов двоение
и единение:
эхо-зеркальце
в стукоте сердца.
И близко – сколько их! —
почти как в фильме:
быстрые, скользкие
прыжки дельфиньи.
В пенном ропоте
валов немереных
бык Европу
везёт в Америку…
(Вычуры похоти,
божьи прихоти,
ражие выходки
с рыжеватою!)
…Где на ложе
она возляжет
с материками
Америк схоже, —
исполнить меру
и в рифму спеться
на западе мира,
на западе сердца.
Шампейн, Иллинойс, май 1999
Диана Англии (Спенсеровы строфы)
Теперь вы стали «Королева фей»
(иначе не достичь такого сана,
чем смерти уступив её трофей),
британская любимица Диана…
За то, что подходили идеально
для роли и, сыграв её всерьёз,
свои дела, делишки и деянья
Вы подвели к черте – лавины роз
Вам поднесла страна. И – океаны слёз.
Пока над Вами Виндзоры мудрили
и заточалась лёгкая краса
в тяжёлые безвкусные мундиры,
Вы, Англии улыбка и глаза,
сияли Вашим подданым из-за
плеч мужа или царственной свекрови.
И здесь впервые сдали тормоза…
(Так, прерванную вдруг на полуслове,
простую Вашу речь продлила струйка крови.)
Мир – чёлкою очаровать. Родить
двух пареньков, пригодных для престола.
Но пресный муж то занят, то сердит,
соперница уже полупристойна.
В газетах – дичь придуманных историй,
и мелодрама вышла из границ.
Уста дрожат. В конце концов исторгли
разрыв, протест! И вот: «Прощайте, принц!
Я буду ужинать с другим в отеле „Ритц“».
Как уязвима яркая приманка!
Парижем пусть обидчик умалён.
А с блицами – убийцы и приматы:
«Принцесса в спальне» – верный миллион.
И королевским пьяные бельём,
за вспышки: «На горшке» и в том же роде:
«Погоня», «Крах», «Затравленаживьём»
получат враз и гонорар, и орден…
Феллиниевый гнус, фото-москитов орды!
От них – в тоннель, и – в столб, и тут —
мертва.
И «мерседес» как мятые перчатки.
«Leave me alone» – последние слова…
С каких же пальцев сняты отпечатки?
Лишь тот, кто невиновен, отвечает.
Зато какое шоу, грандиозно
и оно затоплено печалью:
от «Глобуса» – один – лавины роз
актёр и зритель со слезами преподнёс.
Шампейн, Иллинойс, сентябрь 1997
Anno Domini MCMXI
Женщина. И если даже – «видом
величавая жена»,
храбрость выкажет и тем, как выйдет, —
сколь и перед кем обнажена.
И ещё: Париж перепарижить!
Пусть не угадаю – сочиню:
лучшего (посмертно) – я при жизни
одарю слепящим «ню».
(Молотом тысячелетья
сплюснуть дряхлый век;
пятками – навыхребт, абы чем-то
выразить свой свих.)
Может, этого она хотела,
а не вскользь, не в меж
раздвоившегося тела —
ражую чужую дрожь…
Тут же – муж, совсем не одурачен,
просто с толку сбит, что нет
превосходства перед новобрачной,
и – в стихах. И – в Африку билет.
Срыв. Хотелось душной крови…
– Вы? Туда? В – на глобусе, вон там?
Завтра же тому, кто вровень,
наготу и Африку отдам.
Где уж недо-худо-футуристам!..
Загодя, «Собаки» – до, нагой
взять себя – и выставить
грудью, голою ногой…
Руки и сосцы – горе, где гелий!
Более – раздвигом ног на миг —
на голову вставший гений
оказался скрыт как нет – для них.
Скромницына гели-гени-ально-есть!
Её огнём она
вплавлена в себя, и стала сталь,
но розой тронешь, и – нежна.
Леля, тая, видела во взгляде,
розы вдруг роняла на постель.
Женщина… Тебя, отжившей, ради
я живу. А за других – прости.
Шампейн, Иллинойс, август 1997
Внезапно голос…
Вид обесточенного монитора
невыносим для меня.
Я – торк!
И тут на лице его монотонном,
северо-западном – юго-восторг.
По сети сияющей паутины…
Посещаю…
Шасть – и в машинный мозг,
мышью в занавешенные притины,
отомкнувши клавишами замок.
Я брожу, пытаю мой путь и тычу
(методом ошибок и проб)
в нечто почти насекомо-птичье:
эйч-ти-ти-пи, двуточье, двудробь.
И заимствует ум
у зауми то, что
было б Кручёныху по нутру:
дабл'ю, дабл'ю, дабл'ю.
Дот (точка).
Комбинация букв. Дот – ком?
Нет – ру!
И – в некое не совсем пространство,
где ветер – без воздуха, со слезой,
где чувству душно, уму пристрастно,
а с губ не слижешь ни пыльцу, ни соль.
Но так ярмарочно-балаганны
выставляющиеся здесь напоказ
виртуальные фокусники, хулиганы,
стихоплёты и грешный Аз.
Где хватает за полы товар двуногий
с бубенцами,
цимбалами на пальцах ног:
нагие юноши-единороги
и девы, вывернутые, как цветок.
Это – Индия духа? Африка хлама?
Гербарий чисел, которых нет?
Наступающего Армагеддона реклама,
или пародия на тот свет…
А не это ли часом и есть он самый,
где от счастья смеётся трава, —
Рай?
Или: «Откройся, Сезам», и —
Ад,
где – гумилёвский «Трамвай»?
…Внезапно голос, вне его тела,
запел не о смерти, но о той,
что чайкой в сердце ему влетела
и, тоскуя, мучила красотой.
Незадолго перед концом и,
как бы чуя, что всё – тщета,
эту рыцарскую канцону
на валик с воском он начитал.
Артикулировал, даже выл, и:
«Мне душу вырвали…» – он горевал.
Между Ржевкой и Пороховыми
вырыт ров и накопан вал…
Да что они могут, эти власти,
против него, стрелявшего львов, —
изгнать? казнить?
Конечно, несчастье…
Но неодолима его любовь.
И да возносится ей осанна!
И пускай оперённо летит строка
по другую сторону
смерти и океана
и, вот оказывается, через века.
Шампейн, Иллинойс, ноябрь – декабрь 2002
Ночь после Рождества
Лет шести приготовишка,
а как выйдет на эстра…
Даже страшно, странно слишком —
макияж, прожектора…
А ведь баиньки пора!
Но в недетский час играет,
взор зазывно опустив,
кукла, бабочка и краля:
адамантов пыхнут грани,
и пройдётся под мотив.
И зачем? Чтоб кроха точно
только первой быть могла,
побеждать умела прочих:
взять их за– и все дела…
Даже папу – бла-бла-бла.
Мама, злясь, противно колет;
папочке не пустяки
разузнать, жюри какое —
лбы в буграх, а пальцы в кольцах —
с крупной проседью дядьки.
Все свои. Но та их держит,
отрабатывая приз,
сквозь блескучие одежды
и в купальнике, без риз, —
блазнь просвечивает из.
Златоглазка, лилипутка,
поздних похотей мишень,
морок – в мозг и в пах… А ну-тко,
что внутри? И жгуче-жутко:
не машинка ль? Неужель…
То – любовь… У папы прямо
сердце пальчиками брать
можно. Быть главнее мамы!
А ещё и сводный брат
гладит ус и крутит прядь.
Огоньки – деревьев души.
Санта в красном. «Джингл белл».
Из саней – и шепчет в уши:
– Тут ступеньки, ниже, ну же…
(А удавка – уже, туже;
винный погреб ал и бел).
«Джингл, джингл, джингл белл».
Шампейн, Иллинойс, февраль 1997
Стихи для Юлии
Эмиль Бурдель, поклонник Айседоры,
поймал неуловимую пером,
нанёс порывов бурные узоры,
извивы тела, взмахи пройм
одежд летучих, завихренья, складки,
способность в мановении любом
застыть, как миг – и гётевский, и сладкий.
Листы он переплёл в альбом.
Там розы рук растут пучками жестов,
и лилии босых и сильных ног
цветут о чём-то ни мужском, ни женском.
(Сергунька это разве мог?)
Дух чуток в резвом теле, но бессмертья
у плясок нет, что линия хранит,
она мгновенья нижет, разумея
времян связующую нить.
«Лублу…» – сквозь сон и смутно, и картаво
лепечет тёплая, творцу, а он
в мозгу клокочущем родит – кентавра?
Героя? Вот – Геракл, Хирон…
Когда же плавка пламени достигла
(работать с ним – литейщикам беда!)
он в тигель – из какого-то инстинкта
снял с пальца перстень, и – туда.
Из бронзы оба. Но один поранен
стрелой другого. Яд втравился в медь.
Он двуприроден в этой древней драме:
бессмертный, хочет умереть.
Французский парк средь кукурузных прерий…
В конце аллей, как жалоба, как бред,
бессилен, большерук, глаза в страданье вперив,
стоит кентавр. Автопортрет?
Шампейн, Иллинойс, октябрь 1997
Университетская богиня
Ах, это, братцы, о другом…
Б. Окуджава
Фонтан иссяк. Бегуньими ногами
уже не подмывается в воде
предмет острот, охотница нагая.
По холодам – какое там биде…
С утра да с недосыпу – не до шуток.
Студёно занимается студент —
ну, точно, как заря. А в промежуток
меж тусклых зорь ещё корпеть, сидеть…
И впрямь – куда все девы подевались?
Одна, и то с трудом, глядит из бронз,
как на неё косит преподаватель
украдкой… А о чём он там? Вопрос.
О том ли, что заигрывать с богами
опасно посейчас, что вечен миф?
Или об: – Эх, махнуть бы на Багамы,
и – жизнью – в брызго-визговый подмыв!
Не то – весной. В девчоночьем обличье
разоблачит богиню только лавр,
да сногсшибательно надетый лифчик
из лавки. И регочет бакалавр.
Всех степеней в кустах сигают белки;
набравшимся наук – равно теперь,
где прыг преподавать – в Иейле, в Беркли
иль тут, средь кукурузныя степей.
И наших – тьмы; теперь, все – за, все —
Запад,
а если кто-то в чём-то и Восток,
то лишь в нахрапе лишнего нахапать.
Ну – в точности: пушок-мешок с хвостом.
И туго целясь – за срединным лугом —
в дичь дисциплин, карьер, литератур,
герла чумная – бестетивным луком
пускает стрел отсутствие: ату!
Страшна ли – попечителям – богиня?
С их многоглавья волос не падёт
полуседой, с подкраской… Хоть погибни, —
по заведённому пойдёт.
И пусть. Ещё глаголом припечатать
для вящести. Да в этом что-то есть:
лук – в левой. В правую – ей дать початок.
Америка. И есть чего поесть.
Шампейн, Иллинойс, декабрь 1992 – май 1993
Облики (в 12 частях)
1
Блеснёт высокоскулая раскосо
и – в узости замкнёт меня, темна…
Где, зренье поощряя, хрящик носа
отбросит полутень в полутона
под чёлкой вороной. А с губ, а с лоска,
со, словно месяц, маленького рта —
гляди: взлетает жёлто-злая оска, —
ужалит враз! А ты-то: та – не та…
2
А эта вот: не тоже ли оттуда?
Раздваивая образ-абрикос,
я облики рисую, два сосуда
так, чтобы светом таял алебастр.
Получится ли? Потому что – гибка
и хрупка, с полусолнцем за ушком,
сама – цветок, улыбка и голубка,
но ноздри в злате, ходит босиком.
И то: могла бы плыть, лететь!.. На лире
могла бы мглу: бряцаньем – разменять.
А так – сребро-зелёное колибри
высасывает сердце из меня.
3-4
А смуглая, она (оно), – иное:
в межбровий – навылет – лепесток…
Сквозь лоб я вижу мозг. И вот что внове:
ещё не Запад, ни уже Восток,
но – вместе; и причудливую вазу
невидимо на голове несёт
и радужно, и затенённо сразу…
И – прыщут пятна красок и красот.
И – юнь юнейшая; а я на убыль,
её июля чтец и лицегляд, —
и нет, и да: я ей не для прелюбы…
Для: образ от безлюбья исцелять.
5
Те были облики легки: кто – вечер,
кто – полумесяц… Лишь вот этот – ночь.
И девий, да, но и не человечий
(звериный, что ль?) разрез ленивых оч.
Её весь абрис выписан иначе,
хотя Прообраз – и един, и общ!
Ей, словно – целый мир ещё не начат,
вся – лишь о ней – творительная мощь…
6
Куда тебе, гляделец лиц!.. Младое
навстречу смотрит: из, и сквозь, и чрез
сиреневых, как у Лилит, ладоней
и этих ярких, медленных очес.
7
Взгляд отводя, очнёшься: от чего же?
Свидания, не так ли? Только где?
– В зрачках, конечно, воткнутых до дрожи,
на миг, на переморг ресниц, – нигде…
8-9
И – вновь уловлен… Чем? Доводкой брови ль,
миндальных, стоп; (скорей – маслинных) глаз?
Но прям не по медалям этот профиль —
по выгибам краснофигурных ваз.
И – правильно, и хорошо, что склонна,
и вовсе не к чему-либо, а от-,
а из – античных мраморов – и в лоно
сиюминутности, мгновеньями живёт.
Капризничает… Загляденье, чудо:
запястий тонких, сильных плеч и рук…
Что этот знак? Приязнь? Да не хочу я:
там зренью делать нечего; каюк.
Там сердце: тут как тут, – и вспых контакта,
смеженье глаз, приоткрыванье губ,
касания тактильное стаккато…
А вот и нет! Я – буду: взглядолюб.
10
Как ни хмелён тяжёлый винный улей,
не там, не тем утешен водохлёб,
но – лепоте, лепнине всех июлей
предпочитаю взгляд. И – лоб. И лёд!
И – весь прохладный лад: льняные дали
её, ея, которую я зрю, —
на выморг ока только, навсегда ли, —
такую не зазорно, как зарю
вос-созерцать! Но пристальные зёрна
несносны ей… Ей-ей, наперерез
рванётся, передёрнется озёрно
и севером обдаст мой интерес.
11
А – вот какой закончу (ну же, ну же!):
вся – лёгкая, но жилами крепка.
Как полдень рыж, так солнечно веснуща
(что с розой, что с оружием) рука.
Такая встретит прямо всё прямое:
взор, вызов. Если вынес – берегись.
С вот этой и в степи тебе – приморье,
при жизни – чёт и нечет. Парадиз.
12
И только с ней благословенна узость,
и – самый низ души – пошедший ввысь.
На полчаса хотя б замолкни, Муза!
На пол-сейчас, пожалуйста, уймись.
Урбана, Иллинойс, ноябрь 1986
Два белых пиона (Тетраптих)
1
Она мне была нужна,
я тоже ей, для того же,
так как желала меня, нежна,
в жарких крапинах её кожа,
что хотел я трогать и обонять,
касаясь губами, гладя ладонью,
обожая каждую пядь,
нежа её и вдоль, и вспять
ложбиною молодою.
Жаль, но её приходилось красть
(а небылицы внушались мужу),
чтобы нам отведать вдвоём и всласть
эту охоту, ловитву, страсть,
что цвела из неё наружу.
Я осуждал себя: плохо, грех…
Какой бы случай меня переделал?
А у самого на глазах у всех
счастье зашкаливало за пределы.
Но не о себе я. И, значит, не
о нежности нестерпимой, —
я о том, что роилось вокруг неё, вне,
неверной, нервной, нетерпеливой.
Из неё выпрыгивала душа,
словно из сумочки вдруг поклажа,
я же – любовался, едва дыша,
капризулей, цацей, да злюкой даже,
как она на публике хороша,
в на отпад наряде и макияже:
всех и вся закручивая на винте,
поправляя и поправляя пряди…
Тем, что: то ли я у неё, то ли те
на примете, что сзади?
Бесполезно было тут ревновать, —
ведь она заведомо не моя же:
мужнина, например? Навряд…
Пеной выплеснутая из морья,
может быть, одна из наяд на пляже.
Или же из лазури блаженный жар
небожители на меня излили, —
я удачу таил, и длил, и длил и
душу – её – держал, как шар,
куст густой сирени, охапку лилий.
Пока объятия не разжал…
2
Те желанья, словно Арктуры, Веги,
казались несбыточно далеки.
Но вот недотрога смежала веки,
а я заставлял её глядеть в зрачки.
И по обе стороны от астрала
душа на душу могла взглянуть:
как два лемура. При этом странно
крапивило шею у ней и грудь.
Кто б нас увидел, как было бы стыдно!
Но ведали мы да, пожалуй, лишь
те лемуры. Только никто не выдал.
И опять, душенька, ты кровь молодишь.
3
В облике этом известная сила
светит жемчужиной на киловатт;
ноздерьки вздёрнуты слишком спесиво,
лоб не по мыслям её крутоват.
Всё ж на красиво закинутой вые —
родинка – чёрный застыл поцелуй;
ниже, где жилы её становые,
гибкости меньше, – милуй не милуй.
Лучше внимай у площадки покатой,
как по расчёту двоится из тьмы
голос – от сдвинутой координаты
искренний, но – как бы взятый взаймы.
И узнавай задохнувшейся кожей
лепет единственный – тысячекрат
множимый в реплике пьесы расхожей.
Ты и его получал напрокат!
Видимо, в бледном экранном зиянье
ты и попался случайно на том,
что красотой засквозили изъяны
в зеркале – тоже, конечно, пустом.
4
Два белых пиона
в стеклянном стакане
цветут исступлённо,
и капля по стенке стекает…
Что это – посланье
двусложного нежного слова,
что горькими дышит маслами, —
в сейчас из былого?
Посланье прохлады, покоя —
без слов, но такое, такое,
чтоб душу —
вот так же, наружу,
в сии лепестки и сияния сада,
навстречу цветенью,
за миг до распада,
к вот-вот и гниенью…
Ну, что бы помедлить мгновенью,
и облака свежие ломти
дарить, и не помнить,
другим, и, исчерпав,
их полнить.
Как обморок в полдень.
Шампейн, Иллинойс, май 2006
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































