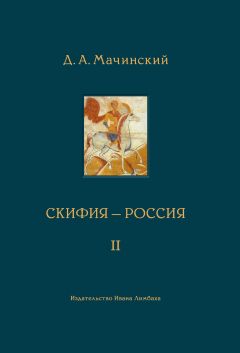
Автор книги: Дмитрий Мачинский
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Былина о Потыке и Марье Лебеди Белой выводит нас к широко распространенной в любовных и свадебных песнях параллели свадьба – охота на лебедей (уток). Особенно интересно остановиться на сюжете БЗ, где в колядке, которая пелась только молодым первого года (обычно еще не имеющим детей), повествуется о молодце, которого молодая жена отправила стрелять лебедей на Дунай, а он после троекратной стрельбы из лука (описанной по формуле состязания былинного Дуная с Настасьей) не достигает цели, после чего жена милостиво соглашается обедать без лебеди. Сопоставление этого сюжета с сюжетами А1, А5, А6 подтверждает предположение, что стреляние из лука было также метафорическим обозначением брачного акта.
В связи с вышесказанным, с отмеченной символикой венка (круга) и стрелы (стержня), совпадающей с символикой кольца, одеваемого на палец, приходится допустить, что опосредствованный и нейтрализованный эротический мотив присутствует и в предложенном Настасьей своему мужу Дунаю-богатырю состязании – прострелить стрелой золотое кольцо на голове другого или попасть стрелой в лезвие ножа, расколов ее надвое. Можно здесь вспомнить и о состязании, предложенном Пенелопой женихам, и о скифо-массагетском обычае вешать лук на кибитку предмета вожделений.
Только что рассмотренный круг сюжетов и мотивов непосредственно выводит нас к смежному с ним кругу, в пределах которого отчетливо выявляется тема оппозиции женское – мужское в связи с «Дунаем», явно поддерживающим «женское начало». Наиболее концентрированно эта оппозиция выражена в сюжетах, где повествуется о смерти мужчины в Дунае, около него или в связи с ним в результате каких-либо действий женщины или в связи с ней (Абз, А7 г, А13б, в, А14, А15, 19б), причем иногда отчетливо выступает мотив «злой женской воли» (А14, А15, 19б). В других сюжетах «Дунай» выступает как потенциальный сторонник девицы (или молодой) и защитник ее от «молодца», жениха или мужа (А1в, А11в, Б3), не говоря об уже проанализированных А4, А5. Важно отметить, что конь в древнерусской обрядово-мифологической системе, еще связанный тесно не только с мужчиной и верхним огненным началом, но и с водно-змеиным «нижним» миром, в «дунайских» песнях почти всегда выступает как образ, тесно слитый с образом молодца, а иногда и замещающий его.
Особо следует отметить достаточно частый мотив смерти молодца «за Дунаем», который в сочетании с мотивом переправы через Дунай позволяет говорить об отдельной теме «Дунай – граница между своим и чужим миром».
Мотив смерти девушки в Дунае встречается реже, чем мотив смерти мужчины в связи с Дунаем, и, кроме того, во-первых, обычно связан с темой несчастной любви или спасения в «Дунае» от насильников, а во-вторых, обычно тут же возникает мотив выхода девицы замуж за «Дунай» или слияния с ним (А17б, А17в).
С женской темой теснейшим образом связаны сюжеты об утоплении девушкой (вдовой) детей (обычно близнецов) в Дунае, причем в наиболее распространенном балладном варианте женщина просит «Дунай» позаботиться о них, и «Дунай» действительно их воспитывает, после чего они, уже в виде взрослых «корабельщиков», хотят жениться на собственной матери и сестре. Несмотря на то что этот сюжет сохранился в форме баллады, есть все основания считать его весьма архаичным (мотивы близнецов, жертвы воде, «отцовства Дуная», жениха «с того света») и сопоставлять со свидетельством Льва Диакона об обрядовом утоплении русами младенцев в Дунае.
Это же обрядовое действо имеет довольно отдаленные, хотя и любопытные соответствия в сюжете, перешедшем, по мнению Ягича, в украинскую песню (А18 г) из сказки: свекровь крадет и подменяет козочкой сына короля, рожденного, как обещала мать, «с луной и звездами», и бросает его в Дунай, куда король позднее отправляет и мать ребенка. Отметим, что Дунай сочетается с этим сюжетом в песне, но отнюдь не в сказке. Не отрицая вероятности позднего попадания сюжета в украинскую песенную традицию, отметим, что и дети (двойня, тройня или один ребенок) Дуная-богатыря, которые погибнут, став жертвой необузданного характера Дуная, также во многих вариантах имеют «по косицам часты звездочки», а на темени «красно солнышко» или «во лбу-то светел месяц, по косицам часты звездочки». Этот же образ встречается в эпосе южных славян и имеет близкие и обладающие признаками архаизма параллели в болгарских и украинских песнях. Если вспомнить, что петух в народных представлениях тесно связан с солнцем, то сопоставление факта ритуального топления в Дунае младенцев и петухов с фольклорным мотивом о гибели в Дунае или от руки богатыря Дуная ребенка с солнцем, месяцем и звездами на голове не будет казаться совсем уж лишенным оснований.
Нет особой нужды анализировать многочисленные сюжеты и мотивы, где разрабатывается основная «женская» тема в пределах «дунайского фольклорного пласта», тема женщины – любви – свадьбы – любовного страдания – Дуная. С Дунаем тесно связаны в славянском фольклоре символы утраты девичества и вступления в брак (венок, коса, перстень, каравай, баня, мотивы переправы, охоты), Дунай представляется местом, где девушка или женщина может без помех совершать обряды, гадать и мечтать о любви, возлюбленном, браке, печалиться, горевать и вспоминать.
Видимо, именно в особенностях женской любовной магии и обрядности следует искать объяснение того, что в восточнославянской топонимике Дунаем – Дунайцом – Дунавцом обычно именуется малая речушка, ручей, болотце. Это наименование, выросшее из сакрализованного имени нарицательного, закрепилось за теми небольшими речушками, где женщины могли беспрепятственно совершать многочисленные тайные женские обряды и магические действа, связанные с культом воды. В то же время «Дунай» в мужском пласте фольклора более тесно связан с образом реального великого Дуная: или замещает и дублирует название одной из крупных и важных для русской истории рек Восточной Европы (Днепра, Волхова, Дона), или вообще мыслится чаще как крупная река.
В связи с вышесказанным и заключая обзор «дунайского фольклора», необходимо остановиться на теме, которая недавно в утвердительной и категорической форме была сформулирована Д. М. Балашовым: «То, что Дунай – священная река славян, известно из этнографии» (Балашов 1976: 97, 98). Это утверждение не кажется нам неверным, однако нуждается в уточнении.
Суммируя все изложенное выше, можно с осторожностью утверждать, что слово дунай в восточнославянском фольклоре обладало скрытой тенденцией к сакрализации, причем этот термин надо понимать исходя из обоих значений латинского слова sacer: 1) посвященный богам, священный, святой; 2) обреченный подземным богам, преданный проклятию, проклятый. Присущая издревле славянству тенденция к сакрализации различных природных объектов, при которой в народе часто не всегда отчетливо различаются члены оппозиции верх – низ, добро – зло, огонь – вода, помноженная на специфически «женский» характер связанной с водой обрядности, при отсутствии четкой персонификации и жесткой обрядовой приуроченности «Дуная-дуная», привела к тому, что это слово не было включено в словарный фонд литературных языков восточного славянства (в отличие от коляды, виноградья и т. п.) и продолжало бытовать почти исключительно в фольклоре (иногда в областных говорах), отличаясь трудноуловимостью смысла в каждом конкретном случае, однако в целом обладая определенным, хотя и широким семантическим полем и пронизав собой весьма архаичный пласт текстов.
Целый ряд важных соотношений внутри «дунайского фольклора» будет рассмотрен в следующем разделе.
V. Исторические корни фольклорного «Дуная»
В конце первой (исторической) части работы были сформулированы основные историко-географические соотношения, характеризующие место Дуная в общеславянской и древнерусской истории VI–XII вв. Завершив четвертую (фольклорную) часть, констатируем, что все историко-географические «дунайские соотношения» находят убедительное соответствие в тех внутрифольклорных связях, в которые, преимущественно в рамках «мужской традиции», постоянно включается словообраз дунай.
1. Бытовавшее по меньшей мере до XII в. представление о Дунае как главной водной артерии той земли, где славяне обитали на заре своей истории, находит соответствие в постоянной тенденции эпической традиции связывать название «Дунай» с представлениями о Днепре под Киевом – главной водной магистрали восточного славянства до XIII в., а также с Волховом, Москвой-рекой или Доном – реками, игравшими большую роль в русской истории. Показательно, что лексема дунай в традиционном восточнославянском фольклоре встречается чаще, чем имена даже таких рек, как Волга и Днепр. Сообщение Псевдо-Маврикия (отражающее реальность VI в.), что у славян и антов все «их реки вливаются в Дунай», поразительно совпадает со следующим свидетельством, полученным в 60-е годы XX в.: «Наиболее старые жители Полесья полагают, что воды многих полесских рек и речек в конечном счете вливаются в Дунай». Отметим также наличие в севернорусских песнях словосочетаний «мать-Дунай-то река», «матушка Дунай-река».
2. Близкое к предшествующему представление о благодатных землях по Дунаю, некогда принадлежавших предкам, а позднее ставших объектом вожделений и устремлений народной массы и князей, частично находит определенное соответствие в вышеприведенных фольклорных фактах. Отметим также зафиксированное в Белоруссии представление о том, что дунай – это «нечто идеальное, прекрасное». Более показательно, однако, что «Дунай» русского фольклора был поставлен в наиболее тесную связь с Доном (ср. с заменой в поздних былинах Дунай-богатыря Доном-богатырем) – рекой, куда убегало на свободные земли русское население с XVI в. Любопытно, что наиболее свободолюбивая часть донских казаков после разгрома булавинского восстания ушла в 1708 г. с Игнатом Некрасовым на Кубань, а в 1740 г. некрасовцы бегут на Дунай, где и поселяются с разрешения Турции. Можно согласиться с К. В. Чистовым в том, что «песенное представление о Дунай-реке могло способствовать бегству в русские села Добруджи – к «дунакам», «липованам», «некрасовцам» (Чистов 1967: 308). Полагаем также, что трансформированные пред-ставления о благодатном Подунавье отразились и в других представлениях о «далеких землях». На эту мысль наводит постоянный и не совсем понятный эпитет «тихий», прилагаемый к фольклорному «Дунаю» и перенесенный на Дон и на самую бурную по характеру личность русского эпоса – Дуная-богатыря.
Повсеместное распространение этого эпитета в связи с «Дунаем» в славянском мире предполагает его очень древнее происхождение, что, в свою очередь, заставляет отказаться от представления о чисто «пейзажно-описательном» его смысле. Положительный оттенок эпитета «тихий» не вызывает сомнений, однако более точно его смысл может быть понят за счет сопоставления его со вторым, менее часто употребляемым, с «пейзажно-описательных» позиций еще менее понятным и, следовательно, еще более архаичным эпитетом «белый». Этот эпитет иногда заменяет повсеместно распространенное определение «тихий» (Болгария, изредка – Сербия, Польша, Белоруссия), иногда дублирует его (Болгария). Древнейшее значение эпитета «белый» в славянских языках может быть определено как «святой», «сакрально-чистый», «благой» и отражено в реконструируемой из свидетельства Гельмольда и топонимических данных оппозиции Белбог – Чернобог. Позднее «белый» стало обозначать «вольный», «свободный».
Эпитет «белый» в применении к водным пространствам, видимо, также означал нечто «благое» и «свободное». Так, при движении на благодатный юг «белым» стал именоваться не только Дунай, но и лежащее к югу от него Эгейское море, которое и сейчас называется в Болгарии Белым. Напомним также, что побережье Черного моря к западу от устья Днепра, где русские «на ничейных землях» промышляли рыбу (ПВЛ, договор 945 г.) и зимовали во время походов на юг (971 г., поход Святослава), именовалось Белобережьем. Поэтому есть основание думать, что придунайская северо-западная часть Черноморья, именующегося в ПВЛ «русским морем», могла иногда, как и его побережье, именоваться «белым морем», что как будто находит подтверждение в болгарском фольклоре (Шапкарев 1968: 175). Возможно, лишь позднее, в связи с мрачными событиями, отрезавшими Русь от южных морей, Русское (Белое?) море превратилось в Черное (ср. обратную эволюцию греческого названия Понта из Аксинский в Евксинский). Позднее лишь в определении «белый», прилагаемом к Дунаю, сохранилось древнее представление о «белых» (благих, вольных), притягательных для Руси землях в Подунавье и Причерноморье. Еще позднее (XI в.) представления о «далеких богатых землях» связываются с северо-востоком (см. раздел III), и именно в этом направлении возникают такие гидронимы, как Белоозеро, Белое море. С XVI–XVII вв. поиски таких земель стали вестись на востоке, и думается, последним отголоском некогда связывавшихся с Подунавьем представлений о землях святости, воли, богатства является знаменитое Беловодье, которое искали от Алтая до Японии (Чистов 1967: 250 и сл.).
Таким образом, бесспорная и особо тесная связь «Дуная» русского фольклора с Доном (фольклорным и историко-географическим) – рекой «вольных земель», куда уходило свободолюбивое население, и особенно исконное значение эпитетов «тихий», «белый», последний из которых постоянно входил в наименования действительно или легендарно свободных земель, позволяют считать, что в народном сознании в неотчетливой форме продолжало существовать представление о Дунае как реке «благодатных далеких земель».
3, 4. Чрезвычайно широко (особенно в связи с «мужской темой») представлены сюжеты и мотивы, соответствующие близко связанным историко-географическим соотношениям: 3) Дунай – граница, 4) Дунай – река, за которой (или в связи с которой) смерть и опасность. Эти сюжеты и мотивы своими истоками уходят в древнейшие пласты славянского обрядово-мифологического сознания и связаны с образом реки-границы, отделяющей «свой» и «чужой» мир (при различных конкретных реализациях этих понятий в связи с ситуациями войны, смерти, свадьбы или в рамках эпоса). Однако прочная привязка этого круга представлений к «реке Дунаю», видимо, обусловлена конкретной историко-географической ситуацией. Вспомним, что целая героическая эпоха, ознаменованная серией походов на Византию, была «погребена за Дунаем» (трагические походы Святослава в 969–971 гг. и Владимира Ярославича в 1043 г.).
Кроме уже приведенного материала, следует указать на подобную функцию «Дуная» в некоторых севернорусских сказках и в широко распространенных среди славян поговорках типа: «Iak pojezez za dunai, to o domu ne dumai», «Jag za moze vrucic moze, Jag za dunaiu to ne dumaj».
5. Значительная часть фольклорных связей «дунай-моря» (взаимозаменяемость этих лексем или соединение их в неразрывный звукообраз) объясняется смысловой близостью этих лексем, употребляемых, в частности, для обозначения вообще стоячей воды (озерцо, болото). Сближает их и то, что, в силу наличия других значений этих лексем (и связанных с ними ассоциаций), обе они употребляются в фольклоре (преимущественно «женском») для обозначения воды с оттенком сакрализации и поэтизации. Однако, наряду с этим, наличествуют два варианта соотношения «дунай-море», которые явно обязаны своим возникновением историко-географической реальности.
5а. Первое из них – это представление о том, что Дунай впадает в море (былина о Дунае, описание смерти героя, бросающегося в реку, вариант Кирши Данилова) и что место его впадения (или за ним) «эпически отмечено» (здесь подобает происходить победоносным сражениям – песня о победе Шереметева под Мызой – или умирать герою – Степан Разин, см. раздел IV, ВЗ). Весьма вероятно, что в основе подобных закрепившихся в эпической традиции представлений лежат реальные события IX–XII вв., хотя, безусловно, они могли освежаться в народном сознании и впечатлениями более позднего времени (ср. мотивы смерти казака за Дунаем, А12). Бесспорным же отголоском историко-географической реальности IX–XII вв. представляется нам уже упоминавшаяся формула «за Дунай», находящаяся в устойчивом соотношении с определенным кругом образов.
5б. Речь идет о припевах типа «да и за Дунай» в песенном сюжете, обозначаемом Т. А. Бернштам и В. А. Лапиным как «Дунай» (Бернштам, Лапин 1981) и исполнявшемся на Русском Севере (не южнее Великого Устюга) в качестве свадебного величания молодому, виноградья, величания при постройке корабля, а также о припевах типа «здунинай, Дунай», «сдудина ты сдудина» при исполнении известной и, как обычно считают, поздней былины «Сокол-корабль», бытовавшей местами как календарное виноградье и распространенной в Европейской России (не севернее Великого Устюга) и в Сибири. Кроме явно единого в своей основе припева (о котором речь ниже), оба сюжета объединяются: а) упоминанием в зачине моря, обычно моря Хвалынского (или испорченных вариантов этого названия), реже – Верейского; б) описанием корабля с зооморфными (сокол – змея – тур – конь) чертами; в) наличием мотива молодец – стрела (при этом в «Дунае» молодец «стругает стрелку», а затем роняет кольцо – свадебная ориентированность, а в «Соколе» герой – обычно Илья – стреляет из лука по врагам – воинская ориентированность).
Если рассмотреть эволюцию припева в обоих сюжетах, начиная от поддающихся осмыслению формул и кончая бессодержательными звукоподражаниями, то получится следующая картина.
Территориальным центром сохранности припева являются берега Белого моря: Терский берег – «по морю да и за Дунай», с вариантами записи «да из-за Дунай», «да из Дунай»; Карельский берег – «по морю да из-за Дунай» (или «и за Дунай»); Летний берег – «с за Дунай», «да из-за Дунай» (или «и за Дунай»), «у Дуная»; Зимний берег – «да из Дунай»; на относительно поздно заселенном Зимнем берегу, наряду с почти не испорченным припевом «да из Дунай», встречается уже звукоподражательный «да вздунай», а еще восточнее, в районе Нарьян-Мара и на Печоре, припев принимает форму «а ты Здунай мой, Здунай». В тексте «Сокола-корабля», зафиксированном И. Сахаровым где-то в Европейской России (но, судя по всем аналогиям, не севернее Великого Устюга), припевом служит фраза «Здунинай дунай, морю синему», послужившая основой для обозначения обычая исполнять «военно-морские песни» казаками при походах на Каспийское море: «сдунинаю воспевать» в песне о Меншикове (см. раздел IV, 1, В). Наконец, на Колыме припев к «Соколу-кораблю» принял форму «сдудина ты сдудина».
Итак, в основе припева лежит восклицание, отмечающее прохождение кораблем наиболее важного, пограничного участка речно-морского пути Киев – Константинополь «по морю да и за Дунай», сохранившееся в неизменном виде на Беломорском побережье, а в более южных и восточных областях принимавшее разнообразные звукоподражательные формы, основанные на звукописи исходной.
Сам припев становится понятен только в контексте историко-географической реальности IX–XI вв., когда ежегодные торговые путешествия «русов» в Царьград были опасными лишь до Дуная (из-за нападений печенегов), а продвижение «по морю да и за Дунай» означало практически успех торгового плавания, что и отмечалось, вероятно, песнями с соответствующим ликующим припевом. При военном походе у устья Дуная делалась остановка и созывался военный совет, так как движение «по морю да и за Дунай» в этом случае означало войну, нарушение морской границы Болгарии или Византии и могло сопровождаться также воинскими песнями с тем же припевом. Единственная возможная альтернатива предлагаемой гипотезе о генезисе этого припева – это предположение, что припев этот возник в среде запорожских казаков, которые во второй половине XVI–XVII в. совершали самостоятельные военные морские походы, двигаясь по морю к устьям Дуная и даже южнее. Однако трудно предположить, чтобы этот припев из среды запорожцев мог распространиться в Беломорье, на Печоре, Колыме и в Поволжье, глубоко укорениться в фольклорной традиции этой огромной территории, включившись в виде очень архаичного по всем признакам элемента в своеобразные местные обрядовые и эпические тексты. При этом крайне маловероятно, что в чистом виде этот припев был занесен на отдаленный север, в Беломорье, в то время как в более южных областях (Поволжье), связанных с казачьей эпической традицией, родственной запорожской, этот припев сохранился только в испорченном виде. И наконец, рассмотренная альтернатива решительно перечеркивается тем, что в тех украинских думах, которые отразили обстоятельства морских походов запорожцев, изредка говорится о «скiрлах (гирлах. – Д. М.) Дуная», но ничего похожего на рассматриваемый припев нет. Безусловная древность песенной традиции, связанной с «дунайским припевом», подтверждается и анализом имманентных ей образов. По мнению ряда исследователей, былина «Сокол-корабль» – позднее произведение, возникшее в рамках казачьей эпической традиции в XVII в. Б. Н. Путилов убедительно удревнил истоки этого сюжета, связав его более широко с поздней южнорусской эпической традицией (Путилов 1961). Путем сопоставления сюжетов «Дуная» и «Сокола-корабля» по элементам можно, развивая намеченную Б. Н. Путиловым тенденцию, доказать значительно большую древность устойчивых мотивов и образов, сконцентрированных преимущественно в зачине обоих сюжетов.
Так, зооморфный образ корабля (в обоих сюжетах) находит, как уже указывалось, аналогию в драконообразных или конско-птицеголовых кораблях языческой Руси, облик которых был связан с образом змее-скотьего бога, покровителя скота и «водных предприятий» – Волоса (см. выше, раздел III). Этот же образ встречается в «морских» былинах «Садко у морского царя», «Соловей Будимирович» и «Глеб Володьевич», которым свойственна подробная разработка свадебных мотивов и «темы моря». Напомним, что лучший, ставший хрестоматийным вариант былины «Соловей Будимирович» заканчивается формулой «дунай-дунай, боле петь не знай», в которой мы склонны видеть деформировавшийся в далеком от морских интересов Прионежье вариант все той же формулы припева, что подтверждается упоминанием в ряде вариантов этой былины «Дунайского моря».
Упоминание моря, по которому совершает плавание корабль, также сближает сюжеты «Дуная» и «Сокола-корабля» с былинами «Садко» и «Соловей Будимирович». Считается, что все историко-географические реалии поздней былины (и обрядовой песни) «Сокол-корабль» говорят о ее возникновении не ранее второй половины XVI–XVII в. Однако и это не так. Упоминаемое в некоторых вариантах «море Верейское» («Вирянское»), встречающееся и в текстах «Соловья Будимировича», по вполне убедительному предположению А. И. Лященко, следует отождествлять с морем Варяжским (Балтийским), именовавшимся так на Руси с IX в. Кроме того, часть Эстонии по р. Нарве именовалось Вирония, а жителей приморской Риги на Руси в XIII в. называли «вирьжане» или «вируяне» (ПСРЛ II: 188; IV: 182, 164). Еще важнее, что наиболее часто встречающееся в текстах «Дуная» и «Сокола-корабля» «море Хвалынское» (Каспийское), известное под близким названием «Хвалисское море» (от «Хвалисы» – «Хорезм»), также с IX в. и наряду с Русским (Черным) морем было объектом постоянных вожделений языческой Руси IX–X вв., реализовавшихся в виде регулярных и опустошительных набегов на кораблях. Обычно крупные воинские морские операции Руси, в которых участвовали и варяги «с моря Варяжского», на Русском и Хвалисском морях проводились последовательно одна за другой в течение нескольких лет, после чего следовал перерыв примерно в 30–40 лет. С XI в. военная активность Руси на Хвалисском море затихает, хотя и известен набег русских на его берега в 1185 г. Древнее название моря, которого русские (в лице новгородских ушкуйников) достигли после большого перерыва в 1375 г. (ПСРЛ IV: 72), сохранялось на Руси, что для XV в. доказывается «Хожением Афанасия Никитина», где оно дается в форме «Хвалитьскаа». Видимо, эти или сходные формы древнерусского названия Каспия и дали фольклорное облагозвученное «Хвалынское море». Вторичное заимствование этого названия у прикаспийских народов в XVI в. маловероятно, так как, по всем данным, и татары, и персы, и туркмены именовали это море совсем по-другому (Ак-Денгиз, Дорца, Гурзем, Кюккюз и т. д.).
В связи с вышесказанным отметим одну любопытную особенность: в ряде текстов «Сокола-корабля» действие происходит на Хвалынском (Каспийском) или Верейском (Балтийском) море, а борьба ведется с «турецким ханом», «турецким царем», «большим султаном», с «турецянами» и «грецянами», с «крымскими татарами с калмыгами», т. е. с врагами, которые были реальностью на Черном море. Это может объясняться тем, что древние песни, в одних из которых воспевались походы по Русскому (Черному) морю за Дунай, в других – походы на далекое Хвалисское (Хвалынское) море, в третьих – торгово-военные поездки по Варяжскому (Вируянскому) морю, слились в народной памяти в единое целое: от первых остались «Дунай» и «Дунайское море» (последнее – в вариантах «Соловья Будимировича» и в скоморошине «Птицы»), от вторых – «Хвалынское море», от третьих – «Верейское (Вирянское) море», слившиеся за дальностью времени и расстояния для отрезанной от первых двух татарским нашествием Руси в единый образ далеких и полусказочных богатых земель и морей. Естественной представляется утрата названия «Русское море». Этим именем восточное славянство называло Черное море, поскольку именно русь – верхушечный полиэтничный военно-торговый слой Древнерусского государства – возглавила военные морские походы славян на Черное море. Однако позднее эпитет «русский» стал эквивалентом «своего», «родного», его трудно было увязать с представлением о походах на дальние чужие моря, и название «Русское море» исчезло, заменившись в фольклоре малоупотребимым «Дунайским морем», а чаще – «морем Хвалынским». Название «Хвалынское море» вполне устраивало, было хорошо известно, хотя бы по всем летописям, включившим в себя ПВЛ, и, видимо, просуществовало (возможно, сохранившись на «приморском» севере в песенной «корабельной» традиции двинян и новгородцев) до середины XIV в., когда вновь начались походы новгородцев и двинян, устюжан и вятчан на Волгу, в направлении Хвалынского моря (первый поход в 1342 г.), и до второй половины XVI в., когда военные русские корабли и казачьи лодки вновь вырвались на просторы этого моря. Однако в народной памяти сохранялось представление об актуальности героических военных подвигов на Черном море, что и вызвало появление в песнях «черноморских врагов», перечисленных выше и взятых из реальности XVI–XVIII вв.
В любом случае нет никаких оснований считать, что и Верейское, и Хвалынское море могли проникнуть в фольклор лишь с XVI в.; и то и другое были для восточного славянства реальностью с IX в., и оба, наряду с Черным («Дунайским») морем и самим Дунаем, сыграли особую, выдающуюся роль в жизни Руси именно в период от середины IX по середину XI в.
Представляется несомненным, что и припев «да и за Дунай», и редкий образ «Дунайского моря», и связанные с ними образы Хвалынского (или Верейского) моря и зооморфного Сокола-корабля являются реликтами «корабельной» былинно-песенной традиции, сложившейся в IX–XI вв., сохраненной на Севере и получившей новые импульсы к развитию с конца XIV, а особенно в XVI–XVII вв. («морские былины» – «Соловей Будимирович», «Садко», «Сокол-корабль», «Глеб Володьевич»; величально-свадебный фольклор поморов – «Дунай»; военно-морские песни казачества).
Если, помимо вышесказанного, учесть, что:
1) фольклорный «Дунай» – это лексема, не имеющая вариаций в местных фольклорных традициях (кроме редких слов, явно от нее производных) и абсолютно совпадающая с бытовавшим с VI–VII вв. и зафиксированным в IX–X вв. общеславянским названием реки Дунай; фольклорный «Дунай» идентичен также распространенному на восточнославянских землях гидрониму «Дунай», происхождение которого от названия великой реки было показано выше, в разделе II;
2) одни и те же фольклорные сюжеты, мотивы и эпитеты, связанные с «Дунаем», известны и на Русском Севере, и у славян Подунавья;
3) обряд топления детей в Дунае, бывший реальностью в X в. (вероятно, и ранее), имеет соответствие в «дунайском фольклоре»;
4) обычай умыкания девушек у воды в VII–X вв. также имеет яркие параллели в «дунайском фольклоре»;
5) змеескотий облик «Сокола-корабля» находит соответствие не только в реальном облике кораблей IX–XI вв., но и в обрядовой стороне «морских предприятий» той поры, находившихся под покровительством не только Перуна, но и «морского» зооморфного Волоса, – если все это учесть, то придется признать, что ядро восточнославянских представлений о «Дунае», отразившихся в фольклоре, гидронимии и народных говорах, сложилось в результате знакомства наиболее активных групп славянства с великой рекой в V–VII вв. и последующего расселения части их по Восточно-Европейской равнине, а также в связи с событиями, связывавшими Русь с Подунавьем в IX–XII вв.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































