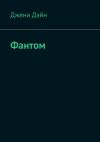Текст книги "Ловцы и сети, или Фонари зажигают в восемь"

Автор книги: Дмитрий Рокин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Очень хорошо! То, что нужно, – лучисто улыбалась баба Тома, часики приняв. – С кого начнём?
Бабушка обвела компанию любопытным взглядом.
– Да давайте с меня же, – Алёна потирала руки, – это так интересно! Ух!
Она совсем не стеснялась перепадов глубин своей памяти, как и своего видения присутствующих. Она считала себя как физически, так и ментально, эталоном человека прекрасного. Хоть в палату мер и весов определяй.
– Хорошо, Лёля, – согласилась бабушка, сделав последнюю смачную затяжку и затушив огарок папиросы в пепельнице матового стекла.
Она беззвучно что-то нашептала часам, скрыв подслеповатые глаза морщинистыми веками, а после бережно положила золотой браслет с крохотным циферблатом возле Алёны.
– Теперь выключите и отложите телефоны. Это важно.
Молодые люди взялись за свои проводники в мир высоких технологий и отключились от всемирной паутины, как и от липких сот мобильной связи.
– Берёмся за руки, дети мои, – произнесла сквозь мягкосердечную улыбку, полную доброго тепла, баба Тома.
Молодёжь повиновалась: Алекс взял левой рукой правую посиневшую ладонь бабушки, а своей правой левую шелковистую ладонь сестры. Алёнина правая длань плавно, певуче, точно пёрышко, опустилась в Вовину рабочую руку. Вова прихватил Евгена, Евген – Костика, а Костик – бабу Тому. Круг замкнулся.
– Вот откуда взялась концепция шести рукопожатий, – размышлял Костик, со скрытой усмешкой обведя «пустой» стул. – Прикиньте, сколько людей мы знаем вшестером. Полмира, небось! Ну, скорее, впятером, Володя кроме заводских трудяг-алкашей, как он сам, никого и не видел.
– Глохни, сволочь, – коротко прервал Евген.
Костик, замолчав, угрожающе кучно скосил взгляд на бестактного друга и цокнул так, точно дал пощёчину.
– Взгляд сосредоточьте на часах на пару секунд, – напомнил Вова.
– А теперь закрываем глазки, – сказала бабуля ласково, свои очи сомкнув. – Я считаю – раз, два, три…
Всей компанией ребята перенеслись в некую эфемерно-абстрактную просторную комнату с размытыми окнами и дверями, меняющую обличье каждую секунду: близоруко разлитое разноцветье пола и потолка густо, с потёками, струилось на стены, медленно вырисовывая фигуры и образы, которые казались то где-то вдалеке, то где-то совсем рядом. Присущие Алёне непорочная лёгкость и крылатая открытость теперь снизошли на каждого из присутствующих, наделяя вдобавок хорошим настроением и жаждой приключений. Вместе с тем на плечи парней опала ранее неведомая хрупкость, и твёрдое осознание, что ты вечный заложник собственной красоты.
– Так вот, как ты выглядишь, – несколько почтенно обратился Костик, увидев Алекса.
– В натуре, – Евген обвёл шестого, доселе невидимого участника подозрительно-удивлённым взглядом.
– Теперь хоть переводчики не нужны, – заключил сияющий, явно приукрашенный восприятием Алёны Алекс.
– Константин, – Жо протянул руку Алексу.
– Александр, – Алекс крепко пожал руку в ответ.
– А вот это лишнее, – строго супила брови бабушка. – Не контактируйте здесь. Так можно пустить друг друга в своё сознание раньше положенного времени.
Вова, ловко оказавшись за спиной Алёны, коснулся её нежной руки, сбив голос в шёпот:
– А нам можно.
Баба Тома, обратив строгий взор к непослушной парочке, точно к хулиганью с последней парты, пресекла:
– Никаких исключений, галерка!
– Вован, а ты так-то изменился, – потешным голосом подметил Евген, натянув глупую, бородатую ухмылку.
Вова чуть вырос ростом, сделался шире в плечах, лицо обрело ещё более точёный облик, волосы стильно причесались, щетина обрела ровнейший кант, голос стал ещё ниже и богаче тембрально.
– Я даже знаю, кто приложил к этому руку, – бегло осмотрев себя и изменения прочувствовав, укоризненно произнёс Вова, бросив однозначный взгляд на восхищённо любующуюся своим творением Алёну.
– Ну, может быть, чуть приукрасила тебя, конечно. Но зато будешь знать, к чему стремиться, – мигнула она, сама сделавшись ещё краше, ещё шикарнее формами, ещё сочнее налив блеском длинные волосы, насытив бездонную зелень глаз безусловностью цвета и глубины.
Костик и Евген заметных пристальному глазу изменений не претерпели, чему Жо нарочито огорчился:
– Я думал, ты меня тоже красавчиком сделаешь, но потом вспомнил, что я и так элитарный красавец, в отличие от кареглаза-немужского волка, – хорохорился Костик.
– Ладно, хорош базарить, время теряем. Что дальше? – верховодил Вова.
Пятеро молодых людей, осмотревшись и немного попривыкнув к необычным ощущениям погружения в сознание, встали полукругом лицом к бабушке-командиру в ожидании дальнейших распоряжений. Возле бабы Томы левитировали, покачиваясь, золотые часики Алёны. Баба Тома, явно вернувшая возрасту пару десятков лет, начала объяснять:
– Хорошо, приступим. Эта комната воображаема, но с другой стороны эта абстракция существует. Мы сейчас в твоём сознании, Алёна, а сознание вполне реально. Память пронизывает сознание, она его скелет, состоящий из памяти предков и нашего жизненного опыта. Вот в жизненный опыт мы и заглянем. Проблема в том, что наша память скверный и очень выборочный архивариус, и вспомнить какие-то нужные детали чрезвычайно сложно. Поэтому иной раз приходится погружаться в неё напря…
– Да, да, понятно, память, пространственно-временной конструкт, что дальше? – торопил Вова.
Бабушка, бережно взяв в руки золотые часики Алёны, сомкнула ладони. Закрыла глаза, пришёптывая что-то под нос. Заговорила браслет с крошечным циферблатом, ловко перевоплотив его в часы песочные: две соединенные между собой стеклянные колбочки, обрамлённые деревом, но вместо привычного глазу песка россыпь тонко пересыпающихся светящихся гранул – мелко растолчённая звёздно-временная пыль.
– Так будет удобнее и перематывать время, и отмерять час на путешествие, – объяснила смысл фокуса бабушка, без стеснений закурив в чужом сознании и струйкой выпустив белозубый дым из лёгких. – Теперь, Лёля, крути часы против часовой стрелки, думая о нужном дне.
– А против часовой, это в какую сторону? – задалась Алёна, занеся ладонь над левитирующими, сцепленными вместе колбочками, одна из которых дробно, по гранулам, ссыпала бликующий порошок времени в другую, нижнюю, порожнюю.
– Крути, солнце, в будущее всё равно отмотать не получится. К сожалению, – вздохнула бабушка.
– К гадалке не ходи, – тихо вставил саркастичную ремарку Вова.
«Хорошо», – повиновалась Алёна, обворожённая новогодним ощущением секундной стрелки, и одним пальцем плавно нажала на край деревянных часов. Колбочки завертелись волчком, и глухие недра памяти оказались как на ладони: сквозь непостоянные образы стен проступили пульсирующие фиолетовым светом жилы, и комната пришла в круговое движение, всё ускоряясь. Статичными остались лишь люди, любопытно разглядывающие стремительно меняющуюся дымчатую пелену воспоминаний, в чудесном калейдоскопе закружившуюся: таяли годы, клубилось пространство, мельтешили события, моменты, впечатления, образы, звуки, запахи и ощущения. Всё кубарем летело сквозь ткань памяти, просвечивая её насквозь. Первые секунды, сдавленные мраком и унынием, вместили последние полгода: череда мертворождённых дней, сочащихся изнутри омерзительной блеклостью, удушающей пресностью, преисполняя гнетущие образы и фигуры, опустошённость и отрешённость сплетая в абстрактном, корявом танце, скрашенном лишь каким-то необъяснимо сердечным появлением Вовы. Но едва миновала точка смерти брата, в воспоминания ворвался свет: бескрайняя красота океана и прыжок с яхты в его лазурные воды, грохот басов фестивалей, лыжный спуск с белоснежных грив горных хребтов, а после ресторан с камином; шумные отвязные компании, фуршеты и кинопремьеры, скоростные заезды на лихих авто, европейские столицы и далёкие уголки земли: готические соборы, старые города, запах лаванды, поездка на мотороллере, разливы виниловых музык, танцующие с людьми открыточные улицы. Больше видимые в кино образы очень точно вплелись в действительность памяти, в которой всё острее ощущался простор каждой секунды, широта каждого вдоха, глубина ощущения песка на ладони, высь небес, увязшая на сетчатке глаза, поцелуй морской соли на губах, трепет вёсен, осеней, зим и…
– Мы не смотрели на мир сквозь увеличительное стекло родительских страхов, – пленённая собственной памятью красовалась Алёна. – Просто жили на полную. Может, это и хорошо.
Ребята, затаив дыхание (Костик даже закинул руки за голову и приоткрыл рот), смотрели заворожёнными взглядами за мчащимися в бешеном темпе, оставаясь при этом мелодичными, драгоценными переливами ярчайших эмоций и событий (где тонкими вкраплениями еле ощутимого дежавю пролетали работа и бизнес). Мелькнул первый сексуальный опыт, но ярок не был. Удостоился разве что короткой юморной ремарки от Костика: «С этого момента попрошу поподробнее».
Счастливое кино на ускоренной интервальной съёмке мчалось назад, к своему началу. Алёна становилась юнее и наивнее, реакции её становились острее и нетерпимее, а мир становился больше и шире. Росли ввысь предметы, деревья, дома, люди и города. Но, как и в любом кино, хорошие времена не могут длиться вечно. С каждым новым витком песочных часов на душе каждого из собравшихся всё отчётливее повисал мрак. Образы и чувства утяжелялись, восприятие событийности сваливалось, безотносительно знака полярности плюс/минус, в негатив. Память вплотную подходила к точке невозврата, к чудовищной потере, перевернувшей навсегда всю жизнь. Свет мерк, горизонты сужались, образы выветривались и выгорали, над сердцем повисала нестерпимая горесть. Часы замедлялись, всё неспешнее прожёвывая время. Каменела хладнокровная всеобъемлющая скорбь, проросшая замершим в груди криком, пока не стала чётко ощутима каждым.
Память докрутилась до нужного дня. Момент мгновенно прозрел, слепив разобщённые образы в единую картину. Воцарилась гармония, столп света пронзил сознание счастьем детства, ещё не знавшим, что взрослая нестерпимая жизнь мчит на всех парах: Алёна пребывала дома, удобно рассевшись в своей комнате и завороженно впитывала льющийся с большого экрана мультфильм, полный волшебства и чудес. Со стен пели плакаты бойз-бэндов. На полу скучали тетради. Хранил тайны дневник. Горели красками альбомы для рисования. Чистый свет, падающий из окна, был мягко разбавлен тенями предметов и мебели. Дом тогда был светел и добродушен, сердечен и гостеприимен. Ребята вновь почувствовали торжество лёгкости бытия. Тяжесть потери ещё не обрушилась на хрупкие плечи Алёны, но уже ждала своего часа. Безграничная скорбь стояла на пороге в томительном ожидании – ну когда же? Когда?!
Взрослая Алёна зашла внутрь воспоминания и села рядом с собой пятнадцатилетней давности. Приятные воспоминания, детально прорисованные в сознании: в них явно часто возвращались, просматривали и дошлифовывали каждую деталь, делая из последнего счастливого дня детства памятник торжества жизни.
– Это тот самый день, как сейчас помню, я смотрела мультики до ночи, а потом приехал друг семьи, Полкан, ой… Анатоль Алексеич, с глазами на мокром месте, и сказал, что… И я плакала на его плече часа два. Даже помню его мокрое от моих слёз плечо…
Ребята вошли в материю воспоминания, с непринуждённой лёгкостью миновав его срез, изрядно удивившись реальности памяти. Предметы обладали теми же качествами и свойствами, ощущения не претерпели особых изменений: звуки, запахи и все зрительные образы были попросту неотличимы от яви.
– Офигеть, конечно… Как будто в машине времени прокатились… – изумился Алекс, бродя по широкому залу пятнадцатилетней выдержки и украдкой касаясь знакомых, но ещё цветущих новизной вещей. – Твоя память максимально точна. До мельчайших деталей. Класс…
Девочка Алёна, точно услышав голос брата, обернулась. Бегло посмотрев по сторонам, она наградила каждого из навестивших её скитальцев по прошлому коротким, необщительным взглядом.
– А ты никуда не выходила? – спросила баба Тома, последней зайдя в срез фрагмента памяти, затушив сигарету и положив окурок в пачку и сняв при этом домашние тапочки, бережно отнесясь к чистоте чужого воспоминания.
– Нет. Сидела счастливой и смотрела телек. А завтра проснулась уже другим человеком. Сиротой…
Алёна с тоской взглянула в окно. Простирались дороги и облака, провода и ветви. И всё казалось навсегда.
– Может быть, было что-то необычное в этот день или предыдущие? – задался сконцентрированный Вова. – Может, приходил кто или звонил?
– Да нет вроде…
– Ладно, – вздохнула баба Тома. – Это не прольёт ни крупицы света на истину. Хорошо. Тогда крути обратно. Покопаемся в следующей памяти.
– Эх, так хотелось тут побыть… – Алёна нехотя встала, посмотрев на зеленоглазую девочку и пожалев её, точно зная, через какие испытания ей придётся пройти уже очень скоро.
– Ты можешь бывать здесь, когда захочешь, это же твоя память, Лёля. Крути.
Нежные руки Алёны отпустили часы. Они вновь парили в воздухе, свободные от гравитации и от одновекторного хода времени. Алёна закрутила волчок в другую сторону. Светлоликий дом с ещё счастливой девочкой мгновенно утянуло в омут памяти.
Ребята и бабушка одномоментно открыли глаза, сидя за округлым столом с видавшей жизнь клеёнчатой скатертью и держась за руки.
– Перекур или продолжим? – вопрошала бабушка, потянувшись к манящей пачке папирос.
– Продолжим, – решил за всех Вова-лидер. – Ты только что в чужой памяти курила.
– Ну, хорошо. Кто хочет быть следующим?
– Я, – вновь исчезнувший для Евгена и Костика Алекс поднял руку и передвинул к себе часы.
– Хорошо, Саша. Берёмся за руки, дети мои, и…
Сознание Алекса, энергичное, целеустремлённое и лишённое даже намёка на сомнение в чём-либо, предстало перед ребятами понятной абстрактной сутью с горизонтами бесконечных возможностей. Компания из пяти человек (бабушке расти-булку горделивого надмирного воздвижения к вершинам бытия вкусить не дали) возвысилась над планетой, сделавшись атлантами, небо не удерживающими, а просто им владеющими. Энергии Алекса хватало, чтобы вести за собой всё человечество в принципе. При этом спесивая хитринка восприятия его снизошла на каждый из молодых умов простым, понятным откровением, в котором иерархия положительных качеств его, всегда выставленных в авангард, имела следующий интересный подтекст: жадность читалась как рачительность, гордыня была завёрнута в обёртку банального самоуважения, снобизм предстал как излишне отточенное воспитание, алчность звенела моральным камертоном от ноты взаимной выгоды, а надменность была лишь атрофией чувства постсоциалистического коллективного «Я», из которого самым естественным образом вычленялось «я» собственное, истинное, искомое и единственно имеющее право быть.
– Какая энергия, аж отжаться захотелось, – паясничал Костик, будучи атлантом, но самым неказистым из компании. Он сильно ссутулился, посерел и растерял природную артистичность.
– Так смотрят на мир с позиции возможностей, – заявил Евген, сделавшись дряблым, округлым, жидкобородым пухляшом, приобретя черты скорее анекдотические.
– Интересная интерпретация, – тонко журил Вова, обведя саркастичным взором изменившихся друзей.
– Как есть, – заявил невосприимчивый к критике, как к явлению, Алекс.
Сам Вова сделался ещё более каменнолицым и смугло-депрессивным. Красные глаза его изрыгали языки адского раскалённого пламени.
– Да ты просто дьявол! – искристо рассмеялась Алёна, оставшаяся самой собой, – брат долго и усердно работал над приятием сестры без прикрас родственных связей. Однако всё же немного возвысил её ростом над остальными.
– Крути, Саша! – раздался еле слышимый голос откуда-то с бренной земли. Бабуля, как и все пожилые люди, воспринималась Алексом как списанный материал, практически человеками второго сорта, айт-унтерменшами. Вслух он эту доктрину, конечно, не озвучивал в силу природного (действительно существующего) такта, но всегда держал в застенках ума в неизменном виде.
Алёна опустилась сквозь пелену облаков, присела на корточки и посадила крохотную бабушку, точно божью коровку, себе на ладонь.
– А то вас плохо слышно, – улыбалась Алёна-титан бабе Томе.
Алекс раскрутил часы. Слиток его внутреннего мира заслоился памятью. Едва пронеслись последние невзрачные полгода и мелькнула вспышка смерти, как светящиеся гранулы времени принялись истово наматывать дни, годы и месяцы на ось. Сквозь окрылённый вихрь мгновений отчётливо виднелась суть человека-Алекса: развращённый безнаказанностью, самой худшей формой разврата, он с разбега сиганул в открытое море соблазнов и искушений, себя никак не сдерживая. И день от дня, месяц от месяца, пороки и их волеизъявления, возвращающие его из оборвавшейся молодости в крылатую юность, лишь крепли: вдумчиво-взрослый и кропотливо взращивающий каждый свой бизнес или дело и лишь по вечерам пятниц и выходным уходящий в загул Алекс образца прошлого года быстро юнел и растворялся в своём предыдущем варианте, в образчике, смеющемся в лицо наваждению совестей. Густели летящие мимо глаз воспоминания, летели к остановке в одиннадцать ступеней жизненного опыта памятные моменты, наполненные до краёв куражами, тусами, фестивалями, гонками и девицами. И практически все фрагменты былого имели смазанные края наркотического трипа. Скелеты спокойно вышли из шкафа в свет и откланялись, себя подчёркнуто не стесняясь, а скорее собой гордясь, – полное отсутствие стыдливости за прошлое щёлкнуло каждому по носу. За исключением только сбитой девочки. Этот эпизод встал особняком и долго нависал над всем миром памяти, увеличивающимся пропорционально уменьшая самого Алекса в размерах. Воспоминания, вращающиеся вихрем вспять, юнели. Алекс в них становился напористей и нетерпимее, а алкоголь и бодрящие порошки плотно входили в ежедневный рацион. Юность скользнула в отрочество, вывернув переходный возраст наизнанку и поле пожатых подростковых комплексов перекопав с подозрительной лёгкостью. Алекс сделался юнцом с полным набором необходимых атрибутов – видеоигры, велосипеды, розыгрыши, дурачество и нежелание учиться, всё психотропное сведя практически к нулю, но вместе с тем наполнив сердце тяжёлой, невыносимой скорбью, раздирающей горестью, дав каждому смотрящему изнанку его памяти банальное объяснение появления в его дальнейшей жизни чудесных порошков и их последствий.
Часы остановились, развернув на всё сознание последнее воспоминание, – о третьем августа две тысячи первого года: Алекс лениво-пятнично сидел у друга в гостях, впотьмах задёрнутых штор рубясь в «плейстейшен».
– Дай угадаю, ты до ночи сидел и рубился в приставку? – насмешливо предположил Вова.
– Угадал, – броско отзвенел Алекс, с любопытством осматривая себя юного сквозь многогранную призму опыта прожитых лет.
– Может, стоило для начала спросить, кто что делал, и есть ли вообще смысл копошиться во всех памятях? – Вова-титан корил громадным карим взглядом бабушку-человека, ловко вынеся за скобки собственную инициативу позвать Алекса. – Какая-то интересная, но пустая трата времени.
– Может быть! – еле слышно произнесла крошка-бабушка с ладони Алёны, сложив руки у рта рупором для усиления громкости.
– Паца, вы чё делали? – спросил Вова друзей.
– Я с батей на рыбалку уехал на Тыгиш с ночевой. Я бы с радостью вам всё там показал, место – супер. Только сомневаюсь, что это кому-то интересно, – улыбчиво сообщил Евген, совершенно не чурающийся ни своего прошлого, ни настоящего, ни своего видения окружающих, ни самого себя. Обыденная, подкупающая естественность его сдержанно-горячего нрава делала его своим в любой компании, в любом деле.
– Ладно, тогда пропустим тебя. Коди, а ты? У тебя же идеальная память, ты всё помнишь. Все мелочи, все детали.
– Ну… Я запоминаю только то, что интересно мне. В тот день я сидел во дворе у себя. И познакомился с, так сказать, своей плохой компанией. Потом мы пошли на какие-то поминки пожрать.
– Не против, если мы глянем? – тактично справился Вова.
– Вообще против. Но если для дела полезно… – Костик сильно, как-то нервозно промассировал шею.
– Ладно. Тогда сейчас откупорим мою капсулу времени и посмотрим мою мазню, потом твою память прочешем. А там, может, и бабуля созреет.
– Я уже! – с громады Алёниной божественной длани кричала бабушка-человечек.
Алекс скрутил время памяти, а Вова, инициативу в свои руки прибрав, тут же раскрутил. Его сознание предстало абсолютным непостоянством и текучестью форм, структур и образов, динамично меняясь калейдоскопической мозаикой и не давая ни одному из органов чувств зацепиться за нечто привычное и понятное восприятию. Ребята как будто оказались внутри банки с красками (постоянно будоражимой кистью неусидчивого художника), сочетания которых были совершенными. Любая возникшая форма или образ всегда обладали золотым сечением в любой пропорции или плоскости, равно как и совершенством с точки зрения смеси цветов, звуков, запахов, и даже мимолётное прикосновение к материалу сознания производило на осязание непередаваемый эффект.
– Ничего не понятно, но бесконечно красиво, – точно описала Алёна, идеально вписавшаяся в буйство вечной изменчивости красок и линий.
Она, конечно, не удержалась и макнула пальчик в сочную «стену», мяукнув: «Вау».
– Я так вижу мир, – коротко объяснил Вова.
Ребята не претерпели заметных глазу изменений, разве что от Алёны веяло нежным теплом и явно угадываемым чем-то большим. Даже бабушка осталась самой собой, не смотря на.
– Вот так просто? Я думал, я превращусь в кучу говна, – издевательским тоном, пропитанным ядом, бросил Алекс, себя осмотрев и отличий от образа действительно существующего не найдя.
– Некоторые черты твоего характера не отменяют положительных качеств, – отдавая должное Алексу, спокойно парировал Вова. – Ладно, понеслась.
Вова несколько поспешно раскрутил маховое колесо памяти. Светящиеся гранулы мгновений завертелись волчком, чего-то нового не привнеся. Сознание так и осталось смолянисто тягучим, разве что задвигалось, заиграло, чуть быстрее. Спешнее таяли странные миражи, из которых вылетали разные, непонятно к чему относящиеся образы: поле в окно бросив, стучал колёсами поезд, после – растворялись детали красивого женского лица с длинными кудрявыми волосами, потом – штормило ветряные деревья, далее – сохло во время дождя бельё на верёвках, после этого – извергался маяк заката и по небу, открытому нараспашку, растекалась лава цвета, далее – в огонь упал и затрещал колкими перезвонами шифер, затем – две полоски-ленты от санок на снегу-пухляку заструились в проулок, позже – руки обхватили тарзанку и тело с раскачки сделало переворот перед шумным погружением в пруд, потом – мельтешил перед глазами колосок, зажатый меж зубов, после…
– У тебя и правда беда с памятью… – раздосадованно произнесла Алёна, надеясь, что Вова шутил и что можно будет основательно погрузиться в бездонную шахту его воспоминаний, полную целых созвездий непостижимых тайн, а не мелко нарезанных несвязно-рваных сюжетов.
– Это всё парамнезия, тут и мои воспоминания, и чужие – людей и духов, смесь своего прошлого и чужого настоящего. Это последние несколько лет. Так, сейчас сквозь горизонты былых дней начнут проясняться нормальные воспоминания. Ну, как нормальные…
Едва эти слова сорвались с Вовиного языка, образы стали сливаться в некие цельные картины. Появились рабочие воспоминания, быстро, точно растрёпанная колода карт, сменяющие друг друга. То Вова копошился с кабелями под потолком, и под ним сломалась высокая лестница-стремянка, и он повис на одной руке на трубе; то на стройке он с бригадой выталкивал увязший в грязи «МАЗ», зачем-то въехавший внутрь какого-то здания, а после долго отмокал в домашней ванной, полной ссыпавшегося с него песка; то он разгружал фуру, набитую блоками полуторалитровых бутылок; то расчищал лопатой крышу от строительного мусора; то делал опалубку для фундамента частного дома; то вёз в такси буйную компанию, самый отвязный член которой выбросил пивную бутылку в окно (Вовину машину зажали в «коробочку» и началась потасовка); то Вова возился в электрощите и «коротыш», только чудом Вову не убив, изрыгнул сноп искр, дыма и синеватого пламени; то Вова перегонял авто, и по встречной ночной полосе в лоб летел лихач, и Вова в последнее мгновение увернулся от полуторатонного снаряда; то жар сталелитейного завода, то пар керамической фабрики, то запахи пищевого производства, то…
И практически в каждом фрагменте присутствовали полупрозрачные, иногда сильно смазанные силуэты духов и проекций, для других людей не видимые и чётко различимые представители законы и следовавшие за ними проблемы – красные удостоверения, кабинеты, белые листы, наручники, решётки.
– Не самая интересная биография, – надменно цокнул Алекс, отвернувшись от скук работяще-криминально-экстрасенсорной памяти. Но больше все-таки работящей.
Вова безмолвно согласился, промассировав запястья. Руки наливались чугунной усталостью от одного только вида этих воспоминаний.
– Но есть там и хорошие вещи, – Вова остановил часы, точно подгадав момент. Торбинский забил голландцам, и огромный бар, под завязку набитый горластыми болельщиками, вмиг сошёл с ума и попросту взорвался радостью. Полетели пивные кружки, стулья, люди. Кто-то обнимался и плакал, кто-то скакал и танцевал на столах, кто-то крестился и кричал как никогда громко. После – громогласная толпа, подбрасывая кого-то в воздух и бегая по машинам, обливалась на ночной улице шампанским, даже не думая утихать и прекращать веселье.
– Вот это действительно стоящие воспоминания! – одобрил Евген.
– Я где-то тоже там в толпе затерялся, – хвастался Костик.
– Давай, крути, Вова. Время не ждёт, – сказала мягко бабушка.
– И не отпускает, и снова зеркало врёт… – промолвил Вова, памяти ход вновь дав и счастливейшую из ночных улиц в крупицу времени и пространства свернув.
Он юнел и делался ниже ростом, но смысл воспоминаний особенных изменений не претерпел. Мелькали рваные обрывки работ, обильно приправленные пробелами в рабочих буднях проблемами с законом и с редкими вкраплениями походов в учебное заведение и пьяных похождений с юными Костиком и Евгеном: Вова работал то барменом, то официантом, то продавцом-консультантом, то автомойщиком, то курьером, то промоутером, то автозаправщиком, то почтальоном, то грузчиком, то просто стоял на рынке с картонной табличкой «разнорабочий» в руках. Попутно проводя бесчисленные часы то в кабинетах следователей, то в СИЗО, то в поиске адвокатов, то в работе над алиби. Словом, насыщал свои юные годы тем, чему там явно было не место.
При этом ощущение лёгкости мира и его неподвластная человеческому разрушению красота никуда не делись, и даже подступающая и утяжеляющаяся скорбь о потере родителей, разлуке с братом и утрате отчего дома имела какое-то странное послевкусие: она была нестерпимо ужасна и одновременно прекрасна в самом пике саморазрушения, на острие уничтоженной, выжженной дотла жизни маленького человека. Это было невозможно понять и принять, не пропустив через себя Вовино восприятие действительности, и лишь оказавшись внутри его сознания, он сам сделался как будто чуть-чуть понятнее, ближе.
– Я понимаю, сложно осознать моё отношение к жизни, – пытался объяснить Вова, без энтузиазма вглядываясь в рутину минувших, непринуждённо листаемых дней, имеющих приторное, однотипное наполнение. – Это такой специфический дуализм. Суть его в том, что сам мир полярен и двойственен – день и ночь, лето и зима, сердце и разум, мужчина и женщина, жизнь и смерть.
В этот момент мелькнул какой-то коротко стриженный окровавленный человек, которого Вова вытащил из машины Евгена и положил рядом со входом в больницу, после чего быстро вернулся, бросив несколько больших зажжённых петард и рассыпав из тряпочки стрелянные гильзы.
– И только соединяя эти две противоположные сущности, можно постичь суть вещей, – Вова переглянулся с Костиком и Евгеном, Алёна заметила. – Поэтому я всегда мог найти в ужасах жизни, своей и чаще чужих, некий эквивалент красоты и глубины смысла.
Фрагменты вновь насытились рабочими скучными буднями с частыми вкраплениями разных хулиганских выходок в компании двух известных ребят и одного неизвестного рыжеволосого и самого отъявленного.
– Всё равно сложно… – не смогла полноценно вникнуть Алёна, не найдя ни крупицы даже намёка на нечто светлое в том, что случилось с её семьёй, и даже притянутая попытка приложить знак «плюс» к событийному пласту ужасных событий выглядела абсолютно неестественно и попросту кощунственно.
Часы на излёте делали последние махи, но внезапно вклинившийся вероломный палец Вовы остановил их замедляющееся вращение, до нужного дня время не выкрутив.
– Хочу взглянуть ещё кое на что.
Стоп-кадр ожил: утренняя вторничная заря расправляла крылья. Дремучий, сырой лес медленно отходил ото сна. Плеяда крепких мужиков с ружьями наперевес в одной компании с несколькими милиционерами, с трудом удерживающих собак-ищеек, усердно работающих носами, прочёсывала влажную чащу. Впереди рыскали несколько извечно бесстрашных мальчишек, среди которых были юнцы с легко угадываемыми чертами лиц: уже имеющий склонности к коренастому округлению Евген и прыткий, светловолосый Костик. Востры уши, зорки глаза, заточена ощупь их.
Вова ввёл компанию укротителей памяти за собой внутрь воспоминания: затаил дыхание лес, застыл в паутинах ветвей. Стелились мягко под подошвами хворост и мох. Влажно пах смолью и росой бор. Теснились прохладные тени. Кутали щиколотки мягкие, полупрозрачные волокнистые нитки тумана.
Шесть путешественников в прошлое подошли вплотную к высокой раскидистой сосне, корнями во мхи обутую, у основания которой мальчик с посиневшим от сырой прохлады и голода лицом спал в обнимку с огромной чёрной волчицей. Вместе они не выглядели чужими, скорее наоборот, – что-то родственное читалось в странном союзе зверя и человека. Уральских Рема и волчицы.
– Это точно стоит ещё раз увидеть, – усмехнулся бородой Евген.
– Страшно было за тебя, мы думали, что эта волчица тебя порвала, а не спасла. Кто бы мог подумать, что такое бывает, – вновь изумился увиденному Костик, пальцами скользнув по затылку.
– Пропавшие без вести дети иногда просто просыпаются взрослыми, – сказал Вова, глядя, как старая волчица делает свой последний вдох, своим теплом мальчику жизнь сохранив. – Я три дня бродил по лесу вместе с ней. Три не по-летнему холодных дня. Может, она уводила меня вглубь. Может, подводила к выходу из леса. Я не знаю. Но она делилась со мной своей добычей. Грела по ночам своим теплом. А когда вы меня нашли, она умерла.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?