Текст книги "Мой бедный Йорик"
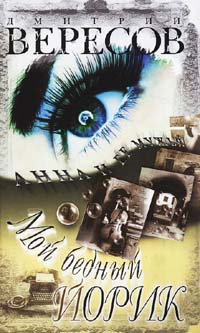
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Глава 15
Так на же, самозванец-душегуб!
Глотай свою жемчужину в растворе!
В этой поездке Аня все для себя решила. Вернее, у нее было странное ощущение, что все решено без нее. Каждая влюбленная пара, супруги, просто люди, живущие какое-то время вместе, окружены вещами, словами, привычками, воспоминаниями, понятными только им одним, значимыми исключительно для них. Вот это окружение Ани и Иеронима, их особый мир, давно начал трансформироваться, изменяться. Ане казалось, что мир любви меняется на что-то другое, осталось еще несколько красок, оттенков, и скоро все сложится заново, как в калейдоскопе.
Конечно, пустой дом находился в Свербилово, а реальный «корабль» стоял на улице Кораблестроителей в Петербурге. Но в их с Иеронимом мире у них был один общий фасад. Только теперь на нем не горело, высвеченное теплым домашним светом, ее имя. Лишь темные квадратные дыры, сквозняк, сырость и запустение. Все сложилось по-новому, и любви больше здесь нет.
Иероним это тоже понимал. Он был растерян, как нескладный папаша, прищемивший пальчик своему малышу. Что-то нужно было делать: лить холодную воду, мазать йодом, заговорить, отвлечь, взять, наконец, ребенка на руки… А он растерянно хлопал глазами и ждал, чем все это кончится.
Правда, еще над ними висела выставка Василия Лонгина. Совместная работа не сближала Аню и Иеронима, а, наоборот, уводила их отношения в другую область, где они словно репетировали новый вид общения друг с другом. Любовь уходила, но взаимопонимание осталось. Не сказав друг другу ни слова о предстоящем разрыве, они поняли, что все закончится после выставки.
Работы оказалось на удивление много. С трудом удалось набрать картин Лонгина даже для небольшого флигеля. Пришлось заполнить некоторые пустоты графическими работами Василия Ивановича. Многие полотна нуждались в быстрой реставрации, например, «Политбюро» из Свербилово. Этим занимались Иероним с Никитой Фасоновым. Аня бегала по редакциям, договаривалась с телевидением, радиостанциями. Суетились, хлопотали и скульптор Морошко, и адвокат Ростомянц. Но вся эта беготня никогда не превратилась бы в реальную работу, если бы не Вилен Сергеевич Пафнутьев. Он мягко, ненавязчиво направлял, подсказывал, контролировал. Как-то он позвонил Ане во втором часу ночи, минут пять извинялся, расшаркивался в трубку, а потом напомнил ей, что хотя редактор вещания отказался с ней встречаться, но ему уже позвонили, и, значит, он готов принять ее.
Коммунисты особого участия в организации не принимали. Но ближе к открытию выставки активизировались. Накануне вернисажа они устроили последний смотр картин. Приехало несколько очень вежливых господ, видимо, из плеяды Вилена Сергеевича. Экспозиция была ими, в основном, одобрена, за исключением двух полотен: «Никита Сергеевич Хрущев во время дружественного визита в Афганистан» и автопортрет художника с женой. По поводу первой картины они заметили, что роль Хрущева в истории России по преимуществу отрицательна и деструктивна, а вторая картина написана в иной художественной манере, к тому же не закончена – Иероним замалевал третью фигуру серым пятном, неотличимым от прежнего.
Тут оргкомитет выставки из родных и близких художника принял боевую стойку. Фигуру Хрущева взяли под защиту, как одну из страниц отечественной истории и зрелого творчества Лонгина. К тому же всем было жалко изображенного на полотне афганского слона. Он очень живенько смотрелся среди представленных на выставке граненых физиономий.
В защиту автопортрета резко выступил сын художника. Он заявил, что автопортрет венчает собой все творчество Лонгина-старшего. Это художественный итог, его творческое завещание. Незаконченность последнего полотна сама по себе замечательна и художественно оправдана. Если кому-то не нравится последний штрих художника, тот может быть в срочном порядке заменен другим политическим спонсором, который и к Никите Сергеевичу относится лояльнее.
Тамара Леонидовна Лонгина горячо поддержала пасынка. Она сражалась за свое собственное изображение, а потом у нее уже все было продумано, начиная от фотографии на глянцевой обложке до интервью телевидению возле последней картины мужа.
Как обычно, Вилен Сергеевич всех успокоил, каждому нашел нужные слова, к каждому подобрал ключики, примирил позиции, нашел массу аргументов. Все остались довольны, и выставка состоялась.
– Мачеха пыталась у меня выведать, как ты будешь одета на вернисаже, – сказал с утра Иероним. – Откуда мне знать? Особенно ее интересовало – не будешь ли ты в красном? Я так понял, она хотела оставить этот цвет за собой.
У Ани было приготовлено для этого случая простое с виду, но дорогое платье темно-лилового цвета. Но, услышав про такие светские тонкости, она метнула его обратно в шкаф, натянула красную футболку и черные джинсы.
На канале Грибоедова с утра толпился народ. Раньше всех подтянулись старички и старушки с красными бантиками на груди. Они вели себя активно, но организованно. Но привычка к пикетам и группам протеста скоро дала о себе знать. С проплывавшего мимо прогулочного катера невыспавшийся моторист громко помянул их коммунистическое прошлое, и в ответ ему грянул залп береговых орудий, правда, давно уже снятых с вооружения.
Джипу Иеронима тоже досталось под горячую руку. Но кто-то из информированных подсказал старикам, что это сын художника Лонгина. Тут же старушка в берете вспомнила, что у Маяковского тоже была иномарка, а он был лучшим пролетарским поэтом, по мнению Сталина. Это был серьезный аргумент, и на выходящего из машины Иеронима первые посетители выставки смотрели уже поприветливее. Аня вообще своей красной футболкой сошла за свою. Но вдруг огромные двери чуть приоткрылись, и на крыльцо вышла вдова художника. Она была встречена несколько скрипучим возгласом всеобщего восхищения и резким подъемом коммунистических настроений.
Дело в том, что мачеха Тамара была в ярко красном, ниспадавшем свободными складками, платье. Одно плечо ее было обнажено, как на картине «Свобода на баррикадах», и переходило в одностороннее, глубокое, на грани риска, декольте. Утренний ветер, гулявший по каналу Грибоедова, развевал ее алое платье, как пролетарское знамя. Платье реяло на ветру в сторону Казанского собора, со стороны же Спаса на Крови оно обтекало ее недурную фигуру. Какому-то старичку стало плохо, к нему подбежали сразу несколько бабулек и насовали ему в открытый от изумления рот валидол, нитроглицерин и еще какое-то новое импортное средство, которым бесплатно снабжала их партия.
Если бы Тамара произнесла с крыльца: «Братья и сестры! Я поведу вас на Восток, в Индию духа!», они безропотно пошли бы за ней, легко умирая в пути с ее именем на губах. Но она косо поглядела на них и неприветливо пробормотала:
– Где эти козлы-телевизионщики? Обещались, как минимум, три канала, а не видно ни одной ср… камеры…
– Кто это? Кто? – прокатилось в маленькой толпе. – Вдова?.. Сама вдова?… Наша… Как она телевизионщиков!… Наша… Она в партии состоит?… Надо принять… Наша…
– Пойдем, они, кажется, очень неудачно разместили автопортрет отца, – сказал Ане Иероним. – Я в прошлый раз с ними ругался. Называется – музейные работники! Мачехе и дяде Виляю на это наплевать, а мне нет. Пойдем, посмотрим…
Аня и Иероним прошли внутрь. Недалеко от входа стояли Никита Фасонов, скульптор Морошко, адвокат Ростомянц и еще какой-то музейный работник. Они заметно нервничали, озирались по сторонам и машинально жались к портрету Леонида Брежнева, целующегося с бородатым Кастро. Аня тоже ощутила себя не совсем уютно, когда почувствовала себя в перекрестье взглядов-прожекторов Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского. Только музейный работник был спокоен и деловит.
– Мы давно пришли в нашей работе к правилу «обратной статистики», – говорил он голосом профессионального экскурсовода. – Чем большую площадь занимает выставка, тем меньше картин должно быть на ней представлено. И наоборот… Это особенности человеческого восприятия…
Опять появилась краснознаменная мачеха. На этот раз она искала Вилена Сергеевича.
– Не видно телевизионщиков, а теперь пропал Пафнутьев. Вы его не видели?
– Только что с ним разговаривал, – ответил Никита Фасонов. – Он, кажется, пошел за каталогами выставки.
– Боже мой, их еще не привезли?! Какой ужас! – воскликнула Тамара. – Я думала, все уже на месте. Этот день мне слишком дорого станет!
– Тамарочка, не нервничайте, – попробовал успокоить ее Афанасий Морошко. – Нервные клетки не восстанавливаются.
– По последним научным данным, восстанавливаются, Афанасий Петрович, – поправил его адвокат Ростомянц. – Так что нервничайте, Тамара Леонидовна, на здоровье!
– Спасибо, – мачеха сделала реверанс юристу.
Аня впервые видела Тамару такой порывистой, динамичной. Мачеха суетилась, кружила по залу, опять подходила к беседующим мужчинам. Вот что одежда делает с человеком! Мачеха в красном колыхалась во все стороны, как костер на ветру. Партия руководит народными массами, а платье – женщиной.
– Но где же наш Вилен Сергеевич? – опять спросила мачеха Тамара. – Куда он запропастился? Кто-нибудь поищите его! Без него же никак нельзя! Кто последним видел Пафнутьева?
– Тамарочка, Вилен всегда там, где надо, – опять попытался успокоить ее Морошко. – Не заблудился же он. Сейчас появится…
– А где Иероним, Анечка? Теперь этот куда-то исчез, – опять раскапризничалась Тамара, прохаживаясь под портретами великих мира сего. – Следите, пожалуйста, за своим мужем. Как бы он не выкинул чего!
– Разве я сторож мужу моему? – отозвалась Аня.
Мачеха Тамара, наверняка, оставила бы последнее слово за собой, но что-то стукнуло в дверь. В щель проскочил сначала яркий солнечный луч, а потом просунулась тощая спина, бритый затылок и камуфляжное кепи. Человек вошел вперед спиной, а его кепи – вперед козырьком. Без всякого почтения к историческим дверям, он опять стукнул их чем-то длинным, некомпактным. Наконец он продрался через тяжелые створки и втащил внутрь лампу и штатив.
– Трудно дверь подержать? – спросил он кого-то, еще невидимого.
Дверь опять открылась, на этот раз шире, и в дверном проеме показалась девушка и человек-камера. За ними тут же сунулись старички с красными бантами, но кто-то невидимый сдержал их сердитым окриком, обычно адресуемым к несовершеннолетним, – «Вам еще рано!» – и плотно затворил дверь.
Телевизионщики поднялись по лестнице, глядя глазами-объективами мимо толпившихся людей. Но мачеху Тамару они не могли не заметить.
– Ее обязательно сделай, – сказала девица оператору, указав пальчиком на красную вдову.
– Между прочим, я – Тамара Лонгина, – сказала обиженная сугубо профессиональным вниманием мачеха.
– Очень приятно, – сказала девица, быстренько пробегая глазами картины. – Пятая кнопка. Милютина.
– Кеша! Сталин, Ворошилов, Молотов… А Берии нигде нет? Жалко. Хрущев? На слоне? Рядом? Поглядим…
Милютина была остроносенькой, темненькой, ничем особым не примечательной девицей, если бы не подкрашенная красная прядь волос. Сегодня все были в красном.
– Кеша! – журналистка ткнула пальцем в грудь вождя народов. – Наезжай на Сталина!
– На него наедешь, – проворчал оператор. – Лера, давай Котовского снимем. А что? Хорошая картина! Котовский в тюремной камере делает гимнастику.
– Кеша! Не будь уродом! У нас сюжет на три минуты. Какая гимнастика? – тут Милютина увидела двойника Котовского скульптора Морошко. – Глянь! У этого с Котовским общий визажист. Молодой человек! Можно вас на минутку?
– Я, вообще-то, не такой уж и молодой! – запротестовал Афанасий Петрович. – У меня, слава богу, внуки уже.
– В ящике будете молодым, – сказала журналистка, подводя скульптора к картине с Григорием Котовским.
– Простите, не понял? – побледнел Морошко то ли от возмущения, то ли от страха.
– Я имею в виду, в телевизоре, – поправилась Милютина. – Телевизор ящиком называют. Впервые слышите, что ли? Вы как его зовете?
– «Панасоником», – растерянно пробормотал скульптор.
– Тяжелый случай, – сказала журналистка оператору. – Ладно, потом его порежем.
Бедный Афанасий Петрович вытер платочком лысину и посмотрел на картину, где герой гражданской войны сам себе выворачивал ногу, совершая последний подвиг в японской гимнастике.
– Кеша, готов? Поехали!.. Здравствуйте, представьтесь.
Милютина сунула Афанасию Петровичу микрофон. Он тут же попытался схватить его, но получил от опытной журналистки по рукам:
– Лапки убрали, мысли достали, – сказала она спокойным голосом. – Поехали!.. Здравствуйте, представьтесь…
– Афанасий Петрович Морошко, скульптор, лауреат…
– Вы случайно зашли на эту выставку?
– Дело в том, что Василий Иванович Лонгин был моим лучшим другом на протяжении многих лет. Вместе с ним мы…
В этот момент Морошко встретил исполненный злобы и ревности взгляд Тамары Лонгиной и запнулся.
– В прессе Василия Лонгина назвали придворным живописцем…
– Это в высшей степени оскорбительно, – возмутился Афанасий Петрович за друга. – Василий Иванович был замечательным мастером, реалистично отражал эпоху… Вообще, это вечная тема – художник и власть. Но Василий Лонгин никогда не уходил от острой критики режима. Например, в колонне демонстрантов на Красной площади пятым слева виден диссидент Буковский. Все машут флажками, а он машет Политбюро кулаком. Только возьмите картину самым крупным планом, а то не рассмотреть.
– А правда, что у Лонгина были серии эротических гравюр «Фурцева с Зыкиной в бане» и «Паша Ангелина в поле»?
Морошко захихикал и совсем по-западному сказал в камеру:
– Без комментариев.
– Научился, старый пень, – в сторону буркнула Милютина.
К скульптору она потеряла всякий интерес, покрутила головой и остановилась на самом ярком пятне среди всех посетителей, то есть Тамаре Лонгиной.
– Есть еще что-нибудь стильное, вернее, сильное? – спросила ее Милютина.
– Уж не знаю, чем вам угодить. Брежнева с Тэтчер в сауне, к сожалению, нет, – язвительно заметила Тамара.
– Жаль, – равнодушно ответила тележурналистка. – А из живчиков? Я имею в виду, здравствующих политиков тут не представлено?
– Из здравствующих на выставке…. – мачеха задумалась, – только я одна. Вам, наверное, нужно начать с автопортрета художника. Он в самом дальнем углу. Пройдемте?
Милютина поморщилась, посмотрела на оператора, вздохнула и пошла за Тамарой. Следом потянулись все остальные.
– Там не очень хорошее освещение, – говорила Тамара, взяв, наконец, на себя роль хозяйки, – но это на совести музея.
– Ничего, у нас все с собой, – ответила Милютина. – Кеша! Где он все время ходит?
– Где ты все время ходишь?! – крикнул Кеша через плечо. – Тащи сюда!
Последний автопортрет Василия Лонгина, действительно, висел крайне неудачно. Его запросто можно было не заметить за колонной. То ли коммунисты каким-то образом повлияли на размещение экспозиции, то ли у картины была такая нелегкая судьба, но рассмотреть ее как следует было сложно. На изображение художника падала тень, на белых руках вдовы играли блики от электрического света.
– Вот, полюбуйтесь сами. Разве так… – Тамара простерла руку к портрету, повернувшись к нему вполоборота, но фразу не закончила.
Глаза всех стоявших перед ней и портретом людей смотрели куда-то вниз, словно в ее одежде был какой-то шокирующий беспорядок. Тамара обернулась. Прямо на полу, у стены, под портретом, лежал человек. Можно было подумать, что он упал с картины, а на его месте осталось только серое пятно.
– Что это? Кто? – пробормотала мачеха Тамара, еще не успевшая опустить протянутую к портрету руку.
Адвокат Ростомянц первым нарушил всеобщее замешательство.
– Кому-то плохо или пьяница? – он сделал два уверенных шага и склонился над лежащим. – Вилен Сергеевич? Не может быть!
– Врача! – крикнула Тамара. – Позовите врача!
– Милицию, – добавил Ростомянц, – он мертв и, по-моему, убит.
– Свет! – теперь крикнула очнувшаяся от дремы Милютина. – Кеша, работай! А потом меня крупным планом… Быстрее делай, Кеша! Где этот опять ходит? Будет свет или нет? Наезжаешь на труп. Все как обычно. Культурная неторопливая хроника резко переходит в уголовную. Ты понял жанр? Кеша, это будет супер!…
Вспыхнул яркий, направленный свет. Пафнутьев лежал на боку, странно выгнув шею, словно пытался положить голову поудобнее. На пол и стену легла узкая ломаная тень от стоявшего вертикально небольшого предмета. Из головы Пафнутьева торчала темная рукоятка, а залитое черной кровью ухо представляло собой подобие ее гарды.
Часть третья
Явление Чайного Рыцаря
Глава 16
Я тело уберу и сам отвечу
За эту кровь. Еще раз – добрый сон.
Из жалости я должен быть суровым.
Несчастья начались, готовьтесь к новым.
Ане приходилось видеть трупы. Когда на третьем курсе она была на практике в небольшой всеволожской газете, ей поручили вести милицейскую хронику. В первый же день практики гаишник с космической фамилией Терешков вывез ее на ДТП.
На мокром Колтушском шоссе перевернулся грузовик. Кабина была смята в лепешку. Водитель и его напарник лежали на асфальте в одних носках, с оголенными животами. Аня не видела ни одного красного пятнышка, только серые, цвета высохшего асфальта лица и белые домашние животы. Немного розового было в кювете – там тихо покачивался иван-чай… Это были первые погибшие люди в ее жизни.
Потом она несколько раз выезжала с милицейским патрулем. Видела зарезанную алкоголиком-мужем алкоголичку-жену, выброшенного из электрички мужика, перерезанного пополам встречным поездом, умершего в одиночестве инвалида, о смерти которого догадались соседи снизу лишь по запаху явного разложения…
Она смотрела на все эти ужасы удивительно спокойно, задавала вопросы, записывала. Аня совершала работу, которая тогда нравилась ей и казалась очень важной для общества. Она была в какой-то двойной защитной оболочке – снаружи и внутри. Она не боялась пьяного алкаша с ножом, бросавшегося на милиционеров. Ее не ужасали страшные признаки насильственной смерти. Никто и ничто не могло причинить ей никакого вреда, пока она находилась в репортерском кураже.
Сейчас все было иначе. У нее страшно разболелась голова, будто узкое стальное жало вошло не в мозг Вилена Сергеевича, а в ее собственный. Красный цвет, в изобилии присутствовавший на выставке, теперь вызывал у нее тошноту. На пути к выходу она старалась не смотреть на попадавшихся навстречу людей. Особенно невыносимы ей были человеческие уши, нарисованные и живые. Уши были композиционными центрами всех картин выставки. Ухо Брежнева, ухо Ворошилова, ухо Хрущева, огромное ухо афганского слона… Живые люди тоже норовили повернуться к ней в профиль и показать ухо. Оттопыренные, остренькие, мясистые, лопухи… «Мы живы, – шептали они Ане, краснея от счастья. – Живы… Старые, молодые, женские особенно… Уши, уши, уши…»
– Боже мой! – вскрикнула Аня и выскочила на набережную канала Грибоедова.
Старики с красными бантами возмущались и негодовали.
– Провокация! – кричала бабуля в берете. – Это провокация! Они хотят любыми средствами сорвать выставку! Не позволим! Позор!…
Аня поискала глазами джип Иеронима. Его нигде не было. «Вольво» Пафнутьева был здесь, но рядом с машиной было пусто, и на освободившееся место уже заворачивала посторонняя «девятка». Иероним уехал без нее, он просто бежал…
И тут Ане все стало ясно, как день, как этот солнечный день, с голубым небом, со сверкающими крестами Спаса на Крови. События последней недели, включая и сегодняшние, разговоры и недомолвки сложились в ее голове в единое целое. Аня почувствовала себя гораздо лучше. Ее новое состояние было отчасти похоже на тот самый репортерский кураж, репортажное включение. Только она была сейчас не корреспондентом, а… женой убийцы.
Жена убийцы ехала в метро, на нее смотрели мужчины, как обычно, ничего не подозревая. Какой-то парень глядел на нее особенно часто. Не встречая ответного Аниного взгляда, он попытался смотреть в сторону, но у него ничего не получалось.
На улице была поздняя летняя благодать. Прохожие жадно ловили последние солнечные деньки, но в глазах их уже читалась осенняя озабоченность. Кто-то из девушек делал ставку на обнаженный живот, но лето прошло, а ставка не сыграла. Школьники, даже самые скучные отличники, в эти дни постигали закон относительности, наблюдая, как быстро пролетали каникулы. Кого-то из прохожих уже заботил старенький демисезонный гардероб, который давно ждал перемен.
Аня смотрела на людей, тащивших своих детишек в сторону зоопарка, чтобы к первому сентября уничтожить у них последние мысли о летней свободе. Но и на Каменноостровском проспекте людей было не меньше. Ане в голову пришла забавная мысль о том, что на свете живет множество людей, и у каждого из них в шкафу… нет, не скелет… у каждого в шкафу лежит шарф. У некоторых даже не один. Как змеи, шарфы свернулись в клубки и ждут своего времени. Вот подули уже холодные ветры, над городом натянули низкое серое небо. Тогда шерстяные змеи сползают с полок, вешаются на людей, стискивают свои вязаные кольца и душат, душат каждый своего человечка.
А еще на свете так много всяких смешных шапок! Они тоже ждут своего часа, чтобы начать, наконец, сезонное уродование людей. Самая затрапезная шапчонка, наверняка, чувствует свое верховное положение, ведь она выше всех, она наползает на глаза, закрывает уши…
Нет, теперь мысль об ушах уже не вызывала у Ани такого ужаса. Она даже спокойно сформулировала: Вилен Сергеевич был убит точным ударом в ухо. Когда в детстве она смотрела по телевизору «Гамлета» со Смоктуновским в главной роли, ее поразила сцена отравления в саду. Спящему налили яд в ухо. Помнится, у Ани даже ухо в эту ночь разболелось, и мама делала ей спиртовой компресс. Потом она какое-то время боялась обычных хозяйственных воронок. Маленькой Ане казалось, что они придуманы как раз для вливания яда в ушное отверстие. Как мама только может держать такую страсть среди посуды?
По привычке Аня завернула в парфюмерный магазин, где ее уже не только узнавали в лицо, но знали и ее вкусы. Милая продавщица с табличкой «Света» на груди приветливо поздоровалась и защебетала:
– У нас интересные новинки. Мне кажется, как раз из ваших любимых запахов. Вы же любите приглушенные, нерезкие? Вот попробуйте это. Очень вам рекомендую…
Аня осторожно вдыхала запах за запахом, совершенно не различая их сейчас. Ей почему-то страшно хотелось говорить об убийствах, преступлениях. Если бы ее в данную минуту допрашивал следователь, она обязательно все ему разболтала, да еще получила бы от этого необъяснимое удовольствие. Выходит, фильм «Берегись автомобиля!» с тем же самым Смоктуновским был не такой уж комедией?
– А у вас есть туалетная вода «Killer's wife»? – спросила Аня, чувствуя приятное волнение.
– Впервые слышу, – пожала плечами удивленная продавщица.
– Что вы! Удивительная вещь! Горьковатый запах миндаля, очень волнующий, с такой, знаете ли, скрытой страстью…
– А кто изготовитель? От какого парфюмерного дома?
– От «Армани», – соврала Аня, не моргнув глазом.
– Очень любопытно было бы посмотреть, – недоверчиво проговорила девица. – А у вас остался флакончик? Любопытно было бы взглянуть.
– У меня, к сожалению, был только пробник. Мне очень нужно подарить эту туалетную воду одной знакомой даме, как говорится, со значением.
– Неужели, ее муж киллер? – засмеялась продавщица Света.
– Вы угадали, – наклоняясь к ней через прилавок, прошептала Аня. – Теперь вы тоже об этом знаете.
– Ой, – продавщица закрыла ладошкой рот и побледнела. – Лучше не надо. Я больше не буду… об этом говорить. Давайте я поговорю с нашим менеджером, – предложила она с надеждой в голосе. – Может, он что-нибудь знает об этой парфюмерии. Вы заходите на следующей неделе…
Выйдя из парфюмерного магазина, Аня почувствовала себя последней дурой. Теперь ей было совершенно непонятно, зачем ей понадобилось болтать такую чепуху и пугать молоденькую продавщицу. Хватит играть в комедию с Юрием Деточкиным. Все гораздо серьезнее. «Но сейчас идет другая драма…» Откуда это? Из стихотворения Пастернака «Гамлет»: «Гул затих я вышел на подмостки…»
Аня вспомнила любимую фразу Иеронима: «Имеет место быть или не имеет место быть? Вот в чем вопрос». Неужели ее нерешительный, сомневающийся муж, способный только на мелкий скандал и нелепую выходку, убил негодяя Пафнутьева? Сколько времени Вилен Сергеевич душил его, не как шерстяной шарф, а как самый настоящий удав, на выдохе жертвы все сильнее и сильнее сжимая стальные кольца.
Она знала, что у Вилена Сергеевича, мачехи Тамары и ее мужа было общее дело. Дело это приносило большие деньги, но было, мягко говоря, не совсем чистым. Самая непонятная в этом деле – роль Иеронима. Он не был свободен ни словом, ни делом. И это при том, что он рисовал свои картины!
Кто на этом свете свободней творца? Кто может лишить художника свободы? Это невозможно, потому что ему ничего не нужно, чтобы созидать. Ему не нужны полезные ископаемые, энергетические установки, производственные площади, средства производства. Ему плевать на планирование, рыночные отношения, конституции. У него все всегда с собой. Огромный мир всегда перед ним, душа всегда при нем. Кисти, холст, карандаш, бумага… Это уже не обязательно. Желательно, конечно, но вполне можно перебиться и без них. А вот без любви, фантазий, напрасных хлопот и пустых переживаний обойтись нельзя.
Почему же Иероним рисовал, писал маслом, акварелью, но оставался при этом рабом Вилена Сергеевича? Ну хорошо, тот придумал, организовал выгодную продажу картин. Но условием продажи все равно должна быть их художественная ценность. Не могли же коллекционеры, специалисты, к тому же умеющие считать деньги, платить неизвестно за что? Или в живописи тоже есть свой двадцать пятый кадр, который, воздействуя на подсознание покупателей, заставляет их выкладывать кругленькую сумму за авангардистскую «мазню и халтуру», как выразился Никита Фасонов? А секретом этого кадра владеет Вилен Сергеевич?
Все это было не только утоплено глубоко в болотную воду, но еще и заросло сверху толстым слоем ряски. Одно понятно, что это подчиненное, рабское положение Иерониму было выгодно и тягостно одновременно. Это было ему так тяжело, что он надел на себя маску мелкого негодяя, неврастеника и юродивого. Принц Гамлет…
Вилен Сергеевич не верил ему или опасался, что неуравновешенный, непредсказуемый партнер может испортить все дело. Для шпионажа за Иеронимом он пытался завербовать его жену, то есть дал ей сразу две роли – Розенкранца и Гильденстерна. Это могло быть последней каплей терпения Аниного мужа.
Ей вспомнился недавний разговор с Иеронимом в машине. Оскорбить убийством нельзя? Пистолетным выстрелом, ударом кинжала в грудь, уколом шпаги, бокалом отравленного вина… А вот таким необычным убийством? Когда сталь входит в мозг, как внезапная гениальная мысль? Когда самая беззащитная и трогательная часть человеческого тела используется, как свободный, незащищенный вход для смерти? Даже способом убийства Вилена Сергеевича был поставлен Ане очередной вопрос. Неужели это Иероним так продолжил с ней тот разговор?
Аня лежала на диване, зажав голову между двумя подушками. Так легче было думать, и голова почти перестала болеть. Но теперь немного звенело в ушах, через равные промежутки времени. Отпустило и опять звякнуло. Она отодвинула одну подушку, и звон усилился. Звонили в дверь. Иероним!..
Он должен был прийти к ней, чтобы все рассказать, во всем признаться ей первой, а потом идти в прокуратуру или по Достоевскому – выйти на Сенную площадь, упасть на колени, трижды перекреститься и покаяться народу… Но это было так далеко и не важно – прокуратура, покаяние, народ. Самое главное на свете сейчас было щелкнуть замком и открыть мужу дверь.
В искаженно-закругленном отражении потусторонней реальности, проще говоря, в дверной глазок Аня увидела высокого мужчину в синих джинсах и темном спортивном джемпере. Он, чувствуя, что его разглядывают, скорчил какую-то приветливую гримасу и поклонился, как гоголевский чиновник.
– Вам кого? – спросила Аня строгим и отчего-то чужим голосом.
– Лонгину Анну… Алексеевну, – он подсмотрел в блокнотик.
– По какому вопросу вам нужна Анечка? – сейчас у нее получилась такая недоверчивая старуха.
– Я из милиции, – мужчина опустил вниз руку, словно собирался расстегнуть брюки, но рука его пошла выше, нащупала под джемпером нагрудный карман рубашки и показалась опять перед глазком уже с красным развернутым удостоверением. – Следователь…. ов. Откройте, пожалуйста.
– Как ваша фамилия? – проскрипела Аня. – Я не расслышала. Говорите громче и четче.
– Корнилов. Моя фамилия, бабушка, вам ничего не скажет.
– Почему? Может, я позвоню сейчас в ваш отдел, а мне ответят, что такого следователя у них нет?
Старушка у нее получилась очень бдительной. Аня заигралась. Надо было открывать следователю, к тому же понятно, по какому делу он пришел, но Ане стало мучительно стыдно за свое невзрослое поведение, и она тянула время. Убийство, следствие, а она откровенно валяет дурака. Жена убийцы, называется!..
– Звоните, звоните, – в голосе следователя Корнилова за металлической дверью проскользнули первые металлические нотки. – Я могу подсказать вам телефон следственного отдела.
– А вот этого не надо, – отозвалась бдительная бабуля. – Дадите мне подставной телефон, а там ваши сообщники все подтвердят. У самих телефонный справочник имеется. Вы из районного отдела или из местного отделения?.. А потом у вас фамилия не следовательская…
– А какая же?! – воскликнул следователь.
– Генерал был такой – Корнилов. Потом поэт Борис Корнилов, муж Ольги Берггольц. Между прочим, репрессирован и расстрелян. Фамилия у вас какая-то белогвардейская, антисоветская. Как вас с ней в органы-то взяли?
– Бабуля, я к вам по уголовному делу, а вы мне здесь лекции по истории и литературе читаете!
– А у вас еще и нервишки пошаливают. Какой же вы следователь? Еще и Корнилов. Берут теперь в органы кого попало, вот и развалили всю юстицию с юриспруденцией…
Бабка хоть и ворчала, но дверь все-таки постепенно, на третьем замке, открыла.
– А где бабуля? – следователь вытаращил глаза и задал вопрос из знаменитого гайдаевского фильма.
– Я за нее, – машинально ответила Аня.
– Ничего не понимаю, – сказал следователь, и это было уже из мультфильма.
Следователь был коротко пострижен, но борцовско-боксерский бобрик не делал его лицо ни суровым, ни страшным. Глаза у него были довольно выразительные, но смотрели не прямо. Вообще, он как-то все время поворачивался, как пристяжная лошадка. Казалось, что Корнилов был или стеснительным, или смешливым, а, может, и то, и другое сразу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































