Текст книги "Пунитаялини"
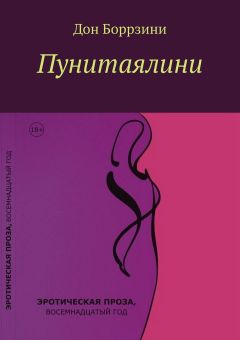
Автор книги: Дон Боррзини
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
9. У позорного столба
А жалюзи на этот раз они закрыли и вертикальные пластинки – ламели – в легких потоках воздуха терлись друг о друга, млели и тихо шуршали всю ночь. Наверное, так шелестят листья и шаги путников в виниловом лесу. Для полноты картины не хватало, чтобы с какого-нибудь хвойного дерева на виниловый диско-пень упала игла, и пень бы закружился, выкручиваясь из почвы, и родилась мелодия, может быть, песня, сообразная янтарной простоте обстановки и исподволь дополняющая природное полотно. Ну, например, «Однажды была у меня девушка, хотя, не вернее ли сказать, что как-то был у нее я»*. И в этой гостиничной виниловщине даже Пунитаялини, обычно чуткая, как кошка, прозевала наступление утра и чей-то приход. Навострила ушки только когда явно почуяла чужого…
Конни, конечно же, стучалась. Хотя твердые гарантии дать трудно, поскольку она представляла из себя чудную смесь негритянки и латинос. Она как раз была занята тем, что присматривала за своей супервайзершей. Ведь если эта сука Дебби станет шляться по коридору, то придется тщательно прибираться. А вот если ту ненароком засосет в лифт, который, кстати, рядом, то возможна в корне другая практика, о йеее! И эти несколько секунд, которые тянулись целую вечность, Конни прилежно проверяла своею тележку: как там у неё с наволочками и простынями, достаточно ли моющего средства, мыла, салфеток, – мало ли чего? И, конечно, трясла всем телом в такт музыке. А потрясти этой знойной женщине лет тридцати пяти было чем. Стройные точеные ноги с трудом умещались под юбкой, так им хотелось себя показать, и то же самое можно поведать об эпической заднице – нет, не огромной, а самое что ни на есть то. Живот – стройный, с изюминкой пупка, сиськи – упругие, прыгучие, вся подвижная и грациозная; а какие она умеет принимать позы, – просто задумавшись, совершенно зазевавшись!
«Фффууу», – отлегло у неё от сердца: двери лифта за Дебби закрылись, и та куда-то вознеслась или провалилась по своим супервайзерским делам. Крутанув жопой, Конни залетела в номер осмотреться. «Если не сильно намусорили, то зачем же тогда пылесосить; наволочки можно не менять, если люди голову моют – перевернуть подушку, да и только; а вот простыни придется перестилать по-любому… наверное?» С такими – и подобными – легкими мыслями уборщицы/хаузкиперши, озабоченной качественным обслуживанием постояльцев, она и забежала, бормоча какую-то почерпнутую из наушников рэп-несуразицу, пока не наткнулась на мужчину. Наткнулась, и руками всплеснула. Валяется рядом с кроватью, ну надо же?! Собой ничего, настолько ничего, что она с учетом долгого безрыбья и безрачья моментально сомлела…
…Эшли, учуяв, наконец, чужую, ощетинилась. Выскочила между Джо и чужой наглой бабой, зашипела: «Это что же такое!» (В более реалистичных выражениях, конечно). «Я… Мне… – зарделась Конни, – У меня ваш номер в списке, – замахала планшеткой в сторону злой голой девки. – Вот! Хорошо, тут он со знаком вопроса, то есть выезд не подтвержден, но ведь и не заплачено! Я постучала, может, люди выехали? Разве не слышали?» – «Мы остаемся. Мы заплатим. Вот проснется, – дёрнула Ялини головой в направлении заслоненного от вторжения Джо, – Так сразу и оплатим», – и смотрит на уборщицу, раздувая ноздри. (А что смотреть? Телефон не надо было отключать, дура). «Сорри-сорри, извините!» – взвизгнула Конни, выбегая в коридор. «Сучка белая, чуть не ляпнула по морде, хотя лучше бы ляпнула, вот бы я её тогда за расизм и засадила! Ой и засадила бы! А мужик бы – мне засаживал, за неимением той суки», – подумала, опять млея.
Завалилась спиной на стену. Ну не столько спиною, хотя и ею тоже, но более – задницей. Настоящей негритянской задницей. Которая не просто лишь похотливо выпуклая, но и еще как-то вся наверх, к солнцу рвется. Прижалась к стене, и её чуть ли не трясет. Всё вместе как-то сошлось, но Конни это даже расшевелило, распалило по-своему. Так вдруг захотелось себя поласкать, уже и руку под юбку запустила. И, чего скрывать, начала причащаться, – умелице трусы не помеха. «Но что, если кто-нибудь притащится? Или хотя бы морду высунет сдуру? А под впечатлением – оно так хорошо пошло! Она у меня сейчас слюни начнет пускать от удовольствия. И пузыри», – испугалась, уже и без того мокрая донельзя. И оттолкнулась жопой от стены.
***
И, как всегда, воображение рисовало знойные картины, пока она крутилась в миру в поисках политического убежища. Ну же! – вот вам Юг, где дикое рабство! И она сотворила что-то ужасное, чуть ли не как тот Даниель Дефо*, за что и прилажена накрепко к позорному столбу. Конечно, предварительно разделась, иначе же одежду порвут в клочья, да просто испачкают – не отмоешь. Связала всё в узелок, крикнула что-то гневное, призывное, и вот – уже на столбике.
По деревенской площади шныряют белые расисты, да так сердито порой зыркнут, – того и гляди побьют камнями или без. Какой-нибудь подойдет, скажет страшное: «Ну что, голозадая, и не стыдно тебе, бесстыдница? Фу, позорище. Будешь еще безобразия учинять?» А она – такая беззащитная перед ним: руки в деревянных колодках, и связанная местами, но головой можно помотать, правда, да и жопой слегка покрутить. Бледнолицый потреплет сердито грудь, а то ещё и сосок ухватит для полного сексуального харрасмента. Она головой трясёт, слезы на глазах вместе с мольбой. Но до него не доходит – как ни мечись, какие безумные позы ни принимай в пределах возможного – не смилостивится, жестокосердный. Они такие. Как ни пряди ногами, пытаясь вырваться, – не пожалеет. Еще и дальше почнет щупать, несмотря на стиснутые ноги, и как раз – там – почнет. «И что у нас тут такое, девка?» – засмеется зловеще. Понятно что, – влага влажная, а он как не понимает, дурака валяет, всё щупает да лапает. Она бормочет проклятия всему их жестокому роду, призывает возмездие. Был бы меч, да руки свободны – зарубила бы, как та Мишон из «Ходячих мертвецов». Он тоже – весь такой лютый, как бы несколько рассвирепевший – вот-вот накинется насиловать; правда, рано еще, не вечер. Только и может пока беззащитная девушка, что – плюнуть в морду; конечно, так, чтобы не попасть ненароком.
«И вот во всем они виноваты, окаянные, – думала, распаляясь. – Об этом даже Мишель говорит. Ну не говорит, намекает так, – и дураку понятно. И другие приличные фигуры за то же просвещают. А ведь жили люди в Африке счастливо, ходили себе голые, как положено, райскою жизнью жили, сексом вовсю баловались промежду прочим». Она всё себе представила, и голова закружилась, ноги подкосились, разъехались. «Нет, прилезли эти – погреться, якобы. Всех одели и даже обули частично, сволочи. С чего и повелся колониализм беспредельный – вон как сам ушастый всю жизнь мучался, пока не выстрадал себе и нам президентство». Представила свою бабку с дедом в туманной Бразилии, где они транзитились до этой страны восходящего доллара. «Все тут у них – у нас теперь – не так, неправильно». Закручинилась. Только дума о схожести с Мишон или Мишель занимала сейчас мысли чернокожей красотки, – обнаженной, кстати, да терзаемой проклятым расистом. «На кого же я больше похожа – на Мишон или Мишель?» – размышляла, страдая. Пока не забилась в экстазе.
– —
* – Из песни «Norwegian Wood», «The Beatles», Леннон / Маккартни.
* – Даниель Дефо опубликовал в 1702 г. памфлет «Кратчайшая расправа с диссентерами», в котором, имитируя тон и манеру представителя церковной реакции, советовал предпринять против диссентеров – протестантов, уклонявшихся от посещения богослужений государственной церкви – самые жестокие меры. Реакционеры были введены в заблуждение и на первых порах приветствовали неизвестного автора. Когда стало известно, что автор памфлета – Дефо, который сам является диссентером, его предали суду. Судья приговорил Дефо к штрафу, троекратному стоянию у позорного столба и тюремному заключению. Согласно легенде, после публикации стихотворного памфлета Дефо «Гимн позорному столбу» (1703 г.) вместо того, чтобы забрасывать осужденного сочинителя всякой опасной и омерзительной дрянью, зеваки бросали в него цветами и поднимали в его честь тосты.
10. Эй, ты, у-ля-ля!
А в деревне много было тогда всякого народа, хотя и сплошь деревенщина. Ей припомнился один из так называемых деревенских поэтов, она даже виртуально отвязалась и помчалась к нему вприпрыжку. «Ты, поэт, о-ля-ля!» – запрыгала, замахала, как баскетболистка руками. (Ну, пусть вместо мяча будут сиськи, впрочем. Хотя это были, скорее, футболистские мячи, но, тем не менее?!) Он хмыкнул, удивленно оглядев ее голую, прыгающую, задорно резвящуюся натуру. Оглядел, стоя за столиком под навесом, где ел и что-то записывал. Потому что иногда такое бывает – муза приходит во время еды, и куда тут деваться? Надо записывать. А прожуем потом. «Чё делаешь?» – крикнула, энергично прыгая и перехватывая мячегруди – левый, правый, левую, правую, ух! (Жаль, – кольца нет, а то бы и зафутболила). «Бумагу корябаю», – ответил. (И что тут голые бабы разбегались? Да еще такие горячие? К добру ли?) «Читай, давай, что накорябал», – крикнула задорно, и начала мячегруди срочно, как положено, облизывать – левый, правый, левую, правую, ой-йо-йой. И он, смущаясь, зачитал:
Матрица и патрица в небе голубом,
Патрица и матрица – голубь встал столбом.
Даже в урожайные дни – не обещай
В патрицу да в матрицу сыпать урожай.
Матрицу и патрицу – лучше обойди,
Краше уж дороженька, чем чужи вожди.
Патрицу и матрицу, мать их, подожжем,
И от просветления встанем под ружжо.
И, махнув на гОлубей, где-то не дыша,
Воробьев постреливать будем из ружжа.
«Матрица и этта… ппат-патрица, – ржала, и, выдыхаясь, даже сбилась с прыгучего ритма. – Охренел, что ли? За любовь давай чего-нибудь». – «Я ничего не даю за любовь», – гордо улыбнулся т.н. поэт. Он, как им свойственно, считал, что любовь нельзя купить или продать; тем более, коль бабок нет. Позёр натуральнейший. «Это… – любовную лирику замочи, плиз». Ну он и замочил:
Путана плачет у фонтана,
О том, что жизнь, мол, не фонтан,
Что всё – вода: течет, и странно
Так утекает. Где же кран?
Да, нужен здесь водопроводчик,
Такой молодчик и с ключом…
И к небу подымает очи,
И плачет, плачет ни о чем.
И вот вода вспенИлась рьяно,
Вдруг устыдившись девьих ран.
И фонтанирует путана,
На захлебнувшийся фонтан.
«Вдруг устыдившись девьих ран», – повторила эту чушь, остановилась. Мячи еще немного попрыгали и замерли. Ей жутко захотелось вдруг основательно и с чувством полизать свои соски. Девьи раны, надо же… Представила себя у столба, да еще и возле фонтана, всю в девственных ранах, да и стала ласкаться к так называемому, называя его милым и нежным. «Поняла! Влюбился, да? Как мальчишка?» – и нежно ткнула лобком в бедро, и сосок закусила игриво, отчасти жеманно, кося туманным глазом. (Гол. Один – ноль. Вернее, голая. Баба). Ему не хотелось обидеть Конни, иначе же она отнесет его к отпетым расистам и обвинит, как положено, во всех грехах, включая первородный. Конечно, можно было ей вдуть, пока не поздно, пока обоюдно вдохновение, что, впрочем, не вполне установленный факт, но, скорее, лишь дикая виртуальная картина, в которой мы, бывает, творим черт знает что с черт знает кем черт знает каким образом. «Влюбился, вляпался, голубчик», – запрыгнула на него споро, пришпоривая булатными ногами.
Охватив поэтическую шею руками, ёрзала по авторскому торсу бесстыже блестящим телом, терлась лобком о футболку, и та задралась, и вот она уже, постанывая, терлась (Два – ноль) о его живот. (Нет, надо собраться, со всем что там у меня осталось, собраться и снять с себя эту суку). И он тогда аккуратно и быстро развел её руки, опустил залетную всадницу на землю. (Конечно, я буду потом жалеть. Жалеть-жалеть-жалеть. У меня будет вставать, когда буду вспоминать сей пасторальный эпизод в его живописной колониальной пастельности; и буду жалеть. Но так надо! Ничего не поделаешь, бизнес). «Ты что, дурень? Написал про меня стишок, негодяй белый, и теперь по-черному отталкиваешь?» – «Чего ты? Вовсе не про тебя. Да и это тебе не жопой как веретеном вертеть, презрев вековые обиды. И какая ты путана, дуреха? Запуталась в себе? Ты же замужняя баба, сука». Ушел, пожав плечами, – как дверью хлопнул. Ушел куда ни попадя. Поэты – они такие. Нет, чтобы по-людски запердолить, так они стишки накарябают, разожгут тебя, а стишки-то – дрянь, дрянь, да и еще, что уж совсем возмутительно – не про тебя вовсе! Скажут иль соврут, по обыкновению. Вечно у них что-то там с психикой. Их и близко нельзя подпускать к «Голы-вуду», негодяев.
***
И вот Конни, – снятая, а не снявшая, металась сейчас в поисках прибежища, так ей дико хотелось, – практически как прежде, нет, даже еще сильнее. Потому что когда тебя отсылают (или, как она выражалась, «отпинывают»), вся недоснятая романтика голы-вудского хэппи-энда еще более усиливается, и выпячивается, к сожалению, самым непристойным образом. Конечно, откровенно бежать было нельзя, это всегда выглядит нехорошо и подозрительно, и она просто быстро шла, трудолюбиво уставившись в пол. Как бы озаботившись вопросами, связанными с полом. Да нет – со всеми этими ковровыми покрытиями, паркетом, плиткой, да пусть бы даже и линолеумом – связанными. Словно вдруг кто-то ей дал задание – хотя бы та же сучка Дебби – пройтись-пробежаться, приглядеться-принюхаться, где какие проблемы с полом обозначились, назрели и вызрели. Дебби – дура еще та, с неё станется! И тут Конни определилась с выбором. «Там меня никто не найдет!» – гулко ёкнуло в её бравой башке, и теперь она стремительно шагала в одном направлении, уверенно сверкая ногами. Трусы она почему-то где-то то ли сняла, то ли стянула – да с себя, естественно, неужто подумали, что она бегает с чьими-то стащенными трусами, больно ей надо – и сейчас они были судорожно зажаты в правой руке: мало ли что, идет себе уборщица с какой-то белой тряпкой, кому какое дело?
«А Лестер, тот хороший, – восстанавливалась Конни. – Он бы ни за что не стал отпинывать. Наоборот, пожалел бы весьма, подошел с пониманием. Да дедушка Лестер: такой, с рыжей бородкой и лысый. Щупленький, ручки – красные – врозь, как клешни рака, сам слегка горбатенький и добрый, не то что всякие… Подобрался бы, спросил соучастливо: „Как ты там, бесстыдница?“ Да ущучил бы щупальцем тут, внизу, да сострадательно засмеялся: „Оу, да ты вся изрыдалась и горишь. Что ли жар у тебя?“ Женщине ведь главное – чтобы поняли её беду, и уж тогда потечет она, как речка, – в океан сопереживаний. Да-да, Лестер! Вот кто настоящий джентльмен!» Он подошел к столбу и уставился печально на неё, страдающую ни за что ни про что от расизма. Дивится, как блестит на солнце её тело, словно оливковым маслом смазанное! Стоит, почесывает яйца, носом пошмыгивает, промеж ног старается не глядеть – он ведь джентльмен. А она так эффектно, спортивно, но и артистично заодно – разведёт ноги, и у неё такие половые губки на фоне черной кожи алеют, – ведь красиво же, зрелищно! Пальцами щелкнет: «Эй, ты, Лестер, смотри, пока никого нет, а то набегут всяко-разные, так лавочка и закроется».
«Да неужели?» – говорит слюнявым ртом, носом же шмыгая. «Не поняла, Лестер, что ты имеешь в виду, горбатый?» – «Да я…» – и осекся, болезный. «Совсем охренел у себя на хуторе? Всё за бабочками гоняешься, а кто там у вас сеять и жать для нас будет?» – «Да я… это… Ты чё, девка больно хорошая, чё серчаешь сразу и ни про что? Да дай же погляжу, коль не шутишь», – и так, даже ручонки о бородку вытрет, душевно и с чувством… И Конни заелозила, выкрутасничая; выгибаясь, задёргалась из стороны в сторону, – мол, ну уж и скрутили меня, хорошенькую. Вот грудь, вот попа, лобок подбритый, – ну же, причастись, преподобный. Да опять ножки и развела. «Вау, – зашептал восторженно Лестер, – И впрямь красотища неописуемая! Словно бабочка с красными крылами в ночи! Вьётся, вьётся над костром она, сгореть желая». У Конни от таких жутких сравнений голова ходуном заходила; вскрикнула тихонько, телом дернулась электрокьютно*. Потом так тоненько запищала: «Иии!» – и, оборвав писк, вдруг захохотала глухим басом, как сова на охоте. «Надо же, вот он, настоящий поэт, с хутора, с лона природы», – подумала, опадая.
– —
* – Как током ударенная.
11. Конни, Конни…
Но еще когда она виртуально клацала зубами и содрогалась от пережитого, уже зародились в душе сомнения: а верна ли картина? Зачем искажать реальность суетными нездешними фантазиями?
Ах уж эта прожженная солнцем земля, вышедшая фигурным передком – позабудем здесь, приличия ради, о флоридском пенисе – на самый экватор! Тягучи малярийные закаты. Смятенная голова солнца, подскакивая на серых пригорках, выпрыгивая из затянутых тиной болот, гулко катится по белоснежным плантациям, чтобы, вылупившись кровавым терминаторским глазом, раствориться под грохот тантамов – пронаблюдаем процесс в проём тантамарески* – в тихой кислоте свободного Запада. Туда же – а именно в бестолково-неосознанное куда-то – трусит великий дурацкий Форрест Гамп, славный потомок своего предка, потому что иногда же мы делаем нечто такое, что начисто лишено смысла, в чём, собственно, и смысл-то?! А в невидимо-неведомом далёко, которое не разглядеть и сквозь рёбра кораля, крутятся огромные колеса, чтобы не сказать, мельничные жернова родного алабамского дома*, сотрясая и перемалывая горизонты мощью знойного звука.
Наверное, всё должно было выглядеть так: на площади появляется дедушка Лестер, слегка навеселе, блаженно улыбающийся. Глядит – голая девка, а на дворе – солнце, жара, практически душегубка – Юг наш. Лестера качнет теплая волна, поведет течением. Он подходит, наводит сухо резкость, узнает: «Эхма! Опять допрыгалась, афроюжанка». Она мученически коробится, смотрит с мольбой, надеждой: «Спаси неразумную, дедушко».
Дед приступает к спасению. «Небось, вспотела вся?» – пощупает, где надобно, красными клешнями: опытно, по-стариковски, без лишних безобразий, но и не без этого. Она сладострастно мычит, скорбно улыбаясь. Пытается заплакать, как те стыдливые задроченные японочки. «Вся горишь и мокрая. Жар, желтая лихорадка. Тебе, девка, охолонуть надо, ополоснуться, – выносит вердикт старейшина, – Развязать, что ли?» – «Развяжи, дедушка. Пожалуйста», – говорит, как положено. «А что, как сбежишь? – настораживается дед, – Мне отвечать?» – «Не убегу, деда. Как можно». Тот еще раз пощупает для порядка, с раздумкою: «Да… А вдруг? Хорошо, развяжу. Что мне, старому, терять. Оденешься или голяком пойдешь?» – «Нет, деда, так побегу. Всё быстрее выйдет. Не могу, чтобы ты рисковал из-за меня головою», – и – взгляд, полный заботы, черного гуманизма. «Узелок с одёжкой – как? Мамке отнесть, пока ты там прогуливаешься, иль пущай тут побудет?» – «Да ну… Вдруг охальник какой украдет, так и все равно придется голяком домой идти», – шепнёт боязливо, сердешная, да убежит скорее по главной улице на реку. А там, как дотащится, так и накупается, наплавается вдоволь. Да и солнце, может, за тучку зайдет, – всё прохладнее. И шагает потом свежая, полная бодрых сил и духовности. Встретятся парни или мужики – улыбнутся радостно, кто-то даже свистнет восторженно, с пониманием, диким посвистом волка, а она тогда смутится, конечно же, да покраснеет заживо, да побежит, робко виляя голой афроюжной жопой.
***
Конни, пока шла, решила заодно уж повспоминать своего увальня. Припомнились давние времена, когда они еще снимали подвал. Он работал грузчиком в магазине, приходил домой сильный, усталый. И она кормила его обильно, жирно, а он все равно не толстел, хоть убей. Вот как хорошо грузчикам! И был такой весь могучий, красивый, как черный бог. И веселый, ласковый. После ужина выходил во двор – якобы повозиться со своим мотоциклом, и звякал там железками, напевая, радостно хохоча даже. Потом, навозившись, заводил. И газовал.
Не погазовать нельзя было, не положено. Это же «Харли Дэвидсон», хоть и старенький. А потом уже газовал не только потому, что «Харли» завёлся, а подавал сигнал ей, – рычал про готовность. Она всё возилась на кухне, а как же?! Потом, наконец, выбегала, потому что сколько же можно газовать?! Наверное, не всегда даже и дверь в дом закрывала, – что там воровать, да и все вокруг свои добрые черные люди. Самая дорогая вещь в доме – вот, на улице. И у них была своя игра с вещью. Ей положено было, как в «Криминальном чтиве», придуряясь, спрашивать, откуда взялся мотоцикл, а он в ответ должен был отрицать всё: то, мол, совсем и не мотоцикл… да садись уже скорее, бэйби, надо умчаться отсюда. «А что это?» – «Чоппер!» (Практически вертолет! Знай наших!) И так они перекрикивались под рев механического чудища – можно подумать что-то слышно – пока не надоедало. Она потом, конечно, всё равно заскакивала на тот немотоцикл, и они улетали в ночь, и она прижималась к нему нагим телом для возбуждения чувств. А он так – вроде бы удивившись, словно и не ждал ничего подобного – начинал гоготать. Или же она порой визжала, заскакивая: «Гони!» А он, уточняя адрес, орал: «До болота и обратно?» И тогда она, без слов даже, просто прижималась к водителю. Всё было и так понятно, это же язык тела, как в Африке. И они мчались в темноте к болоту. Он гоготал, их жопы совместно тряслись и подпрыгивали на кочках. Его – в крепких джинсах, и её – свободная голая жопа. А если бы увидел кто? Так малолюдно вокруг, да и она вся такая, что в темноте, особенно если вовсю прижмется – незаметная, а даже пусть и заметит кто, так все вокруг – свои добрые люди. Улыбнутся ласково, ну там – засмеются радостно, вспоминая вольную свою старину.
Наверное, в этом их отрыве присутствовали не только эпические, но, временами, и героические мотивы. Как в тех заводных фильмах про оборону Вьетнама от вьетнамцев, знаете? Когда уцелевшим несломленным бойцам в гуще кишащих узкоглазыми варварами джунглей вдруг само небо посылает спасительный вертолет и они, отходя, теряя территорию, но никак не мужество, запрыгивают в него как есть, пыльные и чумазые. Чего тужить, ведь их ждет, мать ее, родина – большая земля – которая поймет, пожалеет, обласкает и даст чего ни пожелает их героическая душа. Конни бежит к крылатой машине в чем родила ее мать-родина. Ведь беда застала совершенно врасплох, когда она, скажем, занималась вопросами тылового обеспечения. Мастерски замедленная съемка демонстрирует всю по-человечески естественную сущность их временного отступления: она бежит, высоко задирая коленки, грациозно взмахивая руками, щедро разбрасываясь по сторонам сиськами, а по всему такому натуральному блестящему телу и даже по лицу её проплывают какие-то волны. Отлив… А из чоппера – этой огненной машущей крылами мельницы – высунулся перманентно чумазый пилот и что-то ей, оглохшей и оглоушенной орет, – его челюсть медленно движется по диагонали вниз и вверх. Наверное, настоятельно рекомендует еще более поторопиться, иначе узкоглазые дьяволы разнесут в прах всё их блядское воинство.
Но они их все равно, чертей, отоварят. И Вьетнамлэнд свой, столькой кровью политый, – вернут, пусть и под другим соусом. Будут, будут косоглазые смотреть фильмы про Вьетнам. Ну, или – из патриотизма – что-нибудь другое, но все равно это будет кино с гундосным переводом. И захочется им тоже слетать к болоту и обратно со смачной голой девкой за спиной в виде красноречивого бонуса. Пусть и на каком-то старье, а лучше-ка – на «Грэйс» – зэдовой порочной грации. («Кто такой Зэд?» – «Зэд мертв, малышка. Зэд – мертв"*). И сдадут свои калашниковы в тот же ломбард, или как оно у них там называется. И основная их серая масса будет потеть, гнить и дохнуть – за гроши, за миску супа – в каких-нибудь сраных сараях, сражаясь за прирост прибавочного продукта. Вот тогда, уважаемые, всё будет по-взрослому, без всякого там гнилого патриотизма.
– —
* – Французский, tintamarresque, — стенд, обычно для фотосъёмки, с отверстием для лица.
* – Имеется в виду песня «Алабама, дом родной» («Sweet home Alabama») группы «Линэрд Скинэрд», Эд Кинг / Гари Россингтон / Ронни Ван Зант.
* – Диалог Фабианы и Бутча, «Криминальное чтиво», Тарантино / Эвери. Бутч приезжает за Фабианой на чоппере Зэда, в фильме это Harley Davidson 1986 FXR Super Glide customized. Чоппер (букв., – «обрубок») – усовершенствованный мотоцикл, изготовленный мелкосерийно или под индивидуальный заказ. Также чоппером называют вертолёт. И прочее.









































