Текст книги "Пунитаялини"
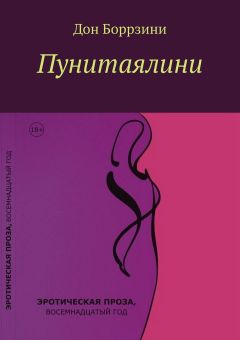
Автор книги: Дон Боррзини
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
12. Альберто
А ближе к болоту он притормаживал свой немотоцикл и ехал медленно, временами едва тащился. Местность была живописная до безобразия, а темнота добавляла очарования таинственности. Конни, как та Фабиана, дурашка с глазами-вишнями, шептала ему на ухо, привстав на стременах: «Милый, ты доставишь мне оральное наслаждение?» – и терлась твердыми древесными сиськами, буравила сучковатыми сосками. Он вспоминал технику безопасности, спрашивал, почему она не надела шлем, – мало ли что… Конни умилялась: какой же он романтичный, ведь голая в белом шлеме она смотрелась бы еще более лирично. Продолжала нашептывать про оральности, но он отвечал, что сбиваться с колеи не стоит, не то увязнешь в болоте на радость окрестным крокодилам.
Тогда она начинала беспокоиться, не угрожает ли им опасность, и он бурчал, что просто надо придерживаться маршрута. Озираясь, она спрашивала, как они услышат аллигатора, а он отвечал, что никак, потому что тот ворчит приблизительно как мотоциклетный двигатель. «Но ведь не как чопперный?» – допытывалась она с надеждой. Он отвечал, что как мотоциклетно-чопперный, с тональным уклоном к последнему. Она начинала дрожать, но он успокаивая подрагивания разъяснениями, что вон это или то бревно – никакой не крокодил, хотя насчет вооон тогооо – не ручается. Тогда она начинала взвизгивать, словно ей что-то вовсю уж привиделось. Также ей, кстати-и-вдруг, захотелось писять. Да и домой уже пора, в конце концов. Прогнувшись, хватала рукой бугор на его джинсах, воображая себя водителем автомобиля с ручной передачей. Он, конечно, кричал, чтобы не баловалась тут, потому что надо же соблюдать технику безопасности. Так и мчались до самого дома: у него своя коробка передач, у неё – своя. Приехав, срывал её с седла и нес домой; швырял на кровать и рвал на части, что тот аллигатор.
***
Заодно Конни повспоминался главный консьерж Альберто. Тот, похоже, был не прочь ей впендюрить при случае, если таковой вдруг обнаружится самым решительным образом. «Да, но как помочь молодым, – терзалась Конни. – Вестибюль безбожно мониторится видеокамерами; это разве что стыковаться в каком-то закоулке на этаже. Вот бы заскочил в номер с проверкой, а я там нагишом постель застилаю! Тогда бы уж точно пожаловалась, что пылесос вот-вот сдохнет, простыни вечно влажные, а эта Дебби – настоящая сука и, наверняка, расистка! Альберто встал бы как столб и только хлопал глазами. Глаза у него красивые и добрые, только узкие и широко расставленные, как у лягушки. Или, еще лучше: заглянул в ванную, а я там тщательно вымываю кафель, добросовестно прогнувшись. Мокрющая, в пузырящейся всеми цветами радуги пене. Обернулась – и ах! – стыдливо прикрыла одной рукой грудь, а другой невольно наглаживаю между девственно расставленных ног; в глазах мольба: заработалась, да и вы меня, сэр, смутили совершенно, разве не знаете, как обычно в ванной работать – душно до неприличия, вот и разделась на всякие пожарные. И жарко дышу дрожащими губами. Только надо бы такой случай точно подрассчитать, а то всё вымоешь-вылижешь, а коли оно без толку, то только время впустую потратишь. И, самое главное, – вдруг хренов Альберто перепугается да убежит? Потому что он же практически белый, может всё неправильно истолковать. Подумает, что его решили подловить на сексизме, или расизме– национализме, или на злоупотреблении служебным положением, или еще на какой фигне, и просто убежит, да накатает донос, чтобы не опередили. Эге, нынче все такие: с одной стороны – запуганные, с другой – тёртые и ушлые. Жуткое сочетание. Да, задачка для девушки!»
А кроме красивых глаз, на взгляд «девушки», Альберто еще выделяли продвинутые уши. Потому и дослужился до старшего консьержа, видимо. Еще чуть-чуть, – и были бы как у нашенародного любимца! Конни такие уши с ума сводили. Как она завидовала Мишель! (Наверное, слушает СВОЕГО где-то там, за ширмой: вот он выступает, вдумчиво читая телеподсказку, элегантно поводит ушами, вслушивается в каждое вырожденное слово мудрое, взвешивая перлы ушными раковинами. Потом, когда ушастый отстреляется да зайдет за кулису, Мишель, подкосившись ногами, вешается на него и ласково треплет любимца. А дальше разгонит всяких там, чтобы убрались пока, и тут такое начинается! Держит своего, ушлого, крепко, да молвит, как та Фабиана – нежно, слезно, по-девичьи: «Мы чуть не кончили, слушая речи твои, Соломонушка. Доставь мне теперь срочно наслажденье в индивидуальном порядке!» Притягивает к себе под юбку, а там – ничего нет. Вернее, нет трусов, а все, что необходимо оральному искуснику – налицо и блестит готовностью!) Ооо, была бы Конни Мишелью, она бы ему точно не давала спуску! «Он меня ел бы и ел, – сглотнула, трепеща стыдливо, сладостно, забегая в подсобку, без трусов уже, как та Мишель после речей своего феминиста. – На крайний случай сойдет и Альберто», – прошептала, затыкая себе сразу же рот трусами и стремительно раздеваясь.
«Вот все-таки жаль, что так загоняли их, – беспокоилась попутно об этом почти белом и бедном Альберто. Который, получается, почти расист, поэтому боится ей вдуть, дабы ему самому не впердолили. – Да, а когда негр запердолит белой, то и никакого расизма почему-то?! Очень всё правильно, корректно политически. А если несчастная черная девушка только позаигрывает с белым парнем или мужиком, то все сразу и окрысятся: мол, ты что, решила опозорить нашу расу с этими?.. А в будущем, наверное, будет так: только подумала о сексе с „этими“ назло своим антирасистам, как сразу кто-то возьмет да и положит тяжелую руку на плечо, и толкнет, – вперед, в путь! Поведёт коридорами, лестницами, переходами гулкими. Откроется дверь – пихнёт внутрь. А там! Какая-то, типо, рэп-группа: суровые ребята, и они, как положено, – кривляются, крутятся, подпрыгивают, одухотворенно наяривая члены. Фиолетовые сумерки и вонища адова. Увидали, подскочили, обступили тебя – и начинается художественное перевоспитание отступницы…»
***
У Альберто намечалось пасмурное утро. Сперва было еще ничего, терпимо, а потом, когда стала вырисовываться картина предстоящего, он начал крутиться и нервно потеть. Потому что номеров для случайных приезжих будет дико не хватать; станут его шпынять, пытаться унижать – тонко и не очень, и даже скандалить. А уж что достанется вечерней смене, не говоря про ночную! И старшие консьержи смен будут думать: какая же он сволочь, только о себе и думает – оттарабанил до трех часов и домой поехал – лафа! Станут завидовать непонятно чему, и копать под него, ясен пень. И величать его на французский манер coco santi*. Ситуация с этими то ли выезжающими, то ли остающимися – всегда такой геморрой. Пусть бы выезжали, ему легче, свободных комнат больше, нервотрёптки и лишних претензий от злобных клиентов – меньше. (Надо проверить эти геморрои, а вдруг что и рассосалось. Вон у Розиты один, и у сучки Конни – один, нет, два даже). «Пойду-ка обойду эти номера-под-вопросом, – сказал консьержу Амеду, – На всякий случай, а то мы точно будем в глубоком дерьме». И тут вспомнил того скользкого типа, что дал двадцатку, подумал: «Заодно и это прощупаем».
Шел, размышляя. О Конни, о проблемной Конни! Что телом она похожа на Мишон, только сиськи побольше. А морда как у Мишель, – такая же бульдожья нижняя челюсть. Вот бы и морда была хотя бы как у Мишон, только не такая вечно зверская, а тогда тело – пусть даже как у Мишель, только поженственнее. Да, но попробуй к ней подкатить, так еще взбует по-черному. Можешь потерять и бабки, и работу, и еще много-много чего, чтобы неповадно было. Вот позаришься на тело, а из тебя и душу вымут. Ха-ха, еще и в смоле с перьями вываляют. Кранты. И он постучался. А та девка – да она точно без лифчика и, наверное, без трусов под этой своей футболкой «Я люблю Нью-Йорк» выглянула. (Ага, остаются, надо же. А мы думали… Нет, всё хорошо, конечно. Вопросов нет, кроме еще одного). А сам поневоле пялился на её ножки, ну очень красивые, и представилось ему, что где-то они волшебно сойдутся, и как там у нее всё могло и должно бы выглядеть – в том прихотливом таинственном месте; и стал потеть, сглатывать, и чему-то в штанах сделалось вовсю тесно. И он так подумал, что раньше служебные людишки могли хоть кланяться, чтобы скрыть конфуз, а нынче так не положено; но ведь совершенно неправильно, он бы лучше поклонился, пригнулся, и тогда вроде как ничего и не видно, черт. (А она еще та, сцуко, краля – всё прекрасно видит и улыбается; охренеть. Засмейся еще!)
Тьфу… Когда она, наконец, закрыла дверь, чуть полегчало. А зачем поперся геморрои смотреть? Теперь это уже не геморрой, а твердожильный стояк, и стало тяжело дышать, да и он сам, наверное, сейчас весь красный, красножильнокожий. Распалился не на шутку. Еще когда шел сюда, представил вдруг, что Конни голышом ванну наворачивает. Вот никогда она ванну толком не моет, а тут решила исправиться и стоит, намывает, да еще нагишом почему-то, а он заскочил туда, а там – пресвятая Дева Гваделупская! – Конни кафель губкой наяривает, жопу оттопырив, и меж ног у ней всё такое, – так и тянет воткнуть! У него еще тогда начал вставать, непристойно подрагивая. А как белая девка выглянула, так его мерзавец встал в позу, и всё, – ни в какую не хочет ложиться. Вот попал так попал утренний старший консьерж. Что же делать? И так ему захотелось подрочить, хотя бы наскоро, что мочи нет. И пошел он, быстро-быстро, слегка наклонившись от деловой целеустремленности, лихорадочно думая, куда же приткнуться с такой бедой…
– —
* – Гаитянский креольский французский, coco santi, – «вонючая манда».
14. Место стирки грязного белья
В отделе хаузкипинга, уборки то бишь, есть складская комната. Там уборщицы и берут всё: простыни, наволочки, полотенца, подушки, если кто украл, а также тряпки, салфетки, моющее средство, и прочее. Стоят две большие стиральные и две сушильные машины, и во вторую смену кто-то трудится, чтобы бельё к утру было чистым. Там сейчас никого нет – хаузкиперши и их начальство разбрелись по гостинице, вот и есть где Альберто безопасно приткнуться, помечтать туманным утром о Конни или о белой девке, а то и о неком рукотворном дуэте или трио. А в конце смены уборщицы со своими тележками съезжаются именно сюда. Кинут на пол простынь, и перебирают грязное – вытащат, встряхнут, глянут мельком, и бросают на простынь. Зачем им грязь? Крошки, вошки, мусор и мусорок, волосы головные и лобковые, – всё падет на пол. Попадется что-то со следами спермы или женских выделений – похихикают, показывая друг дружке. (Постояльцы тоже трудятся в меру сил!) Перебрав, свяжут в узел, отпихнут. Так узел за узлом. Потом подметут, покрутят сиськами и жопами перед зеркалом, подкрасятся, да и разбегутся по домам. И придут два рыхлых увальня, друг на друга похожие – Хуан и, который поменьше, Хуанито. Хаузкиперные супервайзерши* ещё покрутятся, побегают туда-сюда, наплодят бумажек, подводя итоги, припишут себе «часы», и разойдутся. А вторая смена в лице увальней уж трудится во благо завтрашнего дня.
Когда-то все началось с того, что Хуанито приболел. Позвонил кому надо и не надо – Хуану – и поболел слегка, ведь климат же? А рядом всё вертелась землячка Мария, – любовалась на свои сиськи и задницу, задержавшись по такому случаю. Ей, конечно, стало жаль Хуанито. И Хуана, как тоже пострадавшего. И она шепнула ему что-то, прежде чем помахать ручкой. Когда супервайзерши испарились, Мария материализовалась, и, как могла, принялась утешать одиночку. Там посреди есть металлическая опора. Мария, голая, уперлась в нее руками и жопу выпятила вполне утешительно. Хуан тоже слегка разделся: молнию расстегнул, вытащил что-то. И принялись они вспоминать Хуанито, да горевать, как же им без него тяжело на душе. Мария стояла и пялилась в иллюминатор стиральной машины, а Хуан её сзади пялил, поглядывая чрез плечо уборщицы на работающий аппарат – ведь притягивает же?! Особенно когда баба туда таращится. Она пялится, и он – через плечо – тоже, с удвоенным соответствием.
Но этот всеобщий водоворот грязного белья как-то отвлекал Марию от конкретного процесса. Ещё и Хуан там сзади аки бегемот, – топтался, словно восходя на вершину древнего ацтекского храма, где ступенек – множество. Она восходила первой, а он следовал по пятам за голой жопой. Медленно, тягуче. Внизу, наверное, уже бушуют конкистадоры – золото ищут, злятся, демоны. Ан нету золота, братья! Золото – эти бабы, вот что есть, то и есть, – всё на Марии: перстни, кольца, браслеты, ожерелья, пояс, даже маленькое колечко – интимный пирсинг – всё красиво блестит на смуглом теле. Золото ведь хорошо смотрится на смуглых женщинах, друзья! К тому же, у нас его мало. Зачем оно вашим бледнолицым сучкам?! Нам своих бы озолотить. А если что и забрали, то мы за ним придем. Медленно, тягуче, под стук барабанов. Ещё и с ваших снимем. Да отдерем за былые грехи, как положено. А вы будете стоять и пялиться, как мы сейчас пялимся на стиралку, правда?!
Мария, когда достигала вершины древнего храма, то начинала сипло утробно мычать, как какая тебе корова на пастбище в туманную погоду. Он откликался на звук ярым нашлепыванием коровьих ягодиц пустеющими яйцами. И она тряслась, и клиторное колечко плясало от телесных судорог. Закончив песнь, падала со столба ладошками, коленками на грешную землю и ползла, ползла вперёд, блестя колечком, на кучу чистого белья, и вползала на него, обессиленная. Отдыхала, набиралась сил. Он тоже. Они повторяли процесс, опять пялились. Если в неё кончал, то ругалась. А если нет – то нет. Всё очень просто. Да, а когда приболел Хуан, то Марии пришлось утешать Хуанито. Так и повелось. Но потом они прекратили приболевать и жарили обрадованную Марию совместно, поскольку супервайзерши обеспокоились, что кто-то постоянно болеет, так и не лучше ли набрать на корабль команду поздоровее? Амигос слегка струхнули, – нет слов. И стали пиликать на Марии в два смычка, привыкая к такой партитуре. Ну не каждый вечер, конечно, музицировали, чтобы вы о них чего лишнего не подумали. Но частенько, поэтому бельё не всегда успевало к утру высохнуть. Его нужно постирать, посушить (Сушилки работают плохо, но не запускать же по два раза), аккуратно сложить, и пусть дожидается утра, подсыхая. А если нечаянно спермой или еще чем забрызгается? Придется искать какой-то выход, верно?
Однако – с учетом запущенной неспущенности на жопу – в Марии росло девичье беспокойство. Да и хотелось уже по-нормальному замуж, все равно за кого. За одного из двух, или кто там ещё? Хоть Хуан, хоть Хуанито – вариант идеально обкатанный. А тогда, – думала она, – несчастный, оставшийся за бортом, будет же зверски терзаться! На свадьбе и впоследствии станет наигрывать им мариачи – марьяжную нашу музыку – в ключе печальном, жалобно-призывном. (Представляю, как это могло бы воображаться Марии в экстремальной, как принято говорить, аранжировке. Укрыв мокрющие глаза от взоров людских посредством сомбреро, а то и уронив на грудь голову, да так, что шляпа воспылает благородным эполетом в верхнем перекрестье парадного – в духе славных боливарианских генералов – мундира, он станет, постанывая, наигрывать свою собственную марьячи, – нежную, невероятно печальную, скорбную, практически траурную…)
Но вот однажды – на следующий день даже – они с мужем, не выдержав скрипичного удара, выскочат на улицу: муж с гитарой, она – с трубой, и протрубит пострадавшему – тра-та-та-та-та-та-там! – что нечего печалиться, амиго! Ло сьенте ми хенераль*. Вы проиграли сражение, зато выиграли войну! И будут играть они мариачи веселую, радостную, да танцевать друг с дружкой – она в середине, обхватив скрипача и гитариста за шею или еще за что. И нарожает им детей, всем на радость. А что – с такой-то жопой? А там, может, тот, забортный – Хуан или Хуанито, неважно – тоже женится. Они и с женой заодно подружатся, и та тоже нарожает. А когда одна из них временами приболеет или попадёт на больничный, два друга будут пыжить оставшуюся в строю – желательно её, стойкую Марию! – в два ствола! И все будут счастливы, разве что долбаные гринго, как всегда, будут злиться. Хотя, – кто им виноват?!
***
В это логово Конни и заскочила. И стояла, если помните, пережигая сжигающую её жажду, жуя трусы, нагишом, упершись жопой в залапанную руками Марии опору. Терзая промежность, как Тарзан подмышки, и глухо рыча. Чудилось ей, что вот-вот выскочит откуда-то (Не будем называть то место) качающимся болванчиком ОН: блестящий, растянувший губки в чарующую улыбку. Баутку потешную баюкает, праотчим цветных вольностей и черной нашей демократии, беспокоясь о тебе повсеместно. Тогда она его – хрясь по башке, и ухватит за уши, протащит по упругому, скользкому от пота телу вниз, вниз. А он – так и не пошутившими губами своими – пробрямкает сперва у ней между сисек, потом – по маслянистому животу, ойкнет, наткнувшись на пупок, раскатается губёшками по лобку, чиркнет по клитору (Ан нет, пускай же задержится!) и потом уж будет бренькать-набренькивать на половогубках, ах! А носом, носом, – в клитор, в клитор его, красавца-феминиста! Пусть отлижет по-человечески девушку, что за него проголосовала!
И тут на плечо её опустилась чья-то рука, покрыв татуировку «цыцин фужэнь»*. Конни вскрикнула, как фламинго, присела, чуть не обписявшись. (Надо же, оборвали такой светлый кадр, сволочи. Вам нужен чернее?! Ну, режьте теперь!) В её голове с разметавшимися косичками мелькнула страшная картина из того фильма, где гневный черный Дездемон душит свою порочную Отеллу, и бедная – на самом деле совершенно невинная – девушка, задыхаясь, оседает на надувной матрац и как бы тоже прилично темнеет на глазах. Мгновение, которое показалось ей вечностью, дрожала Конни под этой роковой рукою, ожидая возможно даже и удушения, а потом, представив себя той Отеллой на заклании, как прыгнет, оборотившись полностью, собрав всё своё женское мужество в кулак! Уже хотела в морду Дездемону заехать с разбега.
И вдруг опять – как курлыкнет фламингою. Да шлеп разбойника по макушке, да ухватила за уши, прижала к грудям, а потом потянула вниз, вниз-вниз, со всей страстью и решимостью столбовой женщины. Он и уткнулся – а между сисек-то солоно! – хлебнул и глаза закатил, а потом уже поехал мордою по животу – (Точно, солёненькая, надо же, как раскочегарилась, черножопица) – на пупке подскочил, приготовился спрыгнуть, да только хрен тебе; до лобкового пригорка промямлил-пробрямкал губами, раздумывая, пахнет ли она «там» или нет; на лобке заёрзал, отпрядывая: волосы-то слегка отросли и рвали губы, как щетина; на клиторе задержался, ухватил его губами, как спасательный круг, да и она застонала, так что подумал было, что всё, приплыли спасатели и трясину ужо пронесет; однако его потянуло дальше, дальше, пока и не ткнулся губами в илистый брег половогуб, носом – в клитор, а колечко клиторное потерлось игриво о горбинку на носу, заякорило на стоянку. Она же, натираясь его бренькающими губами и носом, хищно выгнулась, застонала, замычала. Но, поскольку у нее во рту трусы и глас её слаб и невнятен, то переведу на нормальный язык: «Я… За! Вас! Голо! Сувала!» У неё уже экстази* пошла, видимо.
Вот так бедный Альберто – это, конечно же, был он, потому что станет вам тот, другой, шляться по закоулкам, практически бардакам да баракам, коль есть у него места по-пречище – и нашел, что называется, нору, нет, пещеру для удовлетворения страсти. Добредя, Альберто зашел в складское помещение, тихонько прикрыл дверь. И что он увидел? Эту сучку Конни, что стояла, как последняя блядь – голая, похотливо растопырив босы ноги, она даже так выглядела вполне длинноного – упершись чувственным задом в опору, да так, что ягодицы блестели вокруг железного столба как мишонова мишень, а руки, видимо, были заняты каким-то бурным процессингом, иначе зачем бы она так чувственно мычала и мотала головой?! Пораженный безобразной картиной, намалеванной в рабочее время и в служебное же время наблюдаемой, он поначалу тоже застыл, что тот столб. Но потом, совладав с собой, подкрался вплотную, намереваясь как следует отругать, пригрозить, и под шумок, наконец, и впердолить, – потому что сколько можно его мурыжить, в конце-то концов?!
– —
* – Имеются в виду начальницы уборщиц. Тут рассказчик некстати уподобляется так называемым иммигрантам – которые прежде всего эмигранты – с их клининговой клинописью, изобилующей всяческими: «сидишь на вэлфере – мониторь маркет», «платишь иншуранс, а ни разу его не поюзал», «лойер лойеру э биг дыффэренс», и пр.
* – Испанский, Lo siento mi general, – Извините, мой генерал.
* – Китайский, цыцин фужэнь, – Мадам Тату. Наколотая бессмыслица.
* – Здесь, – состояние экзальтации, вызванное употреблением одноименного полусинтетического вещества, «наркотика вечеринок».









































