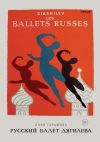Текст книги "История балета. Ангелы Аполлона"
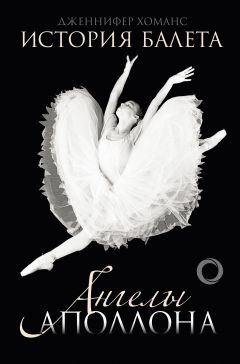
Автор книги: Дженнифер Хоманс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Маски и маскировка – это часть долгой истории коварства и изобретательности. Физический и эмоциональный контроль был первостепенной важности задачей, о чем свидетельствует известная фраза Лабрюйера: «Человек, знающий придворные нравы, мастерски владеет своими жестами, взглядами, лицом <…> он серьезен, непроницаем, скрывает свои дурные дела, улыбается врагам, сдерживает свое раздражение, обуздывает свои страсти, не прислушивается к своему сердцу, говорит и действует вопреки своим чувствам»33.
В танцах условности костюма давали мужчинам явные преимущества. Одеяния в римском стиле или модные короткие камзолы, штаны и шелковые чулки оставляли ноги на виду и не стесняли движений. У женщин такой свободы не было. Клод Франсуа Менестрие отметил как само собой разумеющееся, без каких-либо комментариев: «Женские платья менее подходят [для танцев], потому что должны быть длинными». Так и было: тяжелые юбки в пол надевались поверх сорочек и нижних юбок, а сверху завешивались накидками и передниками, затягивались жесткими корсажами и корсетами, придуманными, чтобы сковывать движение ради прямой спины и горделивой осанки. Но эта экипировка не казалась неудобством: женщины носили платье так, будто оно было продолжением их собственного тела, а его архитектурная конструкция помогала сохранять осанку и достоинство. Искусство заключалось в утаивании, а не выставлении напоказ, скорее в притворстве, чем самовыражении, и многослойные ткани, парики, украшения и грим были созданы, чтобы отстраниться от природы и сделать тело произведением искусства34.
Оставался крайне важным вопрос стоп, на которые опирается вся сложная конструкция тела. В конце концов, у женщин только стопы и были видны: они выглядывали из-под юбок. Мужчины же в быстрых проходах и затейливых шагах проявляли свою виртуозность; и опять же неслучайно в нотации Фейё точно указано, какая часть стопы, когда и как ставится на пол, хотя никак не определяется положение головы, корпуса, бедер и рук; очевидно, предполагалось, что эти части тела следуют за движением стоп.
Танцовщики выступали в обычных туфлях, которые, как правило, шили из расшитого шелка, бархата, фетра или кожи. Левый и правый башмак не различались и выглядели, как филигранная подставка для стоп. Мужские туфли были с квадратными носами, на толстом низком каблуке у задника; женские – с заостренным носком и каблуком повыше и потоньше на уровне свода стопы. Мужчинам было гораздо проще двигаться и удерживать равновесие, чем женщинам; удлиненная коническая форма мужского башмака сделала решительный линейный шаг важнейшим: скольжение могло привести к неприятному и унизительному падению. Женские стопы, напротив, охватывала чашеобразная форма туфли с высоким сводом и каблуком прямо у подъема, что, с учетом диктуемой корсетом осанки, требовало мелких осторожных шажков.
Одержимость стопами возникла не на пустом месте. В XVII веке они воспринимались как объект соблазнения и эротической фантазии, и туфли – сексуальные и эффектные – могли быть четким признаком статуса. Придворные носили туфли на красных каблуках (что свидетельствовало о ранге), нередко украшенные лентами, золотыми и серебряными пряжками или драгоценными камнями и расписанные миниатюрами: пейзажами, любовными сценками, пасторалями, а то и батальными сценами. Маленькая ножка была предметом зависти и вожделения: известно, что дамы перетягивали ступни вощеными полотняными лентами, чтобы втиснуться в туфли; это, однако, затрудняло циркуляцию крови, и зачастую прелестницы теряли сознание от боли. В начале XVIII века изящные ступни танцовщицы Мари-Анн де Купи де Камарго вызывали такое восхищение, что великосветские дамы бросились к ее обувщику (который в итоге разбогател), в надежде, что и для них он сможет сделать «самую красивую ножку в мире»35.
Обувь, костюмы, маски, грим – все это стало составной частью la belle danse, который являлся продуманным и утонченным развлечением аристократии. С современной точки зрения, французский придворный танец может показаться хрупким, как яичная скорлупа, будто он был задуман как подделка или пышный фасад, за которым не скрывается никакого реального содержания. Однако не стоит забывать, что во Франции XVII века иерархия, положение, соразмерность и неимоверный контроль движений были частью гораздо более масштабного социального и политического устройства. Видимость – вот главное, а la belle danse – один из способов продемонстрировать принадлежность к дворянскому сословию, а также путь к нему.
Может показаться странным и отождествление напыщенной прихотливости жеста в la belle danse со строгостью и чистотой классики. Однако la belle danse во многом был классическим искусством – в его пристальном внимании к правилам и идеалам, в приверженности к точности формы, соразмерности, совершенству. У тех, кто занимался пятью позициями Бошана, кто подробно изучал законы управления движением, иногда могло возникнуть впечатление, что они втянуты в некий обман. Но la belle danse, красивый танец, был не только отражением двора Людовика – он его пережил. Самодисциплина и порядок в организации линейного и пространственного движения тела пережили создавший его двор не в виде этикета, а в форме классического балета.
Балет основывался на двух столпах. Один – la belle danse, который предписывал дворянам, как надо танцевать. Второй – это зрелище. В то время балеты еще не были танцевальными представлениями, которые шли по вечерам и исполнялись в театре для публики, как сегодня. Они во многом оставались ballet de cour[11]11
Придворный балет (фр.)
[Закрыть]– демонстрацией и развлечением власти, их исполняли представители власти для таких же, как они сами. Во многих аспектах la belle danse и ballet de cour составляли единое целое: они и представляли и утверждали иерархию и возвеличивали короля. Но между ними были и противоречия. Если la belle danse указывал на жесткий, классический порядок, то ballet de cour стремился к экстравагантной роскоши барочной эстетики. Стоит остановиться на истоках и огромных масштабах театрального представления во времена правления Людовика, так как они стали определяющими в становлении балета.
Католическая церковь может показаться странной отправной точкой, ведь известно, что она по традиции не благоволила танцу. «Где танец, там и сатана», – заклинал Александр Варе в 1666 году, отвращая от сочинений святителя Иоанна Златоуста IV века. Танец «лишь возбуждает страсти, заглушая голос благопристойности шумом прыжков в забытьи и разложении», – бранился другой, ссылаясь на авторитет святого Амвросия, жившего в IV веке. Действительно, актеры и танцовщики, выступавшие на публике, автоматически лишались последнего покаяния и погребения по христианскому обряду36[12]12
Покаяния и погребения по христианскому обряду был лишен Мольер, большую часть жизни развлекавший короля. Жан-Батист Люлли, танцовщик, музыкант и придворный композитор, перед смертью призвал священника, и тот потребовал сжечь партитуру последней оперы и отречься от профессии, что Люлли и сделал (хотя, по преданию, ему удалось украдкой сохранить один экземпляр). Зато он был удостоен пышных похорон в 1687 году в церкви Марии Магдалины в Париже.
[Закрыть].
Ирония этого сурового запрета проявилась в контексте всем известного страстного увлечения Людовика XIV искусством, что не ускользнуло от Лабрюйера. «Нет ничего забавнее, – писал он, – чем в определенные дни собирать толпу христиан обоих полов в одной комнате, чтобы они рукоплескали отлученным от церкви личностям, оказавшимся здесь только благодаря удовольствию, которое они доставляют, и заранее получившим оплату». Вольтер вторил ему из следующего века: «Когда Людовик XIV и весь его двор танцевали на сцене, думаете, их отлучили от церкви? <…> Но если не отлучать Людовика XIV, танцующего в свое удовольствие, то вряд ли можно считать справедливым отлучение тех, кто доставляет то же удовольствие за небольшие деньги с дозволения короля Франции»37.
Впрочем, среди католиков была группа тех, кто верил в танцовщиков и в танцы, – иезуиты. Известные своим контрреформаторским рвением и стремлением использовать искусство во спасение заблудших душ, иезуиты считали балет и зрелище способом привлечь и воодушевить паству, и неслучайно самые страстные трактаты о балете написаны отцами-иезуитами. Действительно, между королевским двором и лучшими школами иезуитов возник постоянный поток движения, а Бошан, Пекур и другие уважаемые танцовщики преподавали и регулярно выступали в Collège de Clermont (переименован в 1682 году в лицей Людовика Великого), где обучалась французская и зарубежная элита.
В иезуитских школах студенты (многие из которых впоследствии стали вельможами) постигали ораторское искусство, декламацию и «немую риторику» танца и жеста. Они учились прямо держать спину, сохранять такую осанку, при которой голова не откидывается назад и не вытягивается по-собачьи вперед, не поднимается слишком высоко (гордыня) и не опускается слишком низко (неуважение). Кисти рук надо было держать по бокам, немного перед корпусом, а сами руки – в спокойном положении, ими нельзя ни размахивать при ходьбе, ни поднимать выше уровня плеч. Хорошие ораторы, говорили ученикам, должны обладать пропорциональным телом (никакой короткой шеи – она производит комический эффект) и оттачивать свои жесты, подражая королям и истинным принцам церкви, чьи неземные тела сияют в божественном свете38.
Каждый год студенты выступали перед знатными вельможами, а нередко и перед королем, в трагедиях, исполняемых на латыни, – с полномасштабными балетными интерлюдиями. Балеты писались и оформлялись преподавателями риторики и были призваны убеждать. Работая рука об руку, риторики и балетмейстеры создавали сложные, роскошно декорированные, с новейшими сценическими эффектами постановки. Но то были отнюдь не красочные дивертисменты, которые отцы-иезуиты считали формальными и несущественными: сопровождавшие трагедию или римскую драму танцы отображали тему произведения. Балеты иезуитов были призваны эмоционально воздействовать на зрителя, захватывать его и переносить в мир «сверхъестественного и необычного». Они задумывались в духе барочной церковной архитектуры с ее мощными мраморными или золотыми колоннами (обычно фальшивыми), предназначенными для препоручения человека Богу39. Да и названия имели соответствующие, например «Триумф религии».
Но при всем своем великолепии постановки иезуитов конечно же не могли соперничать с придворными балетами, и в этом, как и во многом другом, Церковь проигрывала светскому государству. Достаточно вспомнить «Увеселения волшебного острова» – празднество, длившееся три дня в Версале в мае 1664 года. Устроенное в честь королевы, одновременно – к ужасу королевы-матери Анны Австрийской – оно было чествованием фаворитки короля, красавицы мадемуазель де Лавальер. Версаль еще не был превращен в роскошный дворцовый комплекс, а оставался охотничьей резиденцией: строительство дворца и парка будет закончено через несколько лет, и доставка оборудования, костюмов, еды, воды и строительных материалов было крайне затруднительным делом.
Основой сюжета для празднества послужила известная поэма Лудовико Ариосто о странствующем рыцаре Роже, околдованном прекрасной волшебницей Альсиной (или Альциной). Каждый день король и около шестисот придворных переходили на новое место в окрестностях будущего дворца, пока в итоге не оказались на берегу озера, где специально для увеселений был временно выстроен замок Альсины. В сумерках путь освещали яркие огни сотен восковых свечей и пылающих факелов; король, исполнявший роль Роже, возглавлял кавалькаду на великолепном жеребце. Затем следовал восхитительный банкет (участников рассаживали строго по рангу), на протяжении которого танцовщики – а им были поручены роли знаков зодиака и времен года – появлялись кто верхом на коне, кто на верблюде, кто на слоне или медведе. Выносились огромные, затейливо украшенные блюда с едой, чередой шли театральные представления (по пьесам Мольера), подготовленные, как говорилось в программе, «небольшой армией актеров и ремесленников». В последний день празднества состоялся полномасштабный балет со штурмом волшебного замка Альсины: разметав защиту танцующих гигантов, карликов, демонов и чудовищ, Роже (на этот раз его исполнял профессиональный танцовщик, позволив королю наслаждаться зрелищем) завладевал волшебной палочкой, под раскаты грома и блеск молний сокрушал дворец – и в небе взрывался праздничный фейерверк40.
Таким образом, балет был элементом грандиозного ритуализированного представления, миром чувственного наслаждения и пышного празднества. В такого рода представлениях важнее статуса были заслуги и королевские привилегии: Бошан и другие профессиональные (не дворянского сословия) балетмейстеры часто выступали рядом с Его Величеством – и в героических, и в комических партиях. Как когда-то его отец, Людовик XIV мог исполнить роль простодушной деревенской девушки, а Бошан, который прославился статью и красотой движений, – сыграть короля. Однако в конкретный момент представления происхождение, знатность становились важнее мастерства: в финале ballet de cour почти всегда исполнялось своеобразное короткое церемониальное заключение – отдельный grand ballet, в котором участвовали исключительно дворяне и сам король (уже настоящий) – нередко в черных масках и одетых согласно статусу. Это было напоминание о естественном порядке вещей, своего рода возвращение ко временам «Комического балета королевы». Резко контрастируя с более свободным, импровизационным и бурлескным предыдущим действом, grand ballet всегда демонстрировал строго выверенные и благородные па и фигуры. Исполнители отбирались заранее. Те, кто не танцевал (исключение делалось только по возрасту), смотрели и оценивали. Таким образом, grand ballet служил мостиком между театром и жизнью, между фантастическим и аллегорическим миром спектакля и миром двора, между ballet de cour и la belle danse. И в известной степени он был выводом, подведением итогов: мораль спектакля можно было выразить в фигурах танца, как в финальном аккорде драматической музыкальной экспозиции. Восстанавливая иерархию, grand ballet возвращал актеров в их реальное положение, формально утверждал порядок, царивший в общественных отношениях.
Ballet de cour был так тесно связан с французской монархией, что казалось, он – бессмертен, как и сам король. Но это было не так: во время правления Людовика XIV (1643–1715) он стал медленно, но необратимо двигаться к своему закату. Одной из очевидных причин было развитие, если можно так выразиться, конкурирующего искусства, завезенного из Италии, – оперы. Однако другая, более непосредственная причина заключалась в Жан-Батисте Мольере (1622–1673) и его комедиях-балетах (comédie-ballet).
В 1660-х годах Мольер плотно работал с придворным композитором Жан-Батистом Люлли (1632–1687) и балетмейстером Бошаном и часто встречался с итальянским мастером Карло Вигарани, известным своими техническими задумками на большой сцене. Это была превосходная команда, вместе эти художники создавали язвительные и остроумные, низвергающие устои сценки, которые исполнялись на королевских пирах и праздничных представлениях. Со временем именно эти сценки и подорвали значимость ballet de cour (частью которого являлись) – не посягая на него извне, но сведя на нет изнутри. Не то чтобы ballet de cour внезапно исчез или преобразился в нечто новое – скорее это был процесс размывания и распада по мере того, как затянутый ballet de cour постепенно терял связность, давая дорогу новым театральным формам.
Сomédie-ballet стал тем, чем не являлся ballet de cour: сжатым и крепко сбитым сатирическим жанром, смешавшим драму и музыку с балетами, «вшитыми» (по определению Мольера) в сюжет. Так что танцы больше не были неоправданными дивертисментами, а наоборот, вырастали из сюжета – стали частью действия.
Первый балет в новом жанре comédie-ballet «Докучные» был поставлен в 1661 году на празднике, устроенном Николя Фуке – злосчастным министром финансов Людовика XIV[13]13
Вскоре Фуке был смещен и арестован, как сообщалось, за чрезмерное великолепие этого праздника и расточительство, хотя его падение было частью большой политической игры, затеянной королем.
[Закрыть]. Мольер и Бошан (Люлли еще не подключился) изначально запланировали отдельные театральные сцены и танцевальные номера, но им недоставало хороших танцовщиков, а тем, что были, требовалось время, чтобы сменить костюм для следующих выходов. В итоге было решено «вшить» танцы в драматическое действие с тем, чтобы танцовщики успели переодеться, пока играли драматические актеры. Король остался доволен, и последовали другие «комедии-балеты».
Comédie-ballet стал не только результатом театральной импровизации. Он также опирался на условности своего времени. Мольер, например, отлично разбирался в словесных баталиях парижских литературных салонов, известных как прециозные (précieuses). Такими кружками руководили влиятельные независимые дамы, для которых близкий круг, острословие и дискуссии об этикете и рыцарской любви являлись своего рода убежищем от удушающей атмосферы двора Людовика, против которой précieuses (как и Мольер) выступали время от времени. В 1659 году Мольер высмеял их в пронзительной сатире «Смешные жеманницы». Не стоит удивляться тому, что Мольер ходил в колледж Клермонта, прекрасно знал искусство иезуитов и, что немаловажно, владел риторикой и мастерством увещевания, а также умел увязывать суть балета с трагедией. Кроме того, он оказался под влиянием commedia dell’arte и возглавлял одну из самых опытных театральных трупп Парижа.
Комедия дель арте имела большое значение, потому что в ней сочеталось искусство серьезное и комедийное. Сегодня мы справедливо ассоциируем ее с импровизированными гротескными выходками, грубыми шутками и балаганными персонажами – Пьеро, Арлекином и другими. Но это далеко не все. С самого начала и в XVII веке исполнителями комедии дель арте были нанимаемые аристократами шуты и актеры, которые прекрасно разбирались в драме, вплоть до текстов Овидия и Вергилия. (Некоторые были допущены в академии, где изучали литературу и искусство.) В угоду своим благородным покровителям актеры расцвечивали свои представления литературными аллюзиями и, подстраивая жанр под себя, высмеивали, передразнивали и обливали презрением чопорные и высокопарные ученые манеры и притворство принимавших их людей. Острое противоречие между формой драмы и шутовской импровизацией, между высоким слогом и просторечием лежит в основе популярности этого жанра.
Люлли не был чужд этой традиции. Он родился во Флоренции и, прежде чем стать придворным композитором Людовика XIV, поступил к нему на службу в качестве скрипача и менестреля (его стремительное возвышение и вольнодумство были предметом бесчисленных сплетен и спекуляций). В comédie-ballet парадные танцы он оставил Бошану, но лично все проверял и даже сам танцевал многие комические партии, в которых зачастую свободно импровизировал. Он был известен своей живостью и нетерпимостью к «глупости больших синьоров», не поспевавших за его быстрыми па и последовательностью движений41.
В 1670 году Мольер и Люлли направили свое остроумие на условности балета и придворного спектакля в «Мещанине во дворянстве». Впервые представленная королю в замке Шамбор, эта пьеса представляла собой язвительную сатиру на честолюбие буржуазии и деспотичные правила придворного этикета. Господин Журден – parvenu, мечтающий стать дворянином, – неуклюж, мешковат и не знаком с манерами и требованиями этикета высшего света. Он нанимает портных, музыкантов, философов и балетмейстеров, чтобы те научили его вести себя, как подобает вельможе и аристократу, однако этого недостаточно. Чтобы стать настоящим дворянином, он должен пройти суровую проверку – добиться благосклонности маркизы, то есть, как сказали его тщеславные и корыстные советчики, представить ей grand ballet42.
Балетмейстер (пародия на придворного льстеца) учит господина Журдена кланяться – отступить назад и поклониться, затем сделать три шага вперед, кланяясь каждый раз, «а под конец склониться к ее ногам», – и исполнить менуэт. Но в глубине души он оскорблен, ведь танец – это искусство, и его не должен осквернять алчный буржуа. «Человек ничего не сможет сделать без танца <…> Все несчастья человечества, все беды, которыми полна история, все промахи политиков и ошибки великих полководцев, – все от неумения танцевать»43.
Но прежде чем подойти к финальному аккорду спектакля – grand ballet под названием «Балет наций», – зрителя угощают его противоположностью в исполнении буфонно нескладного турка – с прямой отсылкой к несуразности манер османского посланника, незадолго перед этим посетившего французский двор и по понятным причинам сбитого с толку его прихотливыми требованиями. Гримасы и выходки муфтия в исполнении Люлли, несомненно, ядовитом и импровизационном, уступали только ужимкам господина Журдена, которого играл сам Мольер. Разумеется, в этом случае grand ballet выглядел не финалом, а разрушительной атакой. В исполнении профессиональных танцовщиков, а не знатных дворян, он высмеивал традиционное церемониальное заключение балета.
«Мещанин во дворянстве» – важный момент в истории балета, потому что он подытожил традицию и перевернул ее с ног на голову. Трудно вообразить, что церемонное великолепие ballet de cour могло еще когда-нибудь предстать в прежнем виде, пусть даже в исполнении самых усердных придворных. Более того, появился новый жанр, своего рода ballet de cour в миниатюре, которого явно не хватало в бессвязных и откровенно инородных дивертисментах, сопровождавших королевские увеселения. Comédie-ballet снял сливки с ballet de cour ради драматургической последовательности, а «Мещанин во дворянстве» довершил дело, высмеяв его. К тому же сам факт, что comédie-ballet вырос из ballet de cour (на самом деле это была пьеса внутри пьесы), свидетельствовал о силе и живучести двора Людовика и его церемониала. Они могли сосуществовать и прекрасно уживались. Однако сатирический тон распахнул двери – путь к переменам был открыт.
Ни Мольер и Люлли, ни король не остановились на достигнутом в comédie-ballet. В 1671 году Людовик предложил им поработать с Пьером Корнелем и либреттистом Филиппом Кино над новой постановкой для показа в парижском дворце Тюильри. Редко когда созывался столь эклектичный состав сотрудников: Корнель, совесть французской трагедии, имел мало общего с легкомысленным Кино и даже с энергичными, но подверженными итальянскому влиянию Мольером и Люлли.
В 1662 году Вигарани построил в Тюильри просторный théâtre à machines. Зал, вмещавший как минимум шестьсот человек, производил колоссальное впечатление: интерьеры украшали мрамор, золото и внушительные колонны, сцена обычной для того времени глубины была оснащена всей мыслимой и немыслимой машинерией. Замысел был чисто барочным: создать у зрителя иллюзию перспективы и небес, устремленных в бесконечность. Чтобы усилить эту иллюзию, Вигарани дополнительно нарисовал людей, населив сцену картонными толпами, уходившими вглубь вдоль кулис, уменьшаясь в размерах на пути к далекому горизонту. Возможно, визуально результат был действительно эффектным, однако из-за внушительных размеров театра акустика стала настоящим бедствием, и его перестали использовать. Но новая постановка – «Психея» – на время вернула его к жизни.
«Психея» обещала нечто такое, что еще не видела публика, – tragédie-ballet. Это была смелая попытка объединить серьезный сюжет с балетом и яркими сценическими эффектами, включая танцы духов ветра и фурий, дриад и наяд, шутов, пастухов и воинов. По свидетельству современника, был даже потрясающий танец семидесяти профессиональных танцовщиков и заключительная картина с участием не менее трехсот музыкантов, висящих на облаках44.
Претенциозность постановки не осталась незамеченной: «Психея» вызвала поток пародий. Если comédie-ballet был отточенным сатирическим жанром, в котором танец и театр были призваны, как в зеркале, отразить двор и его причуды, то tragédie-ballet стал его противоположностью – непомерно раздутым спектаклем в традициях ballet de cour, поставленным на необъятной сцене в свойственных трагедии одеяниях. И в этом смысле он скорее походил на развязку, чем на отправную точку: «Психея» стала единственной в истории постановкой tragédie-ballet, и мы не ошибемся, усматривая в этом предсмертную агонию ballet de cour.
Королевская академия музыки, ставшая позднее Парижской оперой, была основана в 1669 году, и именно там под руководством Люлли последовало дальнейшее развитие французского балета. Идея создания Академии принадлежала честолюбивому, но совершенно неспособному руководить поэту Пьеру Перрену. Он предложил королю основать Академию поэтов и музыкантов с тем, чтобы не позволить иностранцам «завоевать» Францию в сфере оперного искусства, которое в то время стало пользоваться колоссальным успехом в итальянских городах. Перрен представлял себе национальное французское искусство, отличное от итальянских образцов и во всем превосходящее итальянцев. Король согласился, но средств не выделил: Академия должна была выживать за счет кассовых сборов, и вскоре Перрен оказался в долговой тюрьме.
Вечный оппортунист Люлли не оплошал, разглядев возможную выгоду и престиж Парижской оперы, и, провернув ряд интриг, в 1672 году взял контроль над предприятием в свои руки. Однако его не удовлетворили первоначальные условия, выдвинутые королем, и он исхитрился добиться решающей уступки на следующий год – запрета другим театрам осуществлять постановки равнозначного масштаба. В частности, другим театрам было дозволено привлекать строго ограниченное число музыкантов и танцовщиков. Таким образом, Люлли задушил конкуренцию[14]14
Мольера уже не было: он скончался 17 февраля 1673 года на сцене во время спектакля «Мнимый больной».
[Закрыть] и заполучил карт-бланш на развитие нового оперного, а вместе с ним и балетного искусства45.
Последовал всплеск необычайного художественного развития, сосредоточенного в Парижской опере и основанного на принципах, сильно отличавшихся от тех, что продолжали действовать при дворе. В патентной грамоте Оперы король отдельно оговорил то, что дворяне, танцующие и поющие на сцене, не утратят своего благородного титула, которого они лишались, выступая на других парижских сценах. Опера, похоже, превращалась в особый двор вне королевского двора – в привилегированный форпост королевских зрелищ и балетов. Действительно, многие ранние постановки Парижской оперы стали воспроизведением тех спектаклей, что изначально были показаны королю в Версале. А вот чего Людовик не мог предусмотреть, так это того, что дворяне-любители, которых он старался защитить, вскоре исчезнут: их участие наравне с профессионалами почти сразу стало скорее исключением, чем правилом. Известные аристократы танцевали бок о бок с профессионалами в одной из первых постановок Академии, «Празднестве Амура и Бахуса», но это было прощальное выступление подобного рода, и с тех пор лишь случайный дворянин оказывался на сцене.
Более того – и в этом состоит новшество: на сцену вышли дамы. Когда «Триумф любви» (впервые показан при дворе в 1681-м) был поставлен в Парижской опере, партии, которые изначально танцевали дофин и королевские особы женского пола, уже не исполнялись мужчинами en travesti, как было принято. Вместо них выступали первые профессиональные танцовщицы, включая мадемуазель де Лафонтен, известную к тому же тем, что она сама придумывала свои па[15]15
Лафонтен время от времени выступала в придворных балетах, но о ее жизни мало что известно, кроме того, что она жила (не принимая обета) в двух разных монастырях и умерла в 1738 году.
[Закрыть]. Любопытно, что сам факт появления танцовщиц на сцене Оперы прошел почти незамеченным: Mercure galante, литературный журнал, издававшийся с 1672 года, лишь вежливо отметил «единственное в своем роде новшество». Причина такого безразличия, вероятно, легко объяснима. Мадемуазель де Лафонтен лишь продемонстрировала то, что и так было известно: после открытия Парижской оперы социальный и профессиональный танец разошлись. Отныне было два пути: двор и сцена, и они уже не смешивались так беспрепятственно, как прежде. Для женщин это был шанс выдвинуться за счет понижения: так как настоящие дворяне покинули сцену и их роли отдавали опытным (но более низкого сословия) профессионалам, танцовщицы нашли свое место46.
Кроме того, вопреки расхожему представлению о расточительной жизни в Версале, Париж и Парижская опера, одолев двор, оказались в выигрыше. С 1680-х до конца правления Людовика в 1715-м балеты еще исполнялись при дворе, но далеко не так регулярно и не так пышно. Когда строительство дворца в Версале было наконец завершено в начале 1680-х, в нем даже не было театра. Мало того, жизнь в Версале стала гораздо менее праздничной: военные поражения Людовика множились, а сам он попал под суровое влияние набожной мадам де Ментенон. Это она потребовала выслать итальянских актеров commedia dell’arte в 1697 году. В эти годы напряжение, всегда существовавшее между двором и Парижем (для Людовика этот город навсегда остался связан с Фрондой), все больше возрастало. Парижская Опера служила своеобразным мостом, но она была чисто парижским учреждением: кроме того, что ее публикой были парижане, в Опере укреплялось сознание собственной независимости.
Вскоре после основания Оперы Бошан был назначен главным балетмейстером. О его хореографии известно очень мало (со временем она была утрачена), но за тем, что происходило в балете в этот период, можно проследить по работам Люлли, который внес весомый вклад в развитие ранней французской оперы. Люлли и его современники прекрасно понимали, что опера опиралась на звучание и ритмику итальянского языка, а также были чрезвычайно восприимчивы к устоявшейся во Франции классической традиции, которую развивали Корнель и Жан Расин. Таким образом, Люлли, много сотрудничавший с Кино, отвернулся от ballet de cour и comédie-ballet, приступив к созданию новой – самодостаточной и серьезной – французской оперной формы. То, к чему он пришел, стало еще одним новым жанром – tragédie en musique47.
Новый жанр – трагедия в музыке – не пренебрегал танцем. Это было просто невозможно: французский вкус требовал балета. Но больше всего Люлли и Кино интересовало другое: как втиснуть музыку в рамки французского языка. Очарованный театральной декламацией, Люлли изучал технику легендарной актрисы Шанмеле (возлюбленной Расина) и, сочиняя музыку, брал реплику из выученного наизусть либретто, декламировал ее и подстраивал ритмический и мелодический рисунок под стихотворный размер. На контрасте с итальянской оперой, партии серьезных персонажей он сочинял в речитативе, стремясь к простому, приближенному к разговорной речи стилю, чем вызывал нападки певцов, старавшихся приукрасить или исказить его замечательную языковую четкость.
Танцы и дивертисменты были разбросаны по постановке, как конфетти или сладости. Балет, казалось, терял свои притязания на значительность. Перемены можно было увидеть в небольшой, но показательной детали: любимым танцем Людовика всегда была величавая куранта (courante) или entrée grave, а Люлли предпочитал живой, с прыжками менуэт, «всегда веселый и быстрый», в трехдольном размере, который постоянно вставлял в свои оперы (это его господин Журден так отчаянно пытался выучить). Точно так же, согласно запискам маркиза де Сурша, несколькими годами позже Людовик попросил своих балетмейстеров поставить courante, но, ко всеобщему удивлению, никто не смог припомнить деталей этого некогда любимого танца, и вместо него король – в который раз – был вынужден примириться с менуэтом. Величественные формы благородного стиля, казалось, уступали место более яркому и затейливому танцу с подчеркнуто быстрой работой ног и жизнерадостными прыжками48.