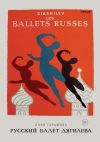Текст книги "История балета. Ангелы Аполлона"
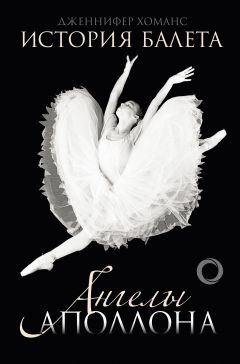
Автор книги: Дженнифер Хоманс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все было подчинено пантомиме. Переиначив принятый порядок работы, Новерр продумывал па и пантомиму, прежде чем начать работать с композитором, и тот в результате сталкивался с непростой задачей – переложить замысел балетмейстера на музыку. В музыке Родольфа есть традиционные танцевальные формы, но при этом она чрезвычайно программна: ее продолжительные оркестровые пассажи, изображающие событие, призваны поддержать развитие пантомимы. Учитывая пристрастие Карла-Евгения к пышным зрелищам, Новерр изобрел гибридную балетную форму, смысл которой был в невероятном смешении старых вкусов и современных тенденций: помпезное представление времен le grand siècle накладывалось на утрированную пантомиму в духе Гаррика, сознательно угловатую, ассиметричную композицию и статичные картины. Сегодняшнему зрителю балет Новерра может показаться тяжеловесным и чересчур нарочитым, но в свое время он нашел живой отклик у тех, кого впечатляло величественное зрелище и при этом привлекало глубоко эмоциональное театральное переживание.
Новерр поставил несколько балетов в этом ключе, но в 1767 году Карл-Евгений потерпел финансовый крах и был вынужден свернуть театральное дело. Новерр и половина балетной труппы были внезапно уволены, через два года та же участь постигла Йомелли. Золотая пора музыки и танца в Штутгарте закончилось, во всяком случае, на время. Однако слава «Медеи и Ясона» дошла до французской столицы, и, когда штутгартская труппа распалась и танцовщики Новерра разъехались по всей Европе, его балеты ставились повсюду, от Парижа до Неаполя, добравшись даже до Санкт-Петербурга. Обычно постановки претерпевали значительные изменения в угоду местным вкусам (в Париже были добавлены танцы) и нередко исполнялись на другую музыку, но они тем не менее способствовали распространению идей Новерра и росту его авторитета.
Сам факт, что ballet d’action нашел приют в Штутгарте, имел особое значение. Существовал шаблон: Париж – центр моды, и балет в Париже востребован, так что правители Германии и деятели культуры пытались привить французские вкусы и французский балет своим дворам и городам, используя власть и деньги. Впрочем, это не означало, что балет занял прочное положение в жизни Германии. Он всегда оставался приглашенным искусством, неловко плавал на поверхности, и несколько раз его смывало волной антифранцузских настроений немецкого национализма. Действительно, только в XX веке оперные театры Германии вновь начнут принимать европейских (а позднее и американских) танцовщиков, пустившихся на поиски щедрых театров и глотка свободы. При этом важную роль сыграло именно то, что в Штутгарте не было устоявшейся балетной традиции: Карл-Евгений позволил артистам и идеям проникать через заслоны условностей в большей степени, чем неизменно консервативная Парижская опера. Таким образом, реформа французского балета произошла за пределами Парижа. Расшатать его устои было проще извне, и в Вюртемберге была сделана одна из первых попыток.
К тому же Новерр, как большинство балетмейстеров в XVIII веке, вел кочевой образ жизни. Он постоянно боролся за очередное место работы и свои гонорары, занимался билетами, расходами, костюмами, транспортом, нанимал танцовщиков. Расставаясь с ним, Карл-Евгений написал польскому королю и в Лондон, но там ничего не вышло, и в итоге Новерр согласился на должность в Вене при дворе императрицы Марии-Терезии. Однако когда Новерр туда прибыл, оказалось, что там балет-пантомима уже завоевал признание: артисты сами, и из своих собственных соображений, выступили за реформирование балета и оперы. И сделали это более радикальным образом, чем Новерр мог ожидать.
Вена была стержнем театральной жизни Европы. Как столица монархии Габсбургов она являлась центром обширной империи, чьи владения простирались от Альпийских гор до Карпат и от Адриатики до границ Фландрии. Словно магнит, город привлекал артистов из Парижа, Венеции, Неаполя, Рима, Турина и Милана – и вновь выпускал их на просторы от германских земель до Санкт-Петербурга. Были города и богаче, и с более глубокими театральными традициями, но в середине XVIII века все дороги большинства танцовщиков и балетмейстеров вели в Вену.
Когда в 1768 году туда прибыл Новерр, Мария-Терезия была императрицей уже 28 лет, и Вена к тому времени превратилась в поистине космополитичный город, куда съезжались элиты германских и итальянских государств, Испании, Австро-Венгерских владений, включая Силезию, Богемию, Моравию и Лотарингию. Элиты говорили на французском (хотя многие владели немецким и итальянским), и Мария-Терезия с мужем, императором Францем I, обожали французскую культуру и искусство. Придворная жизнь была роскошной, но при этом более раскованной и открытой, чем во Франции. Действительно, сам факт, что правила Мария-Терезия, был против принятой традиции: ведь она была женщиной, а ее муж-император – поначалу лишь консортом. При всей привязанности к семье (она сама ухаживала за детьми, когда те болели) королева любила уединение и в равной степени ценила как блеск и великолепие, так и неформальные отношения. Франц был масоном и называл себя «отшельником в миру», предпочитал охоту и бильярд театру и светской жизни. Так что, хоть венцы и переняли правила французского двора, их жизнь никогда не была столь ограничена жесткими рамками37.
Сообразно космополитичному характеру города, в Вене было два театра – французский Бургтеатр и немецкий Кернтнертор-театр, и в каждом была своя балетная труппа – в основном из итальянских танцовщиков, но и французское влияние было вполне ощутимо. Венский балетмейстер Франц Хильфердинг в 1730-х годах был отправлен (за королевский счет) в Парижскую оперу на обучение к племяннику и ученику личного балетмейстера Людовика XIV, Пьеру Бошану. Вернулся он оттуда с положенным комплектом париков и масок, вооруженный знанием французского серьезного стиля и в полной готовности к присущим французскому театру пасторалям и аллегорическим балетам. Однако вскоре Хильфердинг сменил курс. Как и Мари Салле, он просил своих актеров снять маски и играть серьезную драму в виде пантомимы – «истинной поэмы, подчиняющейся тем же правилам, что и трагедия, и комедия». Он поставил балеты по трагедии Расина «Британик» и по пьесе Вольтера «Альзира», но сегодня нам мало что о них известно38.
Однако все это было лишь началом того, что оказалось главным стимулом к переменам. В 1754 году Мария-Терезия поставила графа Джакомо Дураццо (много путешествовавшего генуэзца, тесно связанного с Францией) управлять Бургтеатром. Дураццо был близок с канцлером императрицы, дальновидным и опытным венским аристократом Венцелем Антоном Кауницем, который жил и работал в Турине, Брюсселе и Париже и стал преданным поклонником и покровителем французского Бургтеатра. Дураццо задумал соединить французские и итальянские музыкальные и театральные традиции и таким образом выразить дипломатическую политику Габсбургов. С этой целью он привез богемского композитора Кристофа Виллибальда Глюка и установил связи с парижским продюсером Шарлем-Симоном Фаваром, который стал обеспечивать Дураццо потоком французских комических опер. То, что выбор пал на Глюка, казалось идеальным решением: прекрасно зная итальянские оперные традиции, он быстро схватывал новые музыкальные стили и искусно подгонял сочинения Фавара под местные вкусы. Хильфердинг отлично работал со своей командой, но когда в 1758 году он согласился принять должность в Санкт-Петербурге, Дураццо взял на его место его ученика, флорентийского танцовщика и балетмейстера Гаспаро Анджолини.
Анджолини был хорошо образован и серьезно интересовался литературой. Он был женат на танцовщице Марии-Терезе Фольяцци – чувственной красавице (Казанова тоже ее добивался) из знаменитой пармской семьи, и пара свободно вращалась в кругах интеллектуалов. Анджолини переписывался с Руссо и деятелями итальянского Просвещения Джузеппе Парини и Чезаре Бекариа, а позже принял участие в якобинском движении в Милане. В 1761 году Кауниц познакомил Анджолини с либреттистом Раньери де Кальцабиджи, который только что приехал в Вену после долгого пребывания в Париже. Кальцабиджи был убежденным приверженцем французского Просвещения и во всем, что касалось музыки и оперы, следовал идеям Дидро и авторов «Энциклопедии». Все сошлось, образовав исключительное единение художников и идей: Глюк, Кальцабиджи и Анджолини порвали с французской комической оперой и провели свою реформу в опере и балете, причем в то же время, когда Новерр отдельно от них работал над воплощением тех же идей в Лондоне и Штутгарте. Под влиянием мыслителей Просвещения они представляли напряженную, серьезную драму, в которой музыка и танцы подчинялись бы слову, а главное – действию. Балету как дивертисменту во французском стиле не было места в их содержательном и хорошо продуманном спектакле: как нетерпеливо отмечал Кальцабиджи, танцовщикам просто придется подождать финала трагедии, чтобы исполнить свои трюки. С пантомимой дело обстояло иначе. В 1761 году Глюк и Анджолини создали балет «Каменный гость, или Дон Жуан», в котором пантомимические сцены были тесно связаны с содержанием: фурии с пылающими факелами дразнили Дона Жуана, демоны эффектно жестикулировали у врат в геенну огненную, прежде чем столкнуть героя (и самим провалиться) в бездну.
В 1762 году Глюк, Кальцабиджи и Анджолини создали оперу «Орфей и Эвредика», а три года спустя в сотрудничестве с Анджолини Глюк закончил балет-пантомиму «Семирамида» по трагедии Вольтера. Свою «Семирамиду» Вольтер снабдил «Трактатом о древней и современной трагедии», Анджолини (без ложной скромности) последовал его примеру и писал «трактаты» к своим балетам-пантомимам, в которых пояснял (повторяя слова Новерра), что главное – отказаться от типичного для французской оперы сказочного «волшебства» и заставить публику ощутить ту «внутреннюю дрожь, на языке которой с нами говорят ужас, жалость и страх». И действительно, «Семирамида» представляла 20 напряженных минут кровопролития, мести, предательства и матереубийства39.
Это был очевидный провал. Глюк и Анджолини недальновидно приурочили постановку своего зловещего балета к свадьбе сына Марии-Терезии, эрцгерцога Иосифа, и его сочли «слишком патетическим и печальным для свадебных торжеств». Двор и город, по словам одного критика, «содрогнулись» от ужасного действа, в котором танцы исполнялись «не ногами, а лицом». Анджолини, похоже, зашел слишком далеко. Ему не удалось подстроить французский балет под венские вкусы, и впредь он был вынужден вернуться к облегченным сочетаниям пантомимы и танца. Однако, несмотря на провал, «Семирамида» стала важной вехой. Это был, наконец, чистый танец-пантомима: никаких кружевных оборок, французских па, комических вставок. Это был принцип Новерра, доведенный до логического финала, и лишь немногие (меньше всех сам Новерр) смогли принять решительный отказ от балетных украшательств в пользу тяжелой, неприкрашенной пантомимы. Поэтому «Семирамида» стоит за гранью балетной реформы XVIII века. Ее бесконечная напряженность и реалистичная жестокость создали скорее манифест, чем балет – чистосердечный и страстный, но слишком серьезный и бескомпромиссный на вкус тех, кто привык к цветистому и развлекательному балетному стилю40.
Когда Новерр прибыл в Вену, чтобы занять место Анджолини, путь к балету-действию был уже полностью вымощен, и балетмейстер без труда продолжил то, на чем остановились его предшественники. В 1768 году Новерр и Глюк работали над оперой «Альцеста», и композитор согласился спрятать певцов в кулисах, позволив танцовщикам выражать драматические моменты на сцене средствами пантомимы. В 1774-м было создано монументальное произведение – «Горации и Куриации» на музыку Йозефа Старцера (многолетнего соавтора Анджолини). В балете, растянутом на пять актов, с явно программной партитурой, история Корнеля излагалась в серии танцев, картин и пантомимических сцен. В отличие от Анджолини, Новерра в Вене ждал огромный успех, что, несомненно, объясняется тем, что свои балеты с трагическим действием он смягчал обилием французских танцев и пышных эффектов: «Я увеличил число эпизодов и театральных трюков, накопил картин и блеска… Я предпочел богатство строгой последовательности». Поэтому условия, сложившиеся в Вене, для Новерра были идеальны: сочетание придворных манерных французских вкусов и радикальных реформ, начатых Глюком и Анджолини, были как будто специально для него созданы. Он поставил в Вене как минимум 38 новых балетов – с таким успехом, что в результате императрица доверила ему завидную задачу по обучению танцам ее дочери. Так он стал личным балетмейстером будущей королевы Франции Марии-Антуанетты41.
Несмотря на все достижения, жизнь Новерра в Вене была сложной и ненадежной; неудивительно, что, выполняя свои контрактные обязательства, он постоянно писал в Лондон и Штутгарт в надежде получить другое место. Так как Новерр приехал в Вену на волне французского господства в области культуры, он был как бы частью его эффектного последнего вздоха и прекрасно сознавал шаткость собственного положения. Дураццо покинул Вену в 1764 году, а годом позже, после смерти императора Франца I, сын Марии-Терезии Иосиф стал ее соправителем и занялся театральной жизнью столицы. Иосиф был прямолинеен и серьезен, даже суров, и презирал этикет и внешние атрибуты монархии и аристократии. Он пренебрегал официальными церемониями и светскими приемами двора своей матери, предпочитая им суровость воинской дисциплины и уют частной домашней жизни. Решив реформировать империю в интересах своего народа, он надеялся создать доступный немецкоязычный театр – народный театр, свободный от контроля аристократии. Поэтому он пусть немного, но все же презирал Новерра с его «французскими» балетами.
Кауниц горячо отстаивал необходимость королевской поддержки французского Бургтеатра, но Иосиф перестал его финансировать, объясняя это тем, что государство расценивает его постановки как «пустяки». Театр продолжил существование благодаря попечительству высокопоставленных вельмож, но так и не смог возродиться. Кауниц возмущался бессердечным отношением Иосифа к Новерру, но все было бесполезно, и в конце концов в 1774 году Новерр принял предложенное место в Милане. Протестуя против его отъезда, у театра собралась шумная толпа поклонников, и хотя два года спустя Новерр ненадолго вернулся с труппой танцовщиков, Иосиф остался непреклонен. В том же году он превратил Бургтеатр в национальный театр, предназначенный для представлений на родном (немецком) языке. Таким образом, Новерр был изгнан из Вены по той же причине, по которой был туда приглашен: он был французом. Как позже отметил один наблюдатель, Иосиф «наверняка не возьмет на работу ни единого француза, пока немецкие пьесы не начнут играть в Версале»42.
Прибыв в Милан, Новерр столкнулся с культурой города, гордившегося давними, устоявшимися традициями собственной оперы и балета. Милан тоже находился под властью Габсбургов, и этот факт местная элита с готовностью приняла (отчасти как защиту от соперника, независимого пьемонтского Турина), и многие аристократы были у австрийцев на службе. К тому же город отличался особой общностью, и, как и образованные элиты других итальянских городов, миланцы обладали обостренным чувством общеитальянского литературного и художественного наследия. Суть этого чувства была не в политических амбициях (пока), а в культурной идентичности, восходящей к античности и Ренессансу. Опера и балет были частью этого наследия, а здание театра Реджо Дукале (в 1776 году оно сгорело и на его месте появился театр Ла Скала) – главной достопримечательностью городского ландшафта.
Оперный театр был центром общественной жизни Милана, городская знать собиралась там чуть ли не еженощно. Зимой даже самые богатые дома плохо отапливались и слабо освещались, в то время как в здании оперного театра была большая дровяная печь и там было тепло (и смрадно) от множества собравшихся людей. Места в зрительном зале соответствовали занимаемому положению в городе, и самые завидные ложи арендовались или покупались местной знатью. Просторные и элегантно обставленные, они служили салонами и предназначались как для наблюдения за сценой, так и для развлечения гостей. В большинстве лож были вместительные прихожие с печкой и кухонными принадлежностями – со всем необходимым, чтобы приготовить еду, которую сервировала целая команда слуг. Портьеры отгораживали гостей ложи от зрительного зала, обеспечивая приватность, их открывали, если компания хотела послушать любимую арию или посмотреть танец. Для зрителей других сословий предусматривались вино, кофе и мороженое.
Было и другое развлечение – азартные игры. Оперный театр держал монополию на все казино в городе, и театральные постановки долгое время осуществлялись на доходы от игры. Мария-Терезия не одобряла азартные игры по моральным соображениям, но, хоть и неохотно, разрешила их, чтобы умиротворить городскую знать (низшим сословиям запрещалось играть). Игорные столы были расставлены по всему театру, один стоял даже в зрительном зале на четвертом ярусе, воодушевляя лавочников на игру, пока шло представление. При этом игра не отвлекала от зрелища, как могло показаться. Так как оперу давали по вечерам, публика быстро усваивала постановку и свободно выбирала любимые партии, обращая все внимание на сцену – между переменами блюд, играми и светскими визитами. При этом миланцы свободно выражали свое мнение, громко крича или скандируя в сторону сцены, и художественная сторона каждого спектакля активно обсуждалась и оценивалась.
Опера, разумеется, была итальянской. А вот в театральном танце в Милане (и в других городах Италии) была своеобразная классификация. Обычно оперные театры нанимали танцовщиков двух видов: «французских» ballerini, которые выступали в партиях серьезного стиля, и итальянских исполнителей grotteschi, специализировавшихся в пантомиме и акробатических номерах, или (по выражению одного критика-франкофила) «раздражающих кабриолях» и «невыносимых пробежках с подскоками». За несколько лет до приезда Новерра в Милан балет стал популярен, и театр постоянно увеличивал число танцовщиков grotteschi. Кроме того, итальянские танцовщики и балетмейстеры давно увлекались пантомимой: античность (не говоря уже о commedia dell’arte) вызывала необычайный интерес. Анджолини, который недолго работал в Милане и мечтал поднять уровень итальянского танца в целом, писал о своем «стремлении» к «великолепию древних» и о своем глубоко патриотичном воодушевлении: «Если бы Италия была единой и могла использовать это себе во благо… она могла бы выйти на передний край и потягаться с любой процветающей и эрудированной нацией за первое место на Парнасе»43.
Как французского балетмейстера, навязанного Веной, Новерра не жаловали в Милане еще до его приезда. Незадолго перед этим они с Анджолини успели обменяться горячими высказываниями в печати: прочитав, наконец, «Письма» Новерра, Анджолини набросился на озадаченного балетмейстера за утверждение, что тот якобы единолично создал балет-пантомиму. Разве Новерр не знал, что Хильфердинг и другие (и он сам, Анджолини, не в последнюю очередь) опередили его? Разве Новерр не знал, что у балета-пантомимы долгая история, восходящая к античности, – другими словами, что балет-пантомима не французского, а итальянского происхождения? Разве он не понял, что серьезная пантомима должна подчиняться законам трагедии (единству времени, места и действия) и что отказаться от них, как предлагает Новерр, – все равно что «свалить все в кучу»? Новерр вознегодовал («Что я ему сделал? Что мои “Письма” ему сделали?»), спор принял международные масштабы, и различные издания Флоренции, Рима, Неаполя и некоторых германских государств вставали на сторону одного или другого: немцы выступали за Новерра, итальянцы (за исключением Неаполя) – за Анджолини.
Несмотря на всю эту шумиху, идеи Анджолини и Новерра, как мы теперь знаем, были более близки, чем им хотелось бы признать. Анджолини (как Уивер и Новерр) мечтал возвести балет в святилище трагедии и тоже связывал балет с пантомимой. Однако у него были свои причины для желания реформировать танец. Несмотря на сочувствие Просвещению, интерес Анджолини к «естественному человеку» Новерра был минимальным, и он ничего не знал о добродетелях Уивера. Для него пантомима означала античность и выдающееся наследие итальянской культуры.
Новерру это ничем не могло помочь. К его приезду Милан был всецело на стороне Анджолини. Хуже того, Новерр, настояв на том, чтобы привезти с собой группу французских танцовщиков, высокомерно игнорировал миланских исполнителей grotteschi. Пьетро Верри – литературный критик, общественный деятель и выдающаяся фигура итальянского Просвещения – обвинил Новерра в «импульсивности и гордыне, доходящей до грубости». Он обрушился на новерровское «царственное представление из жалости к нашей итальянской неотесанности» и уверял, что успех Анджолини в Милане был куда больше, потому что тот был «воспитанным и скромным» и ставил балеты на итальянский вкус44.
Балеты, поставленные Новерром в Милане, были амбициозны и включали ряд его венских «хитов». Но миланцы остались к ним равнодушны. Верри неохотно признал, что танцы Новерра были мастерски исполнены и выглядели «великолепно» в «технических аспектах», однако его пантомимы он нашел сырыми и неоправданно кровавыми. В «Агамемноне» пять человек были безжалостно убиты в жанре пантомимы, что возмутило публику. Привыкший к облегченному итальянскому стилю, Верри не мог оценить того, что так отличало Новерра, – сочетания элегантных французских танцев и ужасающих пантомим под тяжеловесную программную музыку. Шокированный пристрастием Новерра к «крови… мести, раскаянию, отчаянию», он писал брату в Рим о том, что, возможно, подобное нравится Штутгарту, но Милан вовсе не был впечатлен: «Встряски в виде такой бойни нужны лишь тупой нации; это как горчица для огрубевших рецепторов; мы еще способны воодушевляться, поэтому испытываем отвращение на таких грубых представлениях»45.
Несмотря на внешнюю самонадеянность, Новерр был глубоко уязвлен желчным тоном итальянских критиков. Неслучайно именно в Милане он стал сомневаться в идее реформы танца. Проблема была не в балете – вниз его тащила пантомима. Резко изменив свое мнение, он признавался, что пантомима уже представляется ему удручающе грубым средством выражения – «самым убогим, затруднительным и ограниченным» из подражательных искусств. Он устало подтверждал, что без пространной программы жест не способен держать сюжет, и, несмотря на все его намерения, как ни печально, пантомима застряла «в детстве». Подтверждением его поражения стала программка к балету «Горации и Куриации» на тринадцати страницах с изложением сюжета, которую он отпечатал для зрителей, не знакомых с пьесой Корнеля46.
Миланцы вымотали Новерра и одновременно с тем разоблачили. Его высоко трагедийные балеты – с гримасами, утрированными и угловатыми позами и манерно ритмизированными движениями – возможно, и были эмоциональны, но не вызывали доверия и не получили всеобщего признания, как он надеялся.
У потерпевшего поражение в Милане Новерра оставалась последняя надежда – Парижская опера. В 1770 году дофин (ставший пять лет спустя королем Людовиком XVI) сочетался браком с Марией-Антуанеттой. Вскоре после прибытия в Париж австрийская принцесса решила вдохнуть в Оперу новую жизнь. Глюк последовал за ней из Вены в 1773 году и в течение последующих пяти лет выводил сдержанное музыкальное сообщество Парижа из спячки. В 1776 году юная королева беспечно нарушила традицию выдвигать на руководящие посты кого-либо из сотрудников Оперы и назначила главным балетмейстером Новерра, чем вызвала напряженную обстановку в театре и завышенные ожидания среди публики. Философ Жан-Франсуа де Лагарп взволнованно писал, что пора, наконец, Парижу заполучить «величайшего балетного постановщика со времен возрождения искусств и достойного соперника Пилада и Батилла». Говорили (не всегда лестно), что чтобы заставить Новерра приехать, пришлось построить «золотой мост»47.
Еще до приезда Новерра в балете Парижской оперы стали появляться признаки перемен. В 1775 году балетмейстер Максимильен Гардель предложил поставить ballet d’action в честь коронации Людовика XVI в Реймсе. Хотя король отменил представление при дворе, не желая казаться чересчур расточительным, и балет был заморожен в Опере, где вообще неохотно ставили балеты «в неизвестном в этой стране жанре», либретто Гарделя было опубликовано и сопровождалось мощно аргументированным манифестом. В этом манифесте Гардель построил полномасштабную защиту Новерра и ballet d’action. И получил поддержку прессы, где в публикациях с критикой позиции Оперы отмечалось, что работа Новерра вызывает ошибочное и упорное сопротивление тех, кто ненавидит свободу и преобразования48.
Спустя несколько месяцев Гаэтано Вестрис, работавший с Новерром в Штутгарте, повторил постановку «Медеи и Ясона», которая прошла с оглушительным успехом – отчасти потому, что в угоду парижским вкусам Вестрис предусмотрительно напичкал напряженный балет легкими танцами и дивертисментами. В том же году Опера распространила подробный доклад, посвященный тому, как спасти ее от «неизбежного и тотального краха». В панегирике Глюку отмечалось, что музыка переживала «революционный» период, но балет, как ни прискорбно, безнадежно отстал. Он скучен, изобилует повторами, исчерпал себя и стал обузой для театра. Единственный выход – последовать примеру Новерра, который выдержал проверку временем и доказал, что балет тоже может стать жизнеспособным и серьезным искусством49.
Вопреки такому явно оптимистичному началу, по приезде Новерр оказался в сложном положении, так как его зачислили в союзники Глюка: успех композитора у публики никак не располагал к нему танцовщиков Оперы. Им не нравились реформаторские постановки Новерра, из которых были безжалостно удалены их любимые танцы. Более того, его считали чужаком, который пользуется поддержкой королевы-иностранки, и многие танцовщики ополчились, сознательно срывая спектакли: возмутительно бойкотировали репетиции, намеренно играли безжизненно и без блеска, «теряли» свои костюмы. Впрочем, публика была более благосклонна, особенно когда речь шла об облегченных работах Новерра – с роскошными декорациями и продолжительными эпизодами с затейливыми танцами в благородном стиле, в обрамлении пантомим с простеньким сюжетом. Многие балеты Новерра основывались на темах комических опер или же в них действовали всем знакомые нимфы и фавны, купидоны, танцующие цветы, пастушки – привычные персонажи, обожаемые парижской публикой.
Предсказуемо спорными стали «Горации» и «Медея и Ясон». Одни осмеливались утверждать, что пантомимы Новерра слишком эффектны и возбуждают сильные страсти, другие беспокоились о том, что его балеты угрожают подрывом высокой французской культуры, перекладывая такие культовые тексты, как «Гораций» Корнеля, на унизительный язык жестикуляции или опуская изящные французские манеры до уровня грубого действия. Немецкий критик Иоганн Якоб Энгель, высказываясь по другому поводу, скептически отмечал, что Новерр попытался выразить фразу «Пусть земля поглотит Рим!», поставив на сцене женщину, которая решительно указывала на задник, предположительно обозначавший Рим. Затем, двигаясь чрезвычайно энергично, она «внезапно раскрыла – нет, не чудовищную пасть, а свой собственный ротик, и несколько раз подняла к нему сжатый кулак, как будто хотела проглотить его целиком». Другой критик многозначительно указывал: «Мне неприятно смотреть, как дети Ясона, которым во время танца их танцующая мать перерезает горло, умирают в такт музыки в ритме наносимых ею ударов»50.
Впрочем, даже подобные сомнения не смогли омрачить повального успеха Новерра у публики: его мастерство композиции, техника сочетания сценических эффектов с танцами, живыми картинами, быстро меняющимися эпизодами пантомимы и солидной порцией церемониальных проходов – всё было обращено непосредственно к французским традициям и пристрастиям, и его балеты восхваляли за пышность и блеск, разнообразие и искусно исполненный замысел. Самое главное, серьезные пантомимы Новерра, даже когда они вызывали резкую критику, превозносились за то, что они подняли балет на новый уровень; они были признаны подтверждением того, что балет способен иметь собственную художественную и изобразительную ценность. Как было отмечено, особое внимание Новерра к пантомиме наделило танец драматическим смыслом, которого прежде он был лишен.
И дело не в том, что французы приняли обычную для итальянцев отдельную балетную интерлюдию, – перемены были значительно глубже. За балетами-пантомимами Новерра стояли авторитет и престиж Просвещения, что придавало им значимости, даже если кому-то они казались грубыми или чересчур мелодраматичными. Идеи Новерра, высказанные в его «Письмах», десятки лет воплощавшиеся другими во Франции и по всей Европе, проникли в почву культуры и укоренились в ней. Развитие было настолько бурным, что публике и критикам оставалось только восхищаться переменами. В 1780-м стало ясно, что балет и опера больше не связаны: балет завоевал независимость. Как указал один критик, это был «отдельный труд». Невозможно переоценить значение этих изменений. Балет впервые получил признание важнейшего в мире театра как самодостаточное искусство, способное объясняться без слов – лучше, чем словами51.
Вопреки своему триумфу, Новерр не долго продержался в Опере. Не желая иметь ничего общего с интригами, сплетнями и мощной кликой, засевшей в руководстве театра, он старался оставаться вне распрей, но его замыслы и предложения тонули в бюрократической машине или замалчивались противниками. Однако политика была последней из его проблем. Соперники Новерра выпускали балеты на невыносимо популистские темы (своего рода пантомимические версии комических опер), и балетмейстер понимал, что его серьезные постановки не выдерживают конкуренции с этими поделками, которые нравились публике. Ему не оставалось ничего другого, как презирать (возможно, с примесью ревности) уступки бульварным вкусам, на которые с готовностью шли его коллеги; в то время как его собственные четко выверенные пантомимы, где жесты исполнялись строго синхронно с музыкой, проигрывали в сравнении и казались жесткими и утомительными. И если барон Гримм сокрушался, что Новерр по крайней мере стремился к драматическому смыслу, то кассовые сборы неоднократно доказывали превосходящую популярность легких зрелищ. Озлобленный и подавленный, Новерр написал руководству театра гневное письмо на семнадцати страницах и в 1781 году покинул Оперу.