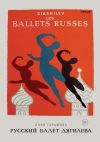Текст книги "История балета. Ангелы Аполлона"
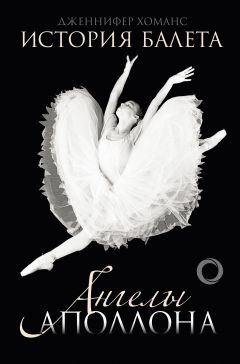
Автор книги: Дженнифер Хоманс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Талант и учеба, не говоря уже о честолюбии, казалось, гарантировали Новерру заслуженный карьерный путь в престижном театре. Но этого не произошло. В 1743 году Жан Монне, новый директор Оперы Комик, нанял Дюпре собрать балетную труппу и ставить балеты. Монне хотел создать респектабельный театр с самыми талантливыми художниками и пригласил также композитора Жана-Филиппа Рамо и живописца и декоратора Франсуа Буше. Дюпре, в свою очередь, привел Мари Салле и одного из своих учеников, 16-летнего Новерра. Так что, несмотря на то что высоким образцам благородного стиля его учил один из самых почитаемых исполнителей, свою карьеру Новерр начал рядом с Мари Салле в народных театрах и на ярмарках. И хотя Салле была лет на 20 старше Новерра, они быстро подружились, а впоследствии он поддерживал ее и представлял образцом экспрессивного танца.
То, что Новерр начал в «Опере Комик», тем не менее, подвело его к теме, сопровождавшей его в течение всей жизни и принесшей разочарования и страдания. Парижская опера оставалась непререкаемой вершиной искусств, Новерра туда тянуло, и с этим ничего нельзя было поделать. Это был вопрос престижа, а также возможностей и ресурсов: Опера по-прежнему была единственным парижским театром, где было дозволено ставить лирические трагедии и оперы-балеты. Новерр очень старался получить там место: в 1750-х, заработав за рубежом и в провинциях некоторую репутацию, он выдвинул свою кандидатуру на пост балетмейстера Оперы. Но даже поддержка мадам де Помпадур, влиятельной (умной, просвещенной и утонченной) фаворитки Людовика XV, не смогла преодолеть царившие там нравы и интриги: Новерр получил унизительный отказ, место было отдано менее талантливому, но «своему» кандидату. Как позднее желчно заметил один современник, «если и есть кто-то, способный вытащить нас из детства, в которое мы впали в области балета, то это такой человек, как Новерр. Опера должна охранять и достойно оплачивать такой талант, но именно по этой причине они ничего подобного не сделают»25.
Первый настоящий прорыв Новерра связан с Лондоном. В 1755 году актер и постановщик Дэвид Гаррик пригласил его поставить балет на сцене «Друри-Лейна». Их объединяло схожее происхождение. Как и у Новерра, семья Гаррика была не театральной: он вырос в буржуазном доме потомков французского протестанта. Образованный и прекрасно знающий особенности своего сословия, он переживал, что выбором профессии опозорит уважаемое семейство: в то время большинство лондонских театров располагалось в глухих темных переулках среди борделей и прочих заведений сомнительной репутации. Подхватив театральное дело после Уивера и Стила, он задался целью спасти театр, очистить его и заставить уважать. Как и они, он верил, что театр может быть нравственным и полезным для отражения свобод английской политической системы, был образцовым семьянином и призывал своих актеров и актрис следовать его примеру.
Гаррик с успехом закрепил положение шекспировской драмы на вершине театрального искусства, доказав, что она – национальное достояние. Чтобы привлечь публику, он перемежал популярные ярмарочные жанры серьезными пьесами, в его театре ставились пантомимы, клоунады, сценки в духе commedia dell’arte. Для воспитания у зрителя внимания и подобающего поведения, он затемнил зрительный зал и убрал зрительские кресла со сцены. Сам Гаррик был притягательным актером и мастером пантомимы, знаменитым своими лепными чертами лица и виртуозной способностью «надевать» и моментально менять «маски» – придавать лицу выражение любви, ненависти, ужаса. Но главное, он не использовал традиционную возбужденную и пафосную декламацию, предпочитая более простую и искреннюю манеру, которая проясняла текст и была обращена непосредственно к зрителю, минуя все классовые условности.
Новерр приехал, чтобы поставить свой самый показательный балет «Китайские праздники», созданный по китайским мотивам (в то время все китайское было в моде). Он с большим успехом прошел на ярмарке Сен-Жермен в Париже. С роскошными декорациями Буше и большим количеством танцовщиков, постановка была полна дорогостоящих визуальных эффектов, как, например, сцена, где расставленные в восемь рядов «китайцы» изображали океанские волны, покачиваясь и подскакивая. Впрочем, время для поездки Новерра было не самым подходящим: когда он прибыл в Лондон в 1756 году, напряженные международные отношения сопровождались преждевременными слухами о французском вторжении, и Гаррик подвергся суровой критике за приглашение «вражеской» труппы. Несмотря на все усилия (он поднялся на сцену и попытался успокоить свистящую публику, уверяя, что Новерр – швейцарец), зал взорвался, агрессивность зрителей нарастала, и балет был снят. Новерр был вынужден скрыться. Однако если встреча Новерра с английской публикой оказалась преждевременной, то в отношениях с Гарриком этот эпизод стал началом крепкой дружбы. Когда на следующий год Новерр приехал, но неожиданно заболел и не мог работать, Гаррик любезно пригласил его к себе выздоравливать. Укрывшись во внушительной библиотеке Гаррика, где было полно книг по пантомиме, Новерр начал писать свои «Письма о танце и балетах». Позднее он признавался в том, что великий актер оказал огромное влияние на его работу, заявив, что Гаррик сделал для актерского мастерства то, что он сам надеялся сделать для танца.
Впрочем, когда Новерр сочинял «Письма», его мысли были не только в Лондоне, но и в Париже. К середине столетия балет во французской столице приблизился к своего рода кризису. Мари Салле и ее поколение ушли, и танец, казалось, начал скатываться к пустой и бессмысленной виртуозности. Артисты и критики принялись сурово обличать то, что они считали в балете трюками и фальшью. Выражение «как мастер танца» стало привычным обозначением всего ложного и упаднического. Эта волна критики возникла не из ниоткуда: она стала следствием обширных перемен в культуре, которые несло французское Просвещение. Новое поколение французских художников и писателей, в смятении наблюдавших, как классическая культура Франции XVII века клонится к закату, находились в глубоком противоречии с общественными устоями своего времени. Но идеи Просвещения выражались не только в критике принципов отжившей системы, но и в заботе о формах, видимости и внешности, включая то, как люди одевались, двигались и танцевали. Политика, а также искусство, мода, театр, опера и балет стали предметом полемических и аналитических заметок и обсуждений, и неслучайно многие из посвященных танцу статей вошли в авторитетную «Энциклопедию», которую Дидро и Д’Аламбер составляли с 1751 по 1780 год.
В своих «Письмах» Новерр признал, что обязан Дидро, который подробно написал о плачевном состоянии французского театра, считая его «деревянным» и чрезвычайно формальным. Он терпеть не мог то, как актеры принимают позы, прихорашиваются на авансцене (где освещение лучше) и произносят набор бравурных речей только для того, чтобы потом, к всеобщему недоумению, выпасть из образа и начать бесцельно бродить по сцене. Дидро хотел развивать другой театр – основанный на непрерывном действии, с драматическими сценами и сильной пантомимой. Он настаивал на том, что актеры должны снять маски и говорить друг с другом (не в зал) и, по примеру Гаррика, освободиться от общепринятых устаревших правил стилизованной декламации. Дидро не был одинок и во взглядах на театральный костюм: он и его единомышленники заявляли, что костюм должен стать более реалистичным и соответствовать персонажу, а не социальному статусу: пейзане не одеваются в шелка. В 1750-х эти идеи нашли отклик в театральных кругах. В 1753 году мадам Фавар в Комеди Итальен, сняв пышный наряд и украшения, играла деревенскую девушку в простом крестьянском платье, а двумя годами позже трагическая актриса мадемуазель Клерон, подхватив ее начинание, вышла на сцену без кринолина.
Если проблема драматического театра состояла в том, что актеры произносили текст неестественно, то проблемой танца было то (и с этим все были согласны), что он не выражал вообще ничего. Либреттист и писатель Луи де Каюзак (работал с Рамо) жаловался на то, что балет достиг своего предела: Салле была экспрессивна, но ее последовательницы – пусть их движения отточены, но они скучны и принижают искусство своими бессмысленными трюками. Дидро, говоря о балете, терял терпение: «Я хочу, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что все эти танцы, такие, как менуэт, паспье, ригодон, – означают… Вот мужчина несет себя с бесконечной грацией, каждое его движение источает легкость, шарм и благородство, но что он изображает? Это не пение, это solfège». Жан-Жак Руссо, сам сочинявший оперы и балеты в Париже в 1740-х и начале 1750-х, позднее решительно изменил свои взгляды на искусство, которое, по его мнению, служило ярким примером того, как общество «сковывает» человека, разрушая его природную доброту ложными светскими манерами:
Будь я танцмейстером, я бы не исполнял проделки Марселя, которые хороши только в стране, где он ими занимается. Вместо того чтобы вечно донимать моего ученика прыжками, я бы привел его к подножию скалы. Там я показал бы ему, в какую позицию встать, как держать корпус и голову, какие движения сделать, теперь как поставить ногу, теперь руку, чтобы легко скользить по круче, по грубой неровной тропинке, с выступа на выступ, карабкаясь вверх и спускаясь вниз. Я бы заставил его подражать скорее горному козлу, чем танцовщику Оперы26.
Кроме того, Руссо не выносил обыкновения исполнять балет посреди оперы. Балетные вставки, сетовал он, прерывают развитие сюжета и разрушают драматический эффект. Поддерживая это мнение, барон Гримм высказывал свои опасения по поводу того, что балет поглощает французскую оперу: «Французская опера превратилась в спектакль, где все, что есть доброго и плохого в персонажах, сводится к танцу». Хуже того, танцы «бесцветны» и лишены смысла, чуть ли не набор «академических» экзерсисов. Со всей свойственной ему категоричностью Руссо делает вывод: «Танцы, поставленные исключительно ради танца, и балеты, состоящие из таких танцев, должны быть изгнаны из лирического театра»27.
Что-то случилось: к концу XVIII века классический балет – форма искусства, когда-то вызывавшая почитание и даже благоговение, пропитанная престижем монархии и le grand siècle, – стал восприниматься как нечто бессодержательное и бессмысленное, как некий танец, которому мало кто верил и от которого многие вдруг отказались.
Такова была общая атмосфера, когда Новерр писал свои «Письма». Он хотел изменить направление развития балетного искусства, отойти от ищущей банальных развлечений аристократии и направить балет к трагедии, нравственным дилеммам, изучению человеческой души. Недостаточно, указывал он, выполнять красивые движения на фоне роскошных декораций и привлекающих взгляд костюмов. Танцовщики должны еще «говорить» с душой зрителя и вызывать у публики слезы. Балет должен стать «портретом человечества», взяв за предмет изображения человека и правду. Как сказал (по другому поводу) немецкий критик и драматург Готхольд Эфраим Лессинг (восхищавшийся Новерром), «если помпезность и этикет делают из людей машины, то задача поэта – вновь сделать людей из этих машин»28.
К этому вел только один путь. Танец, говорил Новерр, должен рассказывать историю – не с помощью слов, арий или речитатива, а сам по себе, своими движениями. При этом под «историей» он понимал вовсе не комические сценки или легкие развлекательные интерлюдии, он хотел создавать мрачные и серьезные балеты об инцесте, убийствах, предательствах – и позднее действительно ставил балеты о Ясоне и Медее, о гибели Геракла и Агамемнона, об Альцесте и Ифигении, о битве между Горациями и Куриациями. Суть была не в том, чтобы изменить (или хотя бы попытаться) элегантные па и позы благородного стиля. Они должны были остаться без изменений. Реформировать балет нужно было в другом – в пантомиме. Новерр стремился создать новый вид балета, в котором сочетание пантомимы, танца и музыки (только не речи или вокала) составляло бы напряженное и последовательное драматическое действие – балет-действие (ballet d’action)29.
Как и Уивер, Новерр осторожно указывал на то, что пантомима – это не «низкие и банальные» жесты, характерные для итальянских шутов, не «фальшивые и лживые» жесты, которые оттачиваются перед зеркалом. Пантомима, о которой он говорит, не имеет ничего общего с изящными придворными формами и обращена непосредственно к человеку. Пантомима в его понимании должна стать «вторым голосом», примитивным и страстным «зовом природы», который открывал бы самые глубокие и сокровенные человеческие чувства. Слова, указывал он, часто лгут или служат маской, скрывая истинные чувства человека. Тело, напротив, лгать не может: когда человек сталкивается с мучительной проблемой, мускулы инстинктивно реагируют, придавая телу позу, которая отражает страдание с большей точностью и драматизмом, чем могут выразить слова30.
Однако была одна проблема. Пантомима не способна рассказать сложную историю. Она не может выразить, например, прошлое или будущее – как танцору объяснить жестами, что в прошлом году его мать убила отца? И вслед за «новыми» XVII века Новерр утверждает, что балеты вовсе не должны походить на пьесы, – они скорее должны напоминать живописные полотна. Единственный способ рассказать историю – создать последовательную череду «живых картин» по принципу триптиха. Поэтому Новерр усердно изучал живопись и архитектуру и применял в своих балетах законы перспективы, пропорций и освещения. Он распределил своих танцовщиков по росту, от низких к высоким, выстраивая их движение от авансцены в глубь сцены, к далекому горизонту, и тщательно вычерчивал схемы освещения и светотени на сцене. Более того, он настаивал на том, чтобы танцовщики в таких «картинах» были живыми людьми из плоти и крови, а не милыми украшениями, выстроенными по линейке симметричными рядами. У каждого должна быть своя роль, свои жесты, позы и реалистичное изображение в момент действия. В таких живописных картинах танцовщики, перед тем как начать двигаться, часто застывали в «моментальном снимке», и Новерр даже думал ввести в балет паузы, чтобы сосредоточить внимание зрителя на «всех деталях» этих «полотен»31.
Идея была не нова: картины явно фигурируют в размышлениях Дидро о новом драматическом театре, парижские юристы тоже стали принимать эффектные позы, чтобы усилить впечатление, представляя свои аргументы. Убедительность этого приема не прошла незамеченной и в высшем свете: когда в 1770 году дофин сочетался браком с Марией-Антуанеттой, празднование включало отдельные эпизоды, где актеры застывали в отрепетированных картинных позах, призванных подчеркнуть символическое значение момента. Это вошло в моду, и в конце XVIII века от Парижа до Неаполя в салонах было принято (особенно среди женщин) застывать в «живых картинах».
Тем не менее идеи Новерра обозначили ошеломительное переосмысление подхода к постановке балета. Во французской опере, как известно, танцы обычно представляли собой дивертисменты или номера, которые выстраивались вокруг определенной темы; симметрия, иерархия и соблюдение правил Фейё навязывали порядок как танцовщикам, так и сцене. Новерр же говорил о ряде статичных картин и групп в беспорядочных позах – с разбросанными руками и ногами и телами, зафиксированными в эффектном положении. Спектакль уже не был ниткой с нанизанными на нее жемчужинами-танцами, а превращался в ряд отдельных, но связанных между собой повествовательных картин, следующих (как слайд-шоу) на сцене одна за другой.
Мало того, Новерр захотел изменить внешность танцовщиков. Словно актер высокой драмы, он патетически восклицал:
Дети Терпсихоры… оставьте эти маски, ущербную имитацию природы, они уродуют ваши лица, они заслоняют, прямо говоря, вашу душу и лишают вас самых необходимых средств самовыражения; избавьтесь от этих огромных париков и гигантских причесок, что искажают пропорции головы и тела; обходитесь без этих тесных модных нижних юбок, которые лишают движение очарования, портят элегантные позиции и уничтожают красоту корпуса в его разнообразных позах32.
Маски, парики, нижние юбки, модные прически – эти давние и сбивавшие с толку символы высокого придворного этикета – должны были уйти или хотя бы уменьшиться до легко управляемых размеров. Смысл был в том, чтобы освободиться от «волшебных» эффектов и фальши – вместо них Новерр хотел открыть людям мир психологической драмы. Поэтому позже он настаивал (вслед за Гарриком) на том, что театр должен быть мрачным и спокойным и что публика должна сидеть на точно рассчитанном расстоянии от сцены, чтобы лучше прочувствовать визуальную композицию. Кроме того, закулисная часть должна быть скрыта от зрителя, а декорации должны меняться тихо и незаметно – это явно относится к обычаю (бытовавшему в Париже вплоть до последних десятилетий XVIII века), когда главный по сцене громким свистом подавал сигнал к смене декораций и рабочие шумно готовили и устанавливали их при полностью поднятом занавесе.
Как Дидро и его сторонники, Новерр надеялся сорвать вековую социальную облицовку и заново найти скрытого под ней естественного человека. Он жаждал сбросить все покровы и маски, освободить человека от устаревших социальных и художественных ограничений. Действительно, у ballet d’action было много общего с утопической идеей возврата к первобытному миру и создания примитивного и универсального языка, на котором можно было бы говорить со всеми – от беднейшего крестьянина до короля. Подозревая французский язык в развращенности и лживости (один критик назвал его «предательским»), многие философы считали пантомиму ясной и абсолютно прозрачной формой коммуникации. Как позднее сказал Луи-Себастьен Мерсье, жест «чист, в нем нет двойного смысла, он никогда не лжет»33.
Главная идея заключалась не только в том, чтобы оживить искусство, но и в том, чтобы создать добродетельное государство, в котором фальшь и лживость отжившей придворной культуры уступили бы место более добропорядочной и честной жизни общества. Таким образом, пантомима стала пробным камнем совокупности социальных и политических вопросов и во второй половине XVIII века оказалась в центре страстной и широкомасштабной дискуссии – этот факт служит настойчивым напоминанием о том, что в то время балет не был отделен (как сегодня) от интеллектуальной жизни, а являлся частью широкого обсуждения будущей судьбы искусства и общества.
Вернемся к Руссо. Как мы видели, говоря о балете, он терял терпение, но пантомима в целом – другое дело. Жест и мимику он считал достойными внимания формами выражения того невинного и добродетельного состояния человека, когда он еще не был развращен обществом, – того самого «зова природы», которым так увлекся Новерр. Впрочем, как Руссо ни стремился прильнуть к блаженным истокам, он прекрасно сознавал ограниченность (в его понимании) откровенно примитивной формы общения. Он говорил, что пантомима передает по-детски невинные потребности, когда человек выражал лишь насущные желания пищи и пристанища. Без слов человеку невозможно ни полностью выразить свои эмоции, ни осознать себя как личность.
Учитывая все это, Руссо представлял себе золотой период развития культуры человечества, когда языка будет достаточно для общения, но недостаточно для лукавства и лицемерия. В этом утопическом мире люди будут жить в окружении музыки, танцев и поэзии; вдали как от жестокостей примитивного существования, так и распадающейся цивилизации они будут добры и нравственны. При этом пантомима настолько интересовала Руссо, что в 1763 году он написал одноактную версию «Пигмалиона» (не исполнялась до 1770 года), включавшую пантомиму, речь и музыку, и где актеры прибегали к жесту в моменты эмоционального подъема, когда должны были хранить молчание.
Дидро был не так уверен. Несмотря на свои безапелляционные рекомендации по поводу нового драматического жанра и актеров, обученных моментально выражать эмоции прямым жестом и речью, в том, что касалось пантомимы, его не оставляло некоторое беспокойство. Действительно, Дидро смущенно помалкивал в стороне (во всяком случае, мысленно) от громкого хора тех, кто слышал в пантомиме недвусмысленный и маскулинный «зов природы». В своей язвительной повести «Племянник Рамо», написанной в 1771 году и не обнародованной при жизни автора, Дидро ведет диалог с племянником великого композитора Жана-Филиппа Рамо – реально существовавшим человеком, композитором-неудачником, который предавался безрассудствам, но был не чужд высоких озарений. Дидро изображает племянника человеком отчаявшимся и сломленным, потерпевшим крах из-за неспособности пойти по следам великого дядюшки и оживить французскую музыку «зовом животной страсти». Племянник ведет беспутный и презренный образ жизни, а устраивается в жизни благодаря своему потрясающему таланту к пантомиме, который и демонстрирует философу. Искусно впав в блаженное состояние, он изображает сцены из опер и из собственной жизни; он льстит и угодничает, становится подобострастным и самодовольным, придавая телу и лицу «позиции», необходимые, как он считает, для получения вожделенных богатств. Дидро пытается его образумить: отказаться от ложных «поз» и начать зарабатывать по-настоящему. Но племянник возражает: общество, говорит он, безжалостно, одни пожирают других с поразительной скоростью, в то время как балерины-куртизанки типа мадемуазель Дешам мстят богатеям. Ему тоже надо ввязаться в драку или предаться забвению. Поэтому он «скачет, взлетает вверх, извивается, ползает, проводит жизнь в праздных разговорах и исполняет позиции» и может похвастаться такой ловкостью, с которой не сравнится «даже Новерр». Дидро рассержен и восклицает: «Все дело в том, что ты слабоволен, обжорлив, коварен, мутная душа <…>
Несомненно, за опыт мирской жизни нужно платить, но ты не понимаешь, какую цену платишь за жертву, которую приносишь, чтобы заполучить его. Ты танцуешь, танцевал и будешь танцевать свою гнусную пантомиму». Таким образом, племянник представляет собой наихудший образец продажного, рвущегося наверх сословия, нравственно опустошенного социальными играми, он погружен в самые мрачные глубины, куда только мог бы пасть мольеровский bourgeois gentilhomme[19]19
Мещанин во дворянстве (англ.)
[Закрыть], своего рода пьющее, отчаявшееся, прискорбно своекорыстное социальное животное. Он отказался от всего, что действительно важно. При этом искренность, с которой он говорит об этом, свидетельствует о честности, до которой далеко даже самому твердокаменному из философов – последователей Дидро и людей высоких принципов. К концу повести непонятно, кто кому преподносит урок: возможно, затейливые пантомимы – это все, что у нас есть, полагает автор34.
Дидро считал «Племянника Рамо» одним из своих «безумных» сочинений, однако повесть показала, что за самыми, казалось бы, громогласными и самонадеянными заявлениями о пантомиме и «естественном человеке» скрывалось порой чувство отчаяния и тягостного осознания того, какими всеобъемлющими и неотвратимыми могут быть социальные условности. В представлении Дидро, пантомима, несовершенства французской музыки и тягостное разрушение общества были завязаны в тугой узел. Казалось, невозможно разделить спутанные нити, а тем более выпутаться из них самому. Его «Племянник Рамо» был сложным размышлением о разложении общества изнутри, о поколении людей и художников, попавших в ловушку цинизма: племянник никогда не вдохнет новую жизнь во французскую музыку, тем более не выберется из «пантомим», управляющих его жизнью35.
Однако самые поразительные мнения по поводу пантомимы исходили от тех, кто в ней сомневался и больше всех ей противодействовал. В пространной статье, опубликованной в Encyclopédie, Жан-Франсуа Мармонтель (протеже Вольтера и замечательный либреттист) говорит, что пантомима – морально опасная форма чистой страсти, которая соблазняет публику и ввергает ее в эмоциональное состояние, неподвластное разуму и критическому мышлению. Римляне, указывал он, пали жертвой пантомимы; грубые и невосприимчивые, они предпочли чувственные театральные формы тем, что воспитывали умеренность, разумность и мудрость. Из воспитанных, умеющих вести себя в обществе людей пантомима делала животных. Ее примитивные жесты, гневно утверждал другой наблюдатель, раздражают своей грубостью и оскорбляют сдержанные и элегантные манеры французской элиты.
Ballet d’action все прояснил и расставил по своим местам: он означал гораздо больше, чем новый вид театрального искусства. Сосредоточившись на пантомиме, Новерр проник в суть самой важной идеи французского Просвещения и связал с ней будущее балета. Это был смелый замысел: если пантомима сможет пробиться сквозь установленные и удушающие социальные условности, тянущие французское общество ко дну, то ballet d’action может стать выдающимся искусством нового современного человека.
Однако при всей одержимости Новерра пантомимой нельзя не заметить одного противоречия, от которого он старательно уходит: балет – искусство придворное, и его формы неразрывно связаны с этикетом, которого иначе Новерр избегал бы. Поразителен и тот факт, что в своих теоретических работах (а потом и балетах) Новерр страстно разоблачает фальшивые и бессмысленные каноны балета и в то же время неизменно им привержен. В своих постановках Новерр использовал балетные па и позы и упорно защищал досконально им изученный высокий благородный стиль. Пантомима стала «аварийным люком»: за счет жеста Новерр мог реформировать балет, не вникая в запутанный вопрос – как изъять «двор» из па и поз, созданных королевским воображением.
Это вполне объяснимо. В конце концов и сам Новерр был придворным – не мог им не быть. Его профессиональная жизнь (по меньшей мере за пределами Лондона) зависела от благорасположения и покровительства принцев, королей, королев и императриц, он жил среди париков, шелков и масок, хоть и выступал против них. И эта раздвоенность оставляла отпечаток буквально на всем, что он делал. Поэтому, как Дидро и Руссо, он отбросил лощеный этикет французской знати и был знаменит своими грубыми манерами и вспыльчивостью, но при этом мог быть приятным и очаровательным, и на портретах мы видим безукоризненно холеного придворного. В этом он вряд ли был одинок: Дидро был многословен, жадно ел, оскорблял высокое общество вспышками неуемного восторга, но при этом, когда художник Луи-Мишель ван Лоо написал его за столом со всклокоченными волосами, жаловался, что на портрете он не в парике. А Руссо, в начале 1750-х картинно отрекшись от парижского общества и отказавшись от украшений – часов, кружев, белых чулок, – до конца жизни мучительно переживал по поводу своей внешности.
Были и другие сложности. В Париже, где его «Письма» повсюду читались и вызывали восхищение, Новерр считался авангардистом балетного искусства, но зарубежные дворы приглашали его как французского балетмейстера, и там его положение нередко зависело от искусства постановки традиционного балетного великолепия. И когда Новерр выезжал в Штутгарт, Вену и Милан, он вез с собой французских танцовщиков и старался поддерживать их форму в серьезном стиле, даже когда ставил новые балеты-пантомимы. К тому же на протяжении всей творческой жизни он предпочитал работать с французским декоратором и художником по костюмам Луи-Рене Боке, а тот учился у Буше. Его шедевры в стиле рококо считались вершиной парижской моды и, казалось, были полной противоположностью всему, что отстаивал ballet d’action. Таким образом, в удобной последовательности (что было ему очень выгодно) Новерр то представлял аристократический французский стиль, то его критику в духе Просвещения.
В 1760 году, когда впервые были опубликованы его «Письма», Карл-Евгений, герцог Вюртембергский, пригласил Новерра руководить новой балетной труппой, только что созданной при его дворе в Штутгарте. Карл-Евгений был воспитанником Фридриха Великого и входил в когорту германских правителей, чьи дворы в Берлине, Мангейме и Дрездене в XVIII веке стали важнейшими центрами художественной жизни, куда приглашались музыканты и танцовщики со всей Европы. Миловидный, умный, с безупречными манерами, герцог строил пышные дворцы и держал великолепный двор, любил женщин и балет и питал особое пристрастие к французской и итальянской музыке и искусству. Роскошно обновленный им театр вмещал четыре тысячи зрителей, на сцене одновременно могли разместиться шестьсот артистов. Чтобы финансово поддерживать свою блистательную славу, Карл-Евгений безрассудно увеличивал налоги, запускал национальную лотерею, продавал должности, вырубал и продавал леса, в конце концов завладел казной и десять лет (с 1758 по 1768 год) правил без участия сословий, пока не был вынужден им подчиниться. Однако при всей необдуманной налоговой политике герцог собрал первоклассную оперную и балетную труппу.
Он приглашал лучших музыкантов и художников, и Новерр работал с композиторами со всей Европы: австрийцем Флорианом Иоганном Деллером, эльзасцем Жаном-Жозефом Родольфом и (самое поразительное) неаполитанским композитором Никколо Йомелли, которого переманили с престижной должности в римском соборе Св. Петра. Кроме того, к постановкам временно привлекались и хорошо оплачивались такие деятели, как декоратор и новатор Джованни Никколо Сервандони, художник по костюмам Боке (любимец Новерра), парижские танцовщики Гаэтано Вестрис и Жан Доберваль. Сам Новерр был окружен роскошью, ему предоставлялось все возможное: карета и пара лошадей, вино, еда, жилье, фураж для лошадей и целая (все разраставшаяся) балетная труппа (одновременно являвшаяся личным гаремом герцога). Новерр задержался там на семь лет и поставил около двадцати новых балетов. Среди них были бессмысленные придворные феерии, как, например, «Олимпиада», поставленная в 1761 году: портрет Карла-Евгения на сцене, украшенный фигурами муз, Аполлона, Марса и Терпсихоры, взмывал на Парнас в окружении богов. Однако было и несколько ballets d’action, поставленных согласно изложенным в «Письмах» мыслям, включая «Медею и Ясона»36.
Постановка «Медеи и Ясона» была приурочена ко дню рождения Карла-Евгения: празднества включали военный парад, банкеты, шествия, массовые гулянья, фейерверки, конные балеты, дворцовые фонтаны били красным игристым вином. По итальянской традиции балет представлял собой отдельный антракт, предназначенный для развлечения, чтобы оживить серьезное настроение, – он не был дивертисментом, вставленным в ткань оперы, как было принято во французской традиции. Хотя балет «Медея и Ясон» на музыку Родольфа исполнялся как 35-минутная интерлюдия между первым и вторым актами серьезной оперы «Оставленная Дидона», трудно сказать, что он внес оживление или стал легким развлечением. Наоборот, он был напряженным, кровавым и трагическим. Из свидетельств современников известно, что история любви, ревности и мести передавалась ритмичными, размеренными шагами, жестко отмерявшими темп, жесты, свойственные пантомиме, в моменты наивысшего напряжения прерывались танцем, подобным арии, а драматизм подчеркивала статика: например, замирали дети, стоявшие на коленях, умоляя мать сохранить им жизнь, когда она угрожала им поднятым в руке кинжалом. Ломаные линии, сжатые кулаки, сильно согнутые колени и острые углы в локтях добавляли экспрессии. В финальной кровавой сцене Медея появлялась в повозке, запряженной огнедышащими драконами, с умирающим ребенком на руках. Безразличная к его плачу, она вонзала кинжал в сердце второго сына и бросала окровавленное оружие к ногам мужа. Тот поднимал кинжал, закалывал себя и падал в объятия умирающей возлюбленной, и в этот момент темнело небо и рушился дворец.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?