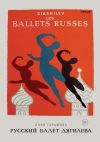Текст книги "История балета. Ангелы Аполлона"
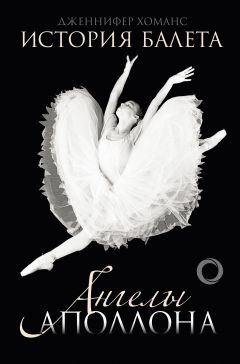
Автор книги: Дженнифер Хоманс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Даже самые одаренные в исполнении благородного стиля танцовщики, казалось, отвернулись от своего жанра. Луи Анри, например, в первые годы столетия учился у Гарделя и видного педагога Жана-Луи Кулона, его будущее казалось блестящим, а преданность стилю – неизменной. В 1806 году Анри сравнил благородный танец с историческим жанром в живописи, отметив, что, если он «первый», то заслуживает наивысшего признания. Критики поспешили объявить его спасителем притесняемого благородного стиля, человеком, чья физическая сила и элегантная легкость («грация в единстве с силой») составляли яркий контраст «обезьяньим» движениям современников. Даже разочарованный Новерр надеялся, что Анри «оживит» умирающий благородный жанр. Но у Анри были другие планы, и вскоре он перешел из Оперы в более популистский театр Порт-Сен-Мартен. Когда Наполеон его закрыл, Анри уехал в Милан. Позже он ненадолго (с 1816-го по 1818-й) вернулся в Париж, но вновь работал на бульварах32.
Другие заняли его место, но и они отступили перед неизбежным. Танцовщик, известный как Альберт, дебютировавший в 1808 году, был (по выражению его коллеги) «совершенным джентльменом» и ориентировался непосредственно на стремительно сокращавшуюся группу зрителей, считавшихся знатоками. Но и он, к отчаянию пуристов, не мог не украшать свой танец многочисленными вращениями и высокими прыжками. Нетрудно понять, почему ролей в благородном стиле становилось все меньше, к тому же над балетмейстерами довлела необходимость пополнять кассу. В 1822 году Гардель поставил балет «Альфред Великий», где Альберт исполнял партию героя, но этот балет долгое время оставался единственным, где танцовщик был нужен для серьезной и яркой роли33.
В том же году Гардель предложил удивительно путаную рукопись для нового балета (который так и не выпустил) под названием «Бал-маскарад». Согласно сценарию, артисты в масках танцовщиков эпохи Людовика XIV (включая Луи Дюпре и Салле) появлялись на балу, смешно ковыляя по сцене и спотыкаясь в своих тяжелых и нелепых старорежимных туфлях и нарядах: та эпоха была уже в прошлом. Однако в последовавшем эпизоде проявилось двойственное отношение Гарделя к этой прошедшей эпохе. Он поставил дикий эротический танец «негра», несуразно наряженного прелестной девушкой. Этот танец («самый сладострастный негритянский танец») включал прыжки, вращения и пируэты, характерные для новой виртуозности. В финале «негр» обнаруживал себя, и настоящая девушка восстанавливала свою репутацию, исполняя танец в хорошем вкусе – в надлежащем и естественном для нее сдержанном стиле. Для Гарделя, бессознательно изобразившего расистские предрассудки своего времени, новая техника была экзотикой и нарушением приличий34.
Три года спустя Гардель поставил танцы в честь нового короля Карла X для оперы «Фарамонд» (1825). Это была (если была) единственная возможность вернуться к танцу в благородном стиле. Но виртуозный танцовщик Антуан Поль исполнял ведущую партию юного воина, поэтому благородные танцы были поручены женщине – мадам Монтесю. Гардель включил забавную сценку, в которой Монтесю напрасно старается научить Поля сдерживать движения, выполнять их изящно и величаво. Но его природная мужественность неудержима, и когда Монтесю в свою очередь пытается его имитировать, то терпит поражение и падает от усталости, а он прыжками пересекает всю сцену, празднуя победу.
Поль был моложе Вестриса, впитал его мастерство и довел физическую виртуозность до новых крайностей. У него было худощавое мускулистое тело с сильными бедрами и икрами, которые легко поднимали его в воздух; благодаря способности парить, как бы застывая в полете, он получил прозвище Воздушный. Его движения были резкими и сильными, он с такой легкостью и энергией кружился в пируэтах, прыгал и исполнял сложные па, что казалось, как раздраженно отмечал критик, сам «не мог уследить», когда касался сцены. Контраст с величавыми размеренными движениями старого благородного стиля вряд ли мог быть ярче, и многие критики не признавали виртуозные прыжки и «вечные невыносимые пируэты» Поля, считая их грубым оскорблением высокой культуры, и беспокоились о том, что «вывихнутые» позиции «новой школы» означают «полный крах истинного танца»35.
Гардель и Милон, сами немало сделавшие для размывания благородного жанра, бросились на его защиту. Прежнее, быстро устаревающее разделение танцев на три различных жанра стало отправной точкой для тех, кто оставался лоялен к принципам иерархии как в искусстве, так и в обществе, и в 1820-х годах в ряде официальных писем и докладов, направленных в Оперу, Гардель и Милон подчеркивали непреходящее значение жанров в балете, с негодованием настаивая на том, что без них хаос и упадок неизбежны. Их аргументы были восприняты властями с сочувствием, и хотя еще несколько лет в формальных целях жанры оставались целы и невредимы, было ясно, что они – не больше, чем проржавевший бюрократический инструмент. Гардель сам заметил, что молодые танцовщики, занимавшиеся серьезным жанром, физически не могут передавать изысканность и сдержанность – традиционные особенности стиля. Танцовщики нового поколения намеренно искажали позы ради эффекта и обладали своеобразной «конвульсивной» энергией, которая мешала выполнять даже самые простые жесты36.
С разложением жанров вышла в тираж и нотация танцев. Система Рауля Фейё, сложившаяся при Людовике XIV, прослужила почти сто лет, но к концу XVIII века, когда Вестрис и другие подтолкнули балет к новым направлениям развития, шаги стали усложняться – они, как писал Новерр, «стали двойными и тройными, стали смешиваться, записывать их очень трудно, еще труднее расшифровать такую запись». Другой танцмейстер, говоря о нотации, отмечал: «Вот уже несколько лет мы наблюдаем корявую хореографию». Действительно, рукописные записи танцев того времени выглядят искаженными значками Фейё, которые теснятся рядом с контурограммами и быстрыми зарисовками на полях. Строгие социальные нормы и пространственные формы благородного стиля, так долго структурировавшие балет, рушились. К концу столетия быстрые зарисовки на полях приняли эстафету, система Фейё вышла из употребления37.
Ставший после революции директором Оперы Боне де Трейши составил памятную записку, в которой настоятельно указывал: новая нотация танца должна быть изобретена немедленно. Иначе, настаивал он, балет никогда не удержится на позиции высокого искусства. Де Трейши предлагал встретиться группе экспертов, чтобы создать новую систему записи танца на основе (как было подчеркнуто) 24-х простейших шагов. Это краткое указание не привело к результату, но свидетельствовало о том, насколько срочно такая система была необходима балетмейстерам и танцовщикам, и в последующие годы многие пытались (и потерпели неудачу) придумать, как зафиксировать новые находки балетного искусства. Депрео попытался примерно в 1815 году, но в результате получился набор (он не был опубликован) слишком сложных диаграмм и повторов, указывающих на неустойчивость рисунка танца. Позднее Август Бурнонвиль и Артур Сен-Леон тоже предприняли попытку и тоже неудачно (Сен-Леон опубликовал свою систему в 1852 году, но ею редко пользовались), из их закорючек, пространных пояснений и поправок видно, что они столкнулись с почти неразрешимой задачей. Вестрис запустил цепную реакцию, и шаги менялись и трансформировались чуть ли не каждый день38.
Хотя балетмейстеры потерпели неудачу в попытке найти способ нотации танца, оставив нам лишь несколько записей своих постановок, о том, как занимались танцовщики, кое-что известно. Ученик Вестриса Август Бурнонвиль писал отцу подробные письма, в которых пространно и детально описывал то, что называл «методом Вестриса» в танце; а в 1849 году в собственном балете «Консерватория» он поставил танец под названием «Школа танцев», основанный на уроках Вестриса (поразительно, но этот танец сохранился и все еще исполняется в наши дни). Ценно и то, что балетмейстер Мишель Сен-Леон (отец Артура), работавший в Парижской опере с 1803 по 1817 год, а затем с 1819-го по 1822-й и позднее преподававший в Штутгарте, вел рабочие записные книжки, в которых от руки тщательно записывал уроки и танцы (поясняя их контурограммами на полях), часто отмечая музыкальный аккомпанемент, – например, танец под названием «Антре, сочинение месье Альбера» был поставлен на популярный мотив «Боже, храни короля»39.
Письма и танцы Бурнонвиля вместе с па Сен-Леона, фрагментами и набросками других балетмейстеров того времени позволяют воссоздать классы и комбинации прошлого, иногда с музыкальным сопровождением. Сегодня можно станцевать эти старинные па, опробовать их на собственном теле – и ощутить, как они созданы и каково их исполнять. Собранные вместе, эти источники открывают принципы и подход к практическим занятиям новой возникающей школы40.
Стиль danse noble ставил во главу угла сдержанность и грациозность, а новая школа Вестриса вывернула ступни на 180 градусов. При этом стопам придавалось особое значение (что стало возможным благодаря новым туфлям в греческом стиле – мягким, на плоской подошве, с завязками на лодыжке), и танцовщики теперь могли пружинить на мысках и высоко подпрыгивать с полностью вытянутыми ногами и ступнями. Корпус и руки разворачивались во множестве разнообразных новых позиций, придававших телу экспрессивность. Чтобы помочь танцовщикам добиться нового эффекта, Вестрис придумал уроки, разбивавшие старые танцы (которые по традиции репетировались целиком) на отдельные шаги – строительные блоки, – занимаясь ими в порядке возрастания физической сложности исполнения. Ключ был в повторении, и танцовщики начинали с движений адажио, переходя затем к пируэтам, малым и большим прыжкам. Шаги разучивались отдельно, а затем исполнялись в комбинациях – от простых ко все более сложным. Fouetté, например, исполняли сначала вперед, затем назад, потом с дополнительной позой в движении, в противоположную сторону, с поворотом, затем двойным и тройным оборотом. Бурнонвиль записал дюжины шагов в каждой категории – к примеру, к пируэту их было 37, досконально распределенных по сложности.
Обычно изнурительные уроки длились три часа; шаги и комбинации, разработанные в то время, требовали огромной выносливости: они выполнялись в плотной непрерывной последовательности, почти без переходов, не позволяя танцовщику передохнуть или перевести дыхание. От учеников обычно требовалось несколько минут стоять на одной ноге, как фламинго, ни на что не опираясь, в то время как свободная нога выписывала в воздухе сложные фигуры. Мало того, многие упражнения выполнялись на полупальцах, при том что танцовщик стоял на мяче высотой в фут – таков был испытательный тест на баланс для любого исполнителя. Вращения и многочисленные пируэты составляли основу каждого урока. Трудные и неудобные в исполнении, они редко заканчивались точной устойчивой стойкой на двух ногах (Вестрис запрещал любые «провинциальные переминания с ноги на ногу»), и танцовщику приходилось удерживаться на одной ноге, контролируя силу вращения чисто физическим усилием, грациозно вытягивая другую ногу вперед или в сторону, или возвращая тело в исходное положение (подобно автомобилю, тормозящему в обратном вращению направлении). Прыжки были не проще, с быстрыми заносками (по 6–8 скрещений ног в воздухе) и многократными поворотами высоко над полом, что и сегодня поразило бы самого пресыщенного зрителя41.
Ученики издавна упражнялись в балансировке, опираясь на руку педагога, спинку стула или свисающий с потолка канат; в некоторых танцевальных классах для упора горизонтально к стене были прикреплены деревянные палки (как принято сегодня). Но в 1820-х палка использовалась и в более мучительных целях: танцовщики стали привязывать к ней стопы и ноги, чтобы растянуть бедренные мышцы и укрепить подъем стопы. Как и спорные приспособления для выворотности бедер и стоп, палка часто ассоциировалась с местом перенапряжения и боли. (Один балетмейстер весело советовал давать детям сладости и ставить их в устройство для выворотности, пока не будет достигнута нужная позиция.) Бурнонвиль сам использовал эти «адские устройства», когда учился в Париже у Вестриса, хотя позже жаловался, что они деформируют и уродуют тело, и предостерегал собственных учеников, которые, вместо того чтобы тяжким трудом укреплять тело и овладевать мышцами, предпочитали «приковывать» себя к палке, «как машины»42.
Однако большинство танцовщиков начинали заниматься с получасовых упражнений у палки (станка), повторяя их затем в центре зала без опоры – и зачастую на полупальцах. Альбер и другие начинали день с распорядка, от которого сегодняшние танцовщики упали бы в обморок: 48 pliés, 128 grands battements, 96 petits battements glissés, 128 ronds de jambes sur terre и 128 en l’air, а в конце – 128 petits battements sur le cou-de-pied. Одним из последствий такой запредельной нагрузки стало резкое увеличение числа травм. Новерр еще в 1760-х сетовал на возрастающую нагрузку в балете, однако описание Бурнонвилем мучений, связанных с необходимостью поддерживать форму, и способов восстановления сил после физического истощения служит наглядным примером тех крайностей, к которым стремились танцовщики (особенно мужчины).
Впрочем, хотя методы Вестриса и демонстрировали отход от сдержанности в преподавании, важно отметить, что он не просто разорвал все связи со старой школой. Его метод стал возможным и получил практическое воплощение благодаря тому, что в нем все па и характер движения всех трех жанров собраны и слиты в единый стиль, единую технику. Благородный стиль не исчез, а превратился в один из элементов большого целого – это был элемент adagio по системе Вестриса; полухарактерный жанр представлен в ней быстрыми шагами и замысловатыми прыжками, а комический стиль – более атлетическими прыжками. Объединив жанры и заявив, что воплотить их способен один танцовщик, Вестрис основательно раздвинул рамки выразительных средств. Мало того, новый танцовщик типа «все в одном» больше не был связан с идеей жанрового и сословного различия в балете. Он больше не воплощал социальное начало – он был чистым листом, а его тело стало бесконечно более послушным и гибким. И оно могло выразить все, что он хотел.
Было ли это прогрессом? Можно было бы подумать и так, ведь новая школа придала танцу мощный толчок в том направлении, которое мы сегодня видим. Но при этом важно помнить, что в то время мнения решительно разделились. «Чистый лист» многими был воспринят как утрата: ассоциации с социальной и политической принадлежностью в зависимости от того, благородный танцовщик или комический, ушли в прошлое, новые исполнители казались плоскими и пустыми, а их потрясающее техническое мастерство – лишенным драматизма и содержательности. Более того, такие танцовщики часто считались нелепыми, а их движения «мучительными», и хотя некоторые «перегибы», включенные в танец, были известны в бульварных театрах, они выглядели иначе и означали нечто иное на сцене Оперы в исполнении танцовщиков с натренированными телами. Чем виртуознее и атлетичнее были исполнители, тем больше казалось, что они оскверняют и извращают себя и свое искусство. Вестрис, Луи-Антуан Дюпор и Поль, возможно, и покорили зрителя, но, практически исказив и принизив благородный стиль, они сбросили и себя, и мужчину-танцовщика с трона, который тот так долго занимал.
Неслучайно в это время танцовщики стали подозрительно напоминать денди – элегантных и декадентских потомков incroyables времен Директории, ставших отличительной особенностью парижского общества в первые годы после поражения Наполеона при Ватерлоо. Денди застенчиво отказались от спокойных черных костюмов и панталон буржуазии и всячески украшали свои наряды безделушками прежней аристократии (включая «заимствованные икры» – мягкие накладки, в которые дети-проказники тыкали булавками). Однако в их одежде не было и намека на легкомыслие, наоборот, денди обожали порядок и тщательно следили за деталями внешности. В стремлении отличаться от безвкусных буржуа они считали одежду и манеры аристократов ключевым различительным признаком. Танцовщики, чьи костюмы всегда шились по последней моде, тоже отказались от вездесущих темных штанов и костюмов, которые теперь носили их зрители, и стали выступать в модных чулках и жилетах. Решение придерживаться моды прошлых времен отчасти было совершенно практическим (в брюках трудно прыгать), но в результате танцовщики стали выглядеть, как неблагонадежные аристократы. И для полноты картины парижские денди выражали свое презрение к буржуазной умеренности по отношению к балету.
Результат был как минимум предсказуем. К 1830-м годам мужчин-танцовщиков поносили как женоподобных бесстыдников, а в 1840-х прогнали с парижской сцены. Вестриса и других вспоминали как «смехотворных героев», а их подвиги в лучшем случае были забыты. И это было не мимолетное веяние: почти все следующее столетие танцовщик будет восприниматься во Франции как нечто неприличное, чему не место в публичных театрах, а мужские партии будут исполнять женщины en travesti. Mужской танец сошел на нет и не возродится вплоть до начала XX века. Новая школа Вестриса обошлась без danseur noble и заложила основы современной балетной техники, однако танцовщики, которые ее придумали, сами выкопали себе могилу: без danseur noble мужчинам просто не было места во французском балете43.
Стоит остановиться и рассмотреть значение столь разительной перемены. Сегодня танцовщики воспринимают школу Вестриса как само собой разумеющееся: па этой школы, экзерсисы и формы составляют то, что мы, собственно, считаем классическим балетом. К тому же ее техника и стиль движения – сама классическая форма – возникли в момент явно (даже вызывающе) полярный классике. До сих пор в балете существует сильное напряжение между классической чистотой и вульгарным искажением, между невозмутимостью и преувеличением. Благодаря Вестрису и новой школе танцовщик ощущает сильное давление крайностей, заложенных в балетной технике: физическое тяготение к виртуозности борется с ограничениями прежнего благородного образа.
Действительно, это было время разрыва и перелома, впервые давшее балету ощущение собственной истории. Раньше было долгое, вневременное, изысканное в своем благородстве созидание. Теперь возникло нечто иное, и к старым балетам Новерра и Гарделя стали относиться как к «классике» содержания и формы, в то время как новая школа означала разрыв с прошлым – как на эстетическом, так и на физическом уровне. Можно даже сказать, что дискуссии XVII века между «старыми» и «новыми» прошли полный круг – не потому, что пришли к разрешению, а потому, что были усвоены и вошли составной частью в саму структуру искусства. Отныне борьба между прошлым и современным, отвечающим нынешним вкусам стилем уже будет не абстрактной дискуссией – она войдет в тела танцовщиков. Вестрис и танцовщики 1820-х, возможно, дискредитировали себя, но разработанная ими техника выжила и в конечном счете стала принадлежать нам.
Если вследствие Французской революции мужчины изменили балет, то женщины его сохранили. Они не были неистовыми или атлетичными, они были выразительны и очаровательны. Те из них, кто пытался попробовать свои силы в трюках и эффектных приемах, которые использовали мужчины, были отвергнуты как бесстыдницы, а самые талантливые и целеустремленные балерины устремили свои взоры к более мягкому и устойчивому искусству пантомимы. Эмилия Биготтини, идя по стопам Мари Салле, в 1813 году задала тон, с огромным успехом исполнив главную роль в новом балете Милона «Нина, или Сумасшедшая от любви». Во многом благодаря ее живой игре балет стал ведущим в репертуаре Оперы, и урок пантомимы (как следствие) стал постоянным в балетном классе при Опере, вдохновляя юных танцовщиц следовать ее примеру44.
Какие струны задели «Нина» и Биготтини? Шаблонный сюжет был заимствован из старой комической оперы. Нина, дочь графа, влюблена в простого воздыхателя по имени Жерней, который ухаживает за ней в прелестной сельской сцене: дарит цветы, пододвигает свой стул к ней, берет за руку и тому подобное. Ее отец согласен на их союз, но когда приезжает губернатор и предлагает выдать Нину за своего сына, он не может отказать. Нина опечалена, Жерней негодует и в отчаянии бросается в море. Нина ненавидит отца и, уверенная в гибели возлюбленного, теряет рассудок. Без единого слова Биготтини сумела убедить в том, что девушка теряет связь с реальностью. В танце, ставшем предшественником сцены сумасшествия в «Жизели» (1841), она трогательно и нежно повторяет сцену ухаживания возлюбленного.
Исполнительское мастерство Биготтини, проявившееся в этом и в других балетах, несло в себе двоякий смысл. Во-первых, она, казалось, была чуть ли не единственной, кто сохранил традицию умирающего искусства. В отличие от своих партнеров-мужчин, она не увлекалась пустой акробатикой, а придерживалась естественной благородной манеры и пластикой умело передавала самые тонкие человеческие переживания. Как восторженно отмечал критик, Биготтини представляла великую традицию, созданную Новерром, который превратил балет, напоминавший «упражнения в танце», в «драматическое произведение». Еще важнее то, что Биготтини сумела подхватить начинания Мари Салле и еще раз доказала, что женщине подвластно настоящее искусство танца. Представленные ею образы означали гораздо больше, чем одномерные кокетки или Rosière, глубина и эмоциональная выразительность ее исполнения вновь стали подтверждением того, что балеринам доступны драматические возможности роли. В то время как мужчины-танцовщики увлекались захватывающим, но банальным трюкачеством, женщины открывали мир сокровенных тайн и переживаний45.
Проблема, безусловно, заключалась в том, что Биготтини с трудом можно назвать танцовщицей. Она была актрисой пантомимы, и хотя продемонстрировала, что женщина может выдержать драматический характер спектакля, этого она добивалась с помощью мимики и жеста, а не за счет танцевальных па, балетных поз и движений. В этом смысле мастерство Биготтини представляло собой скорее финал, чем начало, и правы были ее поклонники, сожалевшие о том, что она стала олицетворением последнего вздоха старого балета-пантомимы, основой для которого служили сюжет и слово, а не движение или музыка.
Тем не менее мастерство Биготтини ознаменовало собой начало чего-то нового. Потому что идея того, что женщины могут заменить мужчин в главных ролях в балете, что в искусстве они могут занять завидные места, уготованные королям и героям, была настоящим прорывом. Революция сделала свое дело. Во Франции старый danse noble больше не существовал, и для современной балерины путь был открыт. Однако, чтобы полностью выразить все изменения, все то, что революционная эпоха привела в движение, одной актрисы пантомимы недостаточно. Потребуется та, что сумеет собрать осколки ушедшего искусства и наполнить их живым смыслом по-новому. Она должна будет найти новый идеал и новый стиль, не игнорируя прошлого, ей предстоит победить новую школу на ее же поле – овладеть мужской техникой Вестриса и Поля и вернуть балет в лоно высокого искусства с позиций чистой женственности. Пока такой женщины не было, но в 1832 году ее создало воображение романтизма: ею стала Мария Тальони – Сильфида.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!