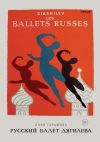Текст книги "История балета. Ангелы Аполлона"
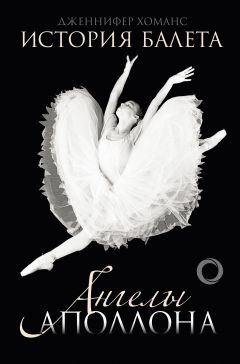
Автор книги: Дженнифер Хоманс
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Это был конец эпохи. В 1780-х Парижская опера резко отвернулась от балетов Новерра. Французская революция 1789 года снизит влияние французской культуры на иностранные дворы, и хотя жизнь постановок Новерра продлится в других местах, со временем она везде сойдет на нет. В 1791 году он с надеждой писал королю Швеции Густаву III: «При Вашем дворе я мог бы вернуть свою юность и свои таланты». Но Густав был убит, прежде чем успел ответить. Дворы и города, ранее поддерживавшие Новерра, закрыли перед ним двери: после кончины Марии-Терезии в 1780 году Вена перешла к Иосифу, Штутгарт поблек, Милан стал враждебен. Оставался Лондон, и там Новерр работал от случая к случаю, привозя труппы разочаровавшихся французских танцовщиков в щедро платившие коммерческие театры. Но несмотря на это, он был сломлен. В своих записках он ворчит и обижается, в них сквозит уныние. Он жалуется, что искусство танца больше не внушает надежды: перед серьезной пантомимой стоят непреодолимые препятствия, а благородный стиль «обесчещен» в своем собственном парижском храме пустыми популярными формами. Даже его собственные «Письма», говорит он, – не более чем «мечта» идеализма юности52.
Новерр, конечно, не мог знать, что его жизнь и творчество означали нечто гораздо большее, нечто, что протянулось от Уивера в Лондоне, Мари Салле и Дидро в Париже, Глюка и Анджолини в Вене и Милане и отозвалось в далеких городах, где ставились балеты-пантомимы. Необходимость реформировать танец привела к различным местным вариантам, но подобно Просвещению, стоявшему за этим стремлением, они вылились в мощное движение, чьи достижения пересекли границы государств. В итоге, несмотря ни на что, наибольший вклад внес Париж: французское Просвещение определило направление развития балета и оставило бессмертное наследие, хотя многие вдохновленные им преобразования осуществлялись на театральных сценах вдалеке от французской столицы. И хотя споры о пантомиме и средствах реформирования танца разворачивались, казалось бы, очень давно, нельзя забывать, насколько важными они представлялись вовлеченным в них художникам и писателям того времени. Они искренне верили, что выразительный язык жеста способен наделить отжившие балетные формы силой нового драматического искусства. Что пантомима может вознести балет над прошлым и открыть перед ним новый мир, где танец будет не королевской игрушкой, а средством познания человека.
Противоречия в творчестве Новерра были противоречиями его времени, и сложности в сочетании пантомимы с условностями балета были труднопреодолимы. Как справедливо заметил Глюк, они конфликтовали: в смысле стилистики и философии они принадлежали разным эстетическим мирам. Новерр неизбежно разрывался между обязанностями французского балетмейстера и стремлением направить танец в новое русло. И хотя сам он видел себя человеком будущего, необходимо понимать, как прочно он был связан с прошлым. Самые радикальные его установки отдавали XVII веком: он хотел сделать балет одухотворенным, благородным, устремленным к вершинам трагедии – и при этом всю жизнь защищал этикет и формальные принципы великосветского стиля в танце.
Впрочем, история шла дальше. В последующие десятилетия балет действительно будет радикально преобразован, но реформа не пойдет тем путем, какой представляли Новерр и другие танцовщики и балетмейстеры XVIII века, о которых мы говорили. Они создали сюжет в балете и – возможно, это главное – основание верить тому, что происходило на сцене. Но не обращали внимания на другую сторону. Балетные шаги, позы и светский лоск оставались без изменения, как того требовал французский благородный стиль. Чтобы противостоять этому, Новерр должен был родиться в другое время, но факт остается фактом: реально преобразовать балет можно было единственным способом – сломать его формальную основу и перестроить изнутри, изменив систему движения танцовщиков. Великосветские каноны движения тела было необходимо пересмотреть или – если быть более радикальным – вовсе отказаться от них. Это был достойный вызов, и примет его Французская революция.
Глава третья
Французская революция в балете
Ничто в литературе так не отражает современное состояние общества и не связано с ним так тесно, как театр. Театр одной эпохи никогда не подойдет следующей, особенно если между ними пролегла мощная революция, изменившая все нравы и законы.
Алексис де Токвиль
В наши дни тем, кому хоть немного довелось пожить на свете, случилось видеть не только смерть людей, но и смерть идей: принципы, обычаи, вкусы, удовольствия, боль, чувства – ничто уже не напоминает того, что он когда-то познал. Он будет сильно отличаться от других представителей человеческой расы, среди которых теперь заканчивает свой век.
Франсуа Рене де Шатобриан
В конце 1770-х годов Парижская опера оказалась в кризисе. Несмотря на королевские привилегии и регулярные финансовые вливания со стороны монархии и городской администрации Парижа, Опера (как и само государство) испытывала постоянные финансовые трудности. Большинству наблюдателей проблема (помимо обычного неэффективного управления) была ясна: театр-конкурент Комеди Итальен, где исполнялись миленькие комические оперы, стремительно уводил публику. Чтобы выправить ситуацию, город назначил бунтаря Анна-Пьера-Жака де Вима дю Вальге проверить слабеющий театр и восстановить положение дел в финансовом и творческом плане. Молодой, умный и самонадеянный, де Вим был человеком авторитарным и вместе с тем стремился к модернизации: на дверях своего кабинета он повесил табличку со словами «Порядок, справедливость, твердость» и принялся открывать двери в высокую французскую культуру. Он стал приглашать иностранных певцов и итальянскую оперу, более того, запланировал балеты-пантомимы на заурядные мелодраматические темы, достойные площадных представлений, но никак не королевского театра1.
Реформы де Вима означали вакансии, и Максимильен Гардель, сначала помогавший Новерру, а потом обошедший его, не преминул воспользоваться случаем. Следующие десять лет (до своей смерти в 1787 году) он чрезвычайно успешно ставил «пантомимы-водевили» (как пренебрежительно называл их Новерр) и прочие легкие зрелища с шаблонными персонажами и известными сюжетами, как правило, заимствованными из либретто комических опер. Он ставил балеты о нежных сельских девах, честных деревенских парнях и разлученных возлюбленных, которые воссоединялись, преодолев все препятствия. Его постановки были трогательны и сентиментальны – никаких королей, богов или богинь, которых нужно молить о помощи. Например, в «Нинетт при дворе» (1778) деревенская девушка Нинетт влюблена в простого юношу Кола. Но король, проезжая через селение, поражается ее красоте. Девушку похищают и отвозят во дворец, где наряжают в кринолины и украшают алмазами. Верная своей природе, она насмехается над громоздкими платьями и требует заменить драгоценности букетом свежих цветов. Приходит учитель танцев преподать ей урок хороших манер, но она слишком непосредственна и неуклюжа и упрямо отказывается выполнять его упражнения. Однако она отправляется на бал и успешно восстанавливает социальную справедливость: ухитряется влюбить короля в графиню и затем падает в объятия возлюбленного Кола. Все танцуют2.
Впрочем, балеты Гарделя о нежных девах не всегда были просто милыми, иногда они содержали политический подтекст. В 1783 году он поставил балет «Избранница», в котором речь шла о существовавшей в то время и вызывавшей всеобщий восторг традиции, когда жители деревни, отобрав трех девушек, представляли их владельцу поместья – тот выбирал одну из них, награждал приданым, и пейзане устраивали праздник в честь добродетельной красавицы. Однако в 1770-х годах этот оригинальный обычай стал предметом нашумевшего судебного процесса, широко освещавшегося в прессе. Одну такую «избранницу» из деревни Саланси владелец поместья похитил (она понравилась ему самому), поправ традиции и грубо проигнорировав протесты возмущенных жителей. Парижские юристы ухватились за это дело, горячо защищая девушку, с которой так дурно обошлись; ее целомудрие и невинность, заявляли они, олицетворяют чистоту французской нации; чистота девушки является противоположностью растленному хозяину имения, деспотично воспользовавшемуся своей властью. Многие оценили балет, в котором превозносились добродетели «избранницы», но по меньшей мере один критик осудил Гарделя за то, что тот позволил деревенскому обычаю проникнуть в высокую французскую культуру: «Деревенская девчушка в Опере?»3
Гардель снизил тон – и не только в том, что касалось выбора сюжета и персонажей: как правило, он работал с такими композиторами комической оперы, как Франсуа-Жозеф Госсек и Андре-Эрнест-Модест Гретри, которые мастерски вплетали популярные песни в полотно балетной партитуры. Тесно сотрудничая с этими композиторами, он ловко обходил сложные моменты (которые не давали покоя Новерру) в изложении истории с помощью движения. Публика обычно знала слова этих песен наизусть, и знакомые мелодии как бы составляли сюжет балета: пантомима ясна, когда у зрителя в голове звучат знакомые слова. Этот обычный прием, изначально свойственный парижским ярмаркам, – эффективный, но явно асоциальный.
Ведущей исполнительницей Гарделя была Мадлен Гимар (1743–1816) – миловидная танцовщица, обещавшая стать второй Мари Салле. Прошедшая школу серьезного жанра, она была элегантна, держалась уверенно и очень увлекалась пантомимой. Но Гимар не обладала ни телесной красотой, ни артистизмом Салле. Миниатюрная и худощавая («грациозный скелет»), она исполняла все па приблизительно, эскизно, словно это был набросок настоящих шагов. Ее талант проявлялся в поразительной способности придавать простым движениям подобие величия, а благородные жесты наделять простотой и непосредственностью. Современники не переставали поражаться тому, как Гимар, обладая великолепными манерами и осанкой, умудрялась «так достоверно изображать поступь, походку и манеры крестьянки, впервые покидающей свою деревню». Публика обожала ее за то, что она превращала королеву в пейзанку, а пейзанку – в королеву4.
Ее любили еще и потому, что она заставила публику полюбить себя. Как проницательный рекламный агент, Гимар сознательно создавала свой имидж. Она не скрывала того, что была внебрачным ребенком низкого происхождения и пробилась благодаря своему таланту и внешности. Кроме того, как и многие танцовщицы до нее, она была куртизанкой: играла чувствами Жана-Франсуа де Лаборда – первого королевского камергера и коменданта Лувра, принца де Субиза – маршала Франции и (на радость сплетникам) Луи-Секстиуса Жаренте – епископа Орлеанского. В знак внимания своих богатых и высокопоставленных покровителей она получила в модном районе Парижа Шоссе д’Антен роскошный особняк, построенный по проекту модного архитектора Клода-Никола Леду, с причудливыми интерьерами Жана-Оноре Фрагонара (позднее дополненными Жаком-Луи Давидом). Кроме того, под Пантеном у нее был загородный дом с частным театром, где она давала эротические представления (чувственные крестьянские танцы) для приглашенных гостей, среди которых бывали высокопоставленные дамы и представители духовенства, сидевшие в ложах с решетчатой передней стенкой, призванной защищать их хрупкую репутацию. Тем не менее, словно чтобы уравновесить баланс своей репутации, она выставляла напоказ свои посещения бедняков, осыпая их серебром (взятым у любовников). Все это отражалось на сцене: вокруг нее сложился ореол состоятельной и влиятельной дамы и в то же время добросердечной девушки, чье сердце принадлежит простым людям, – образ, которой Гимар так искусно воплощала в балетах Гарделя.
Любимым сценическим партнером Гимар был юный и пламенный Огюст Вестрис (1760–1842). Почти на 20 лет моложе ее, он тоже был внебрачным ребенком – сыном «бога танца» Гаэтано Вестриса и танцовщицы Мари Аллар. Благородному стилю он учился у своего отца, а того учил выдающийся danseur noble Луи Дюпре – характерная преемственность, идущая непосредственно от эпохи Людовика XIV. В детстве Огюст послушно оставался в тени отца, но в 1780-х превратился в непокорного упрямца и стал развиваться в диаметрально противоположном направлении. Он был физически силен, хорошо сложен, с мускулистыми ногами, с беспечным выражением на довольно непримечательном лице. Он стал настоящим виртуозом танца – с потрясающим прыжком и пируэтами, в которых вращался легко и стремительно. Но его проворность и акробатическая пластичность настораживали: один современник отмечал, что его необыкновенная легкость безусловно «изумляла толпы», но в то же время «шокировала людей со вкусом»5.
Так и было. Однако Гардель, Гимар и Вестрис возникли не сами по себе. Размывание высокого благородного стиля и тяготение к популярным формам отражали глубокий кризис французского общества: абсолютная монархия неудержимо клонилась к закату. Это проступало во всем, но особенно в личности Людовика XVI (1754–1793), чье глубоко двойственное отношение к церемониалу и традициям, присущим королевской власти, мешало ему с самого начала. Его собственная коронация в 1775 году в Реймсе стала событием, не вызвавшим энтузиазма, и едва ли оправдала ожидания величия и блеска, которые отличали его предшественников. Не желая тратить деньги на столь расточительную демонстрацию собственной персоны, Людовик колебался и медлил, и хотя церемония прошла по всем установленным канонам, она выглядела фальшивой, как будто театрализованной постановкой, и послужила дурным предзнаменованием его будущего правления. Герцог де Круа сокрушался, что коронация «слишком напоминала оперу», и сетовал на «новый обычай аплодировать королю и королеве, как будто они на сцене»6.
Людовик был плохо подготовлен к своей роли короля Франции, будь то на сцене или в жизни. Он был замкнутым, чистосердечным человеком, который предпочитал домашнее уединение пышности двора и скрывался от своих королевских обязанностей на охоте, в погоне за бездомными кошками или за починкой замкóв. По слухам, публичным появлениям он предпочитал рассматривать прекрасные сады Версаля в телескоп, установленный в специально построенной подальше от суеты высокой беседке. Когда требовалось, он стоически подчинялся правилам придворного этикета и соблюдал внешние (но только внешние) приличия, но при первой же возможности переходил на удобную одежду и простоту в общении. Кроме того, укреплению образа короля и государства не способствовала и королева. Когда Мария-Антуанетта прибыла из Вены в Версаль, она была малообразованным застенчивым 15-летним подростком. Брошенная в водоворот политических страстей и интриг, измученная вниманием агонизирующего двора к ее интимным отношениям с супругом (она никак не могла подарить ему наследника), дочь Марии-Терезии стала взбалмошной и превратилась в эпицентр скандалов, злобных сплетен, непристойных спекуляций – всего, что подтачивало авторитет королевской власти.
Ее наряды тоже оставляли желать лучшего. О чрезмерных роскошествах королевы ходили легенды, но она по-прежнему беззаботно заставляла портных и парикмахеров каждый раз создавать все более невероятные платья и немыслимые прически – из ее волос с помощью толстого слоя помад и пудры сооружались целые батальные сцены. Однако в Трианоне (ее небольшом частном дворце в Версале) она сбрасывала фижмы и парики и надевала простое белое платье, ей нравилось ухаживать за животными и играть в пастушку. И что бы придворные дамы ни думали об этих буколических фантазиях, они послушно подражали королеве и тоже наряжались в скромные белые муслиновые платья.
При всей своей славе законодательницы моды Мария-Антуанетта ровным счетом ничего не решала, и ее на первый взгляд чудаковатые вкусы лишь отражали зарождение нового социального явления. В конце XVIII века строгий дресс-код, регламентировавший внешний вид сословий, был расшатан: аристократы стали одеваться проще, подражая стилю низших сословий, в то время как служанки принялись наряжаться, так что на рынке можно было встретить простых девушек в кринолинах. Впервые изменчивость и непостоянство моды начали связывать с характером королевы, хотя это можно было бы отнести к стремительному падению социальных различий.
Парижская опера не оставалась в стороне. Людовик XVI был равнодушен к опере и балету и стал первым королем Франции, кто пренебрег символическим значением королевского театра, – его касса зачастую пустовала. Людовик оставил Оперу королеве, но Марию-Антуанетту вряд ли можно было считать примером королевского величия, поэтому в 1780-х нравы и этикет, изначально господствовавшие в Опере, заметно поистрепались. В размещении зрителей воцарился хаос: состоятельные буржуа и недворянские сословия все чаще занимали некогда завидные ложи первого яруса, а король, вместо того чтобы заблаговременно позаботиться о рассадке своих гостей, просто передавал список имен администраторам театра, вынуждая высокопоставленных зрителей пробираться на место сквозь толпу в зале. Театральных завсегдатаев больше интересовало, откуда лучше видно сцену, а не социальная география зала, и даже сама королева сменила свою некогда почетную ложу первого яруса на ложу второго рядом с известной танцовщицей и куртизанкой Анн-Виктуар Дервье (злейшей закулисной соперницей Гимар).
Другие неписаные правила тоже теряли силу. По традиции, публика поворачивалась (в буквальном смысле) к королю и его вельможам, сверяясь с их реакцией на оперу или балет. О том, чтобы угождать «публике», речь не шла: был только король со свитой, и его мнение считалось абсолютом. До второй половины XVIII века само слово «публика» не относилось (как сегодня) к галерке и зрителям на стоячих местах, где возникали обсуждения и споры; оно выражало лишь общее или универсальное суждение (в отличие от частного или личного мнения), а его выносил король – второй после Бога. Он и был публикой. Даже когда его авторитет стал падать и общество бросилось представлять другие голоса, обычай смотреть на короля и свиту, как бы ища одобрения, сохранялся. Впрочем, к 1780 году и он стал исчезать.
В этой быстро меняющейся обстановке смотреть стало важнее, чем показывать себя. В 1781 году здание оперного театра сгорело, и архитекторы воспользовались случаем, чтобы в новом здании сместить центр зрительского внимания. В новом театре ложи уже не были обращены в зал: расположенные под небольшим уклоном, они были развернуты к сцене – ее видно лучше, а гости в ложе меньше заметны из зала. Снижались даже строгие требования к одежде, и в середине 1780-х годов маркиз де Конфлан явился в Оперу одетым по последней английской моде: вместо обязательных прежде шелковых чулок и напудренного парика – простой черный фрак и аккуратно подстриженные, без пудры, волосы.
Так что Гардель не упрощал балет, а старался идти в ногу со временем. Действительно, образ, созданный богатой и модной Мадлен Гимар, когда она резвилась на сцене в роли Нинетт или Rosière, полностью отвечал королевским вкусам – сама Мария-Антуанетта не смогла бы точнее выразить свое время (и себя). Вестрис тоже стал своеобразной пародией на своего знаменитого отца. Гаэтано демонстрировал на сцене безупречные манеры, его уроков и советов добивались дамы, которым предстояло дебютировать при дворе; Огюст же завоевал публику виртуозной техникой и дерзким нарушением правил хорошего вкуса.
Пожалуй, все это пошло на пользу. Ведь впервые после Мольера народные театральные формы и танцовщики-раскольники спасали балет от тенденции к пустой помпезности и претенциозности. Но Гардель не был Мольером, и эпоха Людовика XVI не обладала такими талантами или общим уровнем культуры, чтобы балет мог возродиться изнутри. Постановки Гарделя были милы и забавны, но в то же время схематичны и предсказуемы; состоявшие больше из пантомимы, чем танца, они уводили балет от его основополагающих принципов – не только потому, что (как опасались современники) многое заимствовали у бульварных театров, а потому, что в них проявилась поразительная утрата веры в аристократическую природу балета.
За кулисами дело обстояло еще хуже. Администраторы жаловались на то, что артисты выходят из-под контроля, в конце 1770-х и в течение 1780-х годов возросло число случаев дерзкого неподчинения. Вдобавок к этому танцовщики и певцы беззастенчиво (хоть и несколько комично) перенимали риторику своевольного парижского парламента[20]20
Высшая судебная инстанция Франции, существовавшая со времени Средневековья; обладал также некоторыми административными функциями. Под «своеволием» понимается то, что без регистрации Парижского парламента королевские указы не могли вступить в силу, хотя конечно же этот вопрос решался: созывалась Ложи правосудия, заседания которой проходили в присутствии монарха. – Прим. ред.
[Закрыть], в котором возрастало противостояние монархическому «деспотизму». Как докладывал барон Гримм, артисты Оперы (мечтавшие уволить непопулярного директора) создали «конгресс», который собирался в доме Гимар, и однажды танцовщики наотрез отказались выходить на сцену. Руководство театра насмехалось над этой «пародией на парламент», но ему часто не хватало воли и убедительности, чтобы сопротивляться требованиям танцовщиков. В 1781 году артисты потребовали, чтобы у комитета исполнителей было решающее слово в управлении театром, и администрация уступила. Последовавшее правление артистов было предсказуемо разрушительным: всплыли тщеславие и мелкие взаимные обиды, артисты появлялись где и когда хотели, разговаривали грубо и неуместно и в целом срывали работу театра. Такая неразбериха быстро утратила свою привлекательность, и Огюст Вестрис (среди прочих) попросил освободить его от утомительных административных собраний, которые мешали его репетициям7.
Порядок был восстановлен, но только на время. Все чаще танцовщики ссылались на нездоровье (и их заставали за кутежом в ресторанах), рвали костюмы, которые им не нравились, или выходили на сцену в нетрезвом виде. Администрация выписывала штрафы и отправляла мятежников в тюрьму. Главной целью было наказание, но задержанные танцовщики должны были так же вовремя появляться в театре, поэтому каждый вечер конвоиры официально сопровождали их в гримерные, а потом обратно в камеры. Вопиющий случай произошел в 1782 году, когда Мария-Антуанетта лично попросила Огюста Вестриса выступить в честь приезда важной особы. Он заявил, что травмирован, и отказался. Общественность восприняла поступок Вестриса как оскорбление достоинства королевы, что привело к волнениям в Париже и вызвало шквал карикатур и памфлетов. Отец умолял Огюста передумать, но вместо этого тот демонстративно отправился в тюрьму. Более того, прекрасно сознавая свое значение как талантливого исполнителя, он пригрозил навсегда уйти из театра. Королева, стараясь избежать еще одного скандала, смилостивилась и повелела освободить его. Когда Вестрис, предположительно излечившись, вернулся в театр, его поклонники и особенно критики дали волю чувствам: помидоры, оскорбления («на колени, на колени!»), а потом и камни полетели из партера; чтобы восстановить порядок, потребовалось вмешательство королевских гвардейцев8.
В 1789 году, столкнувшись с ростом парализующего политического и финансового кризиса, Людовик XVI созвал Генеральные штаты, представлявшие три сословия французского общества: духовенство, дворянство и третье сословие (куда входило население, не относившееся к двум первым, – юристы, купцы, лавочники, буржуа и, конечно, крестьяне). Перед этим аббат Сийес опубликовал свой гневный и страстный памфлет «Что такое третье сословие?», в котором обличал «касту» паразитирующих на обществе бесполезных аристократов и сформулировал, по словам одного историка, «величайшую тайну Французской революции, которая составляет глубинную движущую силу, – ненависть к дворянству». По убеждению Сийеса, дворянство – жалкое и вызывающее презрение ничто, в то время как третье сословие – это всё9.
Генеральные штаты собрались в мае 1789 года и в июне провозгласили себя Национальной ассамблеей. Обстановка в Париже накалялась: отчасти из-за неурожая подорожал хлеб, вырос уровень безработицы, голодные и готовые бунтовать крестьяне бежали из обнищавших провинций в столицу. Одиннадцатого июля Людовик XVI попробовал защитить свою власть и взять контроль над ухудшающейся ситуацией, сместив и выслав либерального министра Жака Неккера, ставшего козлом отпущения, и поставив на его место консерваторов. Но было уже поздно. На следующий день повстанцы вышли на улицы Парижа, а когда вызвали дворцовую охрану, та выступила против короля и присоединилась к народу. Королевские учреждения притягивали возмущенные толпы, и вечером того же дня около трех тысяч мужчин и женщин собрались у Оперы, выкрикивая оскорбления и угрожая сжечь театр. Они настаивали на том, чтобы спектакли отменили, а театр закрыли. Встревоженный директор поспешил вернуть деньги за билеты и призвал зрителей разойтись по домам, но толпа все равно заполнила театр и захватила все бутафорское оружие и похожий на него реквизит. В конце концов толпа схлынула, тем не менее на ночь руководство театра выставило в здании охрану из пожарных и солдат.
На следующий день толпы разграбили ружейные лавки и сорвали ненавистные ворота, где при въезде в Париж взимались акцизные сборы (акцизы означали более высокие цены на ввозимые товары); 14 июля в поисках оружия они ворвались в Дом инвалидов, а затем произошел знаменитый штурм Бастилии. Начались казни, и по всему городу восставшие демонстративно выставляли насаженные на пики головы своих жертв. Как если бы этого было мало, в конце июля всю страну охватил «великий страх»: раздраженные и разъяренные крестьяне бросились нападать на замки и аббатства, жечь документы о феодальных владениях, осквернять все подряд символы духовной и дворянской власти, попадавшие им в руки. Четвертого августа настроенные на реформы дворяне – члены Национальной ассамблеи решили предложить уступки, которые должны были усмирить беспорядки и насилие. Бурное экстренное совещание, затянувшееся до глубокой ночи, закончилось постановлением гораздо более значимым, чем компромисс: было принято решение о полном отказе от всех феодальных и дворянских привилегий.
Спектакли в Опере продолжались, но над театром был установлен строгий надзор. Анонимное письмо в адрес театра, озаглавленное «Пока ты спишь, Брут, Рим закован в кандалы», было первой ласточкой из целой серии нападок, и ведущие артисты театра составили на него ответ. После осторожного выражения почтения королю они предлагали освободить театр от «алчных» и некомпетентных директоров. Театральные постановки представляют «труд» исполнителей и поэтому должны принадлежать им и только им; театру следует вернуться, писали они, к самоуправлению, восстановив комитет старейших певцов и танцовщиков (то есть их самих). Кроме того, уступая голосу улиц, они писали, что Опера больше никогда не должна становиться прибежищем для знати: театр должен служить также «беднейшему классу достойных граждан» – людям «с плохой осанкой», по их выражению. В Национальной ассамблее развернулась дискуссия, члены ассамблеи горячо спорили о будущем театра, который многие считали форпостом дворянских привилегий. Дворяне, как в 1790 году отмечал пламенный критик, отказались от своих привилегий, а что же Опера?10
У брата Максимильена Гарделя, Пьера, был ответ. Пьер прекрасно знал проблемы, вставшие перед балетной труппой Оперы во время революции: он родился в 1758 году и вырос в Опере, стал замечательным танцовщиком, обучился искусству постановки у брата и занял пост главного балетмейстера после смерти Максимильена в 1787 году. В творческом отношении он был приверженцем старого стиля; высокий, худощавый, с элегантными пропорциями, он обладал (по словам Бурнонвиля) «холодной, будто флегматичной» внешностью и «жесткой подготовкой» danseur noble. Его исполнительская манера отличалась сдержанностью и торжественностью, а за счет хрупкого телосложения движения выглядели изящными и как бы намекали на томность и бесстрастность, характерные для благородного стиля в целом. У Гарделя сложилась многолетняя и безупречная карьера, что свидетельствует о его остром инстинкте самосохранения. Словно известный дипломат Талейран, Пьер Гардель проскользнул между королевской службой и радикальной революцией, поднялся к сверкающим вершинам при Наполеоне и сохранил свое положение даже при реставрации Бурбонов. Окончательно он ушел в отставку лишь в 1829 году, и то нехотя. Таким образом Гардель царствовал в балетной труппе Оперы в течение 42 лет, и его карьера охватывает самый бурный и политически нестабильный период в истории современной Франции11.
В 1790 году Гардель заявил о себе, поставив два невероятно успешных балета, жизнь которых продлилась и в следующем веке, – «Телемах на острове Калипсо» и «Психея». В 1826 году представление «Телемаха» состоялось в 413-й раз, а когда тремя годами позже «Психея» сошла со сцены, это был 560-й спектакль, что лишний раз подтвердило невероятную популярность балета для своего времени.
Это были странные работы, в которых сочетались старые навыки и новые формы, что указывало на глубокую двойственность изменений, произошедших в столице под влиянием революции. С одной стороны, Гардель, казалось, создавал новое: он отбросил традиционное пышное убранство балета и воспользовался революционной модой на все античное и греческое. Фижмы, напудренные парики, туфли с пряжками, тугие чулки, жесткие ткани, которые оттягивали плечи назад и сковывали затянутый в корсет корпус, – на смену всему этому пришли простые греческие одеяния и сандалии на плоской подошве со шнурками, которые завязывались на лодыжке или на икре. Кроме того, в отличие от непритязательных и легких постановок Максимильена Гарделя, «Телемах» и «Психея» были (как говорил Пьер Гардель) возвышенным детищем спартанских времен – героическими балетами (ballets héroiques). Старорежимные кокетки и деревенские инженю, созданные Гимар (она мудро ушла из Оперы в мае 1789-го), остались в прошлом. Ведущей балериной Гарделя стала его жена Мари Гардель – ее незапятнанную репутацию праведной и любящей жены и матери постоянно подчеркивали те, кто приветствовал революционное морализаторство. Главные мужские партии в своих балетах Гардель исполнял сам, старательно смягчая при этом свою горделивую благородную осанку, например, сутулился, давая понять, что он – человек из народа, а не вельможа12.
С другой стороны, при всей своей классической тональности балеты Гарделя, по большому счету, мало чем отличались от комических опер XVIII века. Публике не составляло труда следить за сюжетом: «Телемах» был поставлен по мотивам хорошо известного романа Франсуа Фенелона, а «Психея» – пересказ легенды о Купидоне и Психее. Партитуры обоих балетов, как обычно, включали мелодии из других опер и популярных песен, что помогало следить за действием. А чтобы постановки не воспринимались как облегченные, декорации и сценические эффекты создавали впечатление блеска, великолепия и величия, разворачивая на глазах у публики редкие зрелища: рушился дворец, горы и скалистые утесы рассыпались и внезапно падали в океан, загорался корабль, гремели громы, сверкали молнии, фурии и демоны парили над пылающей бездной.