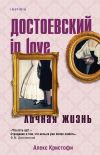Текст книги "Толстой и Достоевский: противостояние"
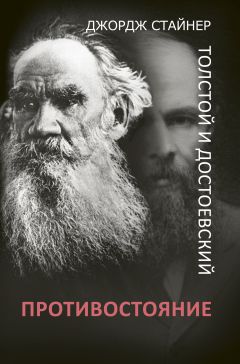
Автор книги: Джордж Стайнер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
IV
История европейской прозы XIX столетия приводит на ум образ звездной туманности с широко расходящимися ответвлениями. Из их крайних точек исходит самый яркий блеск – там лежат американский роман и русский роман. По мере нашего движения от центра к окраинам (Генри Джеймса, Тургенева и Конрада мы можем считать промежуточными кластерами), материя реализма становится все разреженнее. Судя по всему, американские и русские мастера черпали часть своей неистовой энергии из тьмы внешней, из увядшей ткани фольклора, мелодрамы и религиозной жизни.
Европейские наблюдатели с тревогой осознавали, что лежит за пределами орбиты традиционного реализма. Они чувствовали, что русские и американские фантазии достигли сфер сострадания и неистовости, недоступных условному бальзаку или диккенсу. В частности, французская критика отразила стремление классической чувствительности и интеллекта, настроенного на меру и равновесие, дать справедливый отклик на чуждые и в то же время возбуждающие формы видения. Порой – как в случае с Флоберовым признанием «Войны и мира» – эта попытка чествовать чужих богов носила оттенок скептицизма или горечи. Даже Мериме, Бодлер, виконт де Вогюэ, Гонкуры, Андре Жид, Валери Ларбо – то есть те, кто приложили максимум усилий, чтобы познакомить европейцев со звездами восточного и западного полушарий, – даже они, скорее всего, сочли бы прискорбным тот факт, что в сорбоннском опросе 1957 года студенты поставили Достоевского выше французских литераторов.
Размышляя о свойствах американской и русской прозы, европейские наблюдатели конца XIX и начала XX веков стремились обнаружить точки соприкосновения между Америкой Готорна и Мелвилла и дореволюционной Россией. В свете холодной войны сегодня такой ракурс может представиться архаичным или даже ошибочным. Но мы сами виноваты в подобной профанации. Чтобы понять (применяя фразу Гарри Левина23 о Джойсе), почему после «Моби Дика», «Анны Карениной» и «Братьев Карамазовых» стало гораздо труднее вообще считаться писателем, следует рассматривать разницу не между Россией и Америкой, а между Россией и Америкой с одной стороны и Европой XIX столетия – с другой. Эта книга посвящена России. Но психологические и материальные обстоятельства, освободившие русских писателей от дилеммы реализма, были теми же, что и в Америке, и некоторые из них лучше понятны именно при взгляде глазами американца.
Разумеется, вопрос этот весьма обширен, и то, что я сейчас собираюсь сказать, следует расценивать лишь как краткие заметки к более адекватному исследованию. На эту тему писали четыре острейших ума своего времени – Астольф де Кюстин,24 Токвиль,25 Мэтью Арнольд и Генри Адамс. Все они (каждый – со своей особой наблюдательной позиции) обнаружили аналогии между двумя нарождающимися державами. Генри Адамс пошел даже дальше, с потрясающей дальновидностью размышляя о том, что станется с цивилизацией, если эти два гиганта столкнутся друг с другом лоб в лоб над ослабшей Европой.
Неоднозначность и, при этом, кардинальная важность отношения к Европе – сквозной мотив русской и американской интеллектуальной жизни в течение всего XIX века. Генри Джеймс сделал классическое заявление: «Быть американцем – непростая судьба, и в нее включена миссия бороться с суеверными оценками Европы». Достоевский в своем посвящении Жорж Санд писал: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами». Эта сложность и эта двойственность в равной степени проявляются в знаменитом обращении Ивана Карамазова к своему брату:
«Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что это давно уже кладбище и никак не более».
Разве этот пассаж не мог бы стать эпиграфом ко всей американской литературе – от «Мраморного фавна» Готорна до «Четырех квартетов» Т.С. Элиота?
У обоих народов отношение к Европе принимало разнообразные и сложные формы. Тургенев, Генри Джеймс, а позднее – Элиот и Паунд, – все они являют собой примеры непосредственного приятия, обращения в старый мир. Мелвилл и Толстой были среди великих отрицателей. Но в большинстве случаев к этому вопросу относились, с одной стороны, неоднозначно, а с другой – он преследовал, как навязчивая идея. В 1828 году в своих европейских заметках Джеймс Фенимор Купер написал: «Если кому и простительно покинуть свою родину, то американскому художнику». Именно в этом вопросе русская интеллигенция отчаянно расходилась во мнениях. Но вне зависимости от того, приветствовали те или иные американские и русские писатели возможность отъезда или осуждали ее, они сходились в одном: необходимой частью формирующего их опыта является изгнание или «измена». Нередко европейское паломничество приводило к переоценке, переоткрытию собственной страны: Гоголь лишь в Риме «обрел» свою Россию. Но в обеих литературах тема европейского путешествия являлась важным инструментом самоопределения и поводом для типичного жеста: пересечение Герценом польской границы, прибытие Ламберта Стретера (главного героя «Послов» Джеймса) в Честер. Киреевский, один из ранних славянофилов, писал, что понять такую громаду, как Россия, можно, лишь взглянув на нее издалека.
Это противостояние с Европой придает российской и американской прозе некий особый вес и статус. Обе цивилизации, взрослея, пребывали в поиске собственного образа (этот поиск – одна из излюбленных ключевых тем Генри Джеймса). В обеих странах роман помогал разуму понять смысл места. Непростая задача – ведь если европейский писатель-реалист отталкивался от исходных позиций, зафиксированных богатым историко-культурным наследием, его американскому или русскому собрату приходилось либо импортировать ощущение преемственности из-за рубежа, либо создавать своего рода вымышленную автономию из подручного материала. Русской литературе на редкость повезло, что гений Пушкина оказался столь многогранным и классическим. Его произведения сами по себе создали традицию. Кроме того, они вместили в себя широкий спектр иностранных влияний и моделей. Именно это имел в виду Достоевский, говоря о «всемирной отзывчивости» Пушкина:
«Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ним народа… Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность».
В Гоголе же искусство русского нарратива обрело мастера, который с самого начала задал доминирующие тона и настрой языку и форме. Русский роман действительно вышел из гоголевской «Шинели». Американской литературе повезло меньше. Неустойчивость вкуса у По, Готорна и Мелвилла, мешающая пониманию особенностей их стиля, напрямую указывает на дилемму индивидуального таланта, творящего в относительной изоляции.
У России и Америки не было даже ощущения географической стабильности и целостности, которое европейскому роману досталось даром. Оба народа сочетали необъятность с ощущением романтической и растворяющейся границы. Для Пушкина, Лермонтова и Толстого роль Дикого Запада и «краснокожих» американской мифологии играли Кавказ с его воинственными народами или неиспорченные общины казаков и староверов на Дону и Волге. Для обеих литератур архетипична тема героя, который покидает порочный мир городской цивилизации и опустошающих страстей ради опасностей и морального очищения у границы. Кожаный Чулок и герой кавказских повестей Толстого – родственные души: они держат путь среди прохладных сосновых долин и диких зверей, исполненные меланхолии, но и движимые страстным преследованием «благородного» противника.
Безбрежность пространств несет с собой чувство незащищенности перед природными силами в самых грандиозных и свирепых своих проявлениях; только у сестер Бронте и позднее у Д.Г. Лоуренса европейский роман рисует сравнимое восприятие природы во всей ее неистовости. Капризная тирания моря у Ричарда Даны и Мелвилла, архаические ужасы у По в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима», образ человеческой обнаженности в «Метели» Толстого – все эти столкновения человека со стихией пространства, которая может уничтожить его в минуты своенравного величия, не входят в репертуар западноевропейского реализма. В XIX веке рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?» (который Джойс назвал «величайшей в мире литературой») мог быть написан только русским или американцем. Это – притча о безграничности земли; она потеряла бы смысл в диккенсовском кентском пейзаже или во флоберовской Нормандии.
Но пространство не только изолирует, оно в не меньшей мере и расширяет. Общей для русской и американской литератур была тема художника в поисках своей идентичности и аудитории в новой, бессистемной культуре, слишком сосредоточенной на нуждах материального выживания. Даже город, в котором европейское сознание видело квинтэссенцию и транскрипцию прошлого, в русском и американском отражении выглядел грубым и безликим. Со времен Пушкина и вплоть до Достоевского Петербург в русской литературе служил символом деспотического творения; вся его структура была создана из болот и воды, словно по волшебству – жестокому волшебству автократии. Он не имел корней ни в земле, ни в прошлом. Порой – как у Пушкина в «Медном всаднике» – природа мстила незваному гостю; а порой – как в случае с кончиной По в Балтиморе – город обращался в толпу, в этот аналог природного бедствия, и убивал художника.
Но в итоге человеческая воля одержала верх над гигантскими землями. Сквозь леса и пустыни проложили дороги, прерию и степь заселили люди. Эти достижения, как и превосходство воли, позволившее их реализовать, отражены в великом наследии русской и американской классики. В обеих мифологиях центральное место занимает то, что Бальзак назвал «поисками абсолюта». Эстер Прин, Ахав, Гордон Пим, подпольный человек Достоевского и лично Толстой сражались с ограничивающими волю барьерами традиционной морали и естественного закона. Эпиграфом к своей «Лигейе» По выбрал пассаж из английского богослова XVII столетия Джозефа Гленвилла: «Человек не предается до конца ангелам, ниже самой смерти, но лишь по немощи слабыя воли своея».26 Это – тайный боевой клич Ахава, и в этом – надежда Толстого, когда тот ставил под сомнение необходимость смерти. Как отметил Мэтью Арнольд, и в России, и в Америке сама жизнь несла в себе энтузиазм юности.
Но во всех случаях это вовсе не та жизнь, из которой европейская проза черпала материал и создавала ткань своих традиций. И в этом – главный вопрос Джеймсовых исследований о прозе Готорна. Последний в предисловии к «Мраморному фавну» написал:
«Ни один автор не сможет запросто представить себе, сколь трудно сочинить роман о крае, где нет ни сумрака, ни древности, ни тайны, ни колоритного и мрачного зла, где нет ничего – а лишь безликое благополучие у всех на виду, – как, к счастью, и обстоят дела на моей милой сердцу родине».
В устах автора «Алой буквы» и «Дома о семи фронтонах» эти слова могут прозвучать как тонкая ирония. Однако Джеймс решил так не считать, и остановился подробнее на Готорновых «трудностях». И его работа, и текст самого Готорна касаются исключительно Америки. Но сказанное Джеймсом является, пожалуй, самой проницательной из доступных нам мыслей, анализирующих главные качества европейского романа. Говоря о том, чего не-европейцы были лишены, он попутно упоминает и то, от каких препятствий они были свободны. И я полагаю, что его трактовка разницы между Флобером и Готорном не менее поучительна и в отношении различий между Флобером и Толстым.
Отмечая «разреженность» и «пустоту» атмосферы, в которой работал Готорн, Джеймс писал:
«Как Готорн, должно быть, понял позднее, когда познакомился с более плотным, богатым и теплым европейским ландшафтом, романисту для формирования запаса идей требуется весьма многое – огромная концентрация истории и традиций, многогранность стилей и типов».
После чего идет знаменитый список «предметов высокой цивилизации», отсутствующих в текстуре американской жизни и, следовательно, в матрице возможных аллюзий и эмоций, доступных американскому писателю:
«Ни Государства в европейском смысле – в этой связи, и о строгом названии нации тоже едва ли приходится говорить. Ни монарха, ни суда, ни личной преданности, ни аристократии, ни церкви, ни клира, ни армии, ни дипломатической службы, ни сквайров, ни дворцов, ни замков, ни поместий… ни увитых плющом руин… ни Оксфорда, ни Итона, ни Харроу; ни литературы, ни романов, ни музеев, ни картин, ни политического общества, ни скачек – то есть, ни Эпсома, ни Аскота».
Трудно сказать, можно ли всерьез относиться к этому списку целиком. Суд, армия или скачки в Англии времен Джеймса едва ли имели тесное касательство к художественным ценностям. Что касается Оксфорда, самый драматический момент в его отношениях с поэтическим гением – это исключение Шелли; поместья и руины в плюще являли собой продуваемое сквозняками проклятье живописцев и музыкантов, приглашенных развлечь светских хозяев, а Итон и Харроу не особо славились поощрением утонченных добродетелей. Но в списке Джеймса, тем не менее, есть резон. Он в острой миниатюре дает картину мира европейского реализма, то, что Бергсон27 назвал бы données immédiates28 искусства Диккенса, Теккерея, Троллопа, Бальзака, Стендаля или Флобера.
Кроме того, с определенными оговорками и поправками в подходах этот реестр лишений можно в равной степени применить к России XIX века. Она тоже не являлась государством «в европейском смысле слова». Ее автократический суд со своим полуазиатским флером относился к литературе враждебно. Основная часть ее аристократии погрязла в варварском феодализме, и лишь тонкая европеизированная прослойка думала об искусствах и свободной игре идей. Русский клир имел мало общего с английскими викариями или епископами, в чьих обшитых деревом библиотеках и гостиных, в сводах которых некогда вили гнезда грачи, Джеймс порой коротал зимние вечера. Это была фанатичная малообразованная толпа, где визионеры и святые соседствовали с полуграмотными сластолюбцами. Остальные пункты из Джеймсова списка – свободные университеты и древние школы, музеи и политическое общество, руины с плющом и литературные традиции – присутствовали в России не в большей степени, чем в Америке.
И, конечно же, для обоих случаев конкретные пункты указывают на более общий факт: ни в России, ни в Америке не свершилась полная эволюция среднего класса «в европейском смысле слова». Как в позднейшие годы отметил Маркс, России предстояло стать примером феодальной системы на пути к индустриализации без промежуточных стадий, на которых предоставлялись бы свободы и формировалась бы современная буржуазия. За европейским романом стояли придающие стабильность, набирающиеся зрелости структуры конституционного права и капитализма. В России времен Гоголя или Достоевского таких структур не существовало.
Джеймс признавал, что определенные вещи «компенсируют» эту скудость американской атмосферы. Он говорил о непосредственной близости физической природы в ее самых выразительных настроениях, о контакте писателя с широким спектром типажей, об ощущении «чуда» и «тайны», возникающем при знакомстве с людьми, которых нельзя отнести к тем или иным четким категориям устоявшегося общества. Но Джеймс поспешил добавить, что это отсутствие иерархии лишает художника «интеллектуальных стандартов» и критериев стиля. Напротив, оно отдает его в руки «холодного одиночества моральной ответственности».
Тяжкий приговор, даже если считать, что он применяется к одному Готорну. Это в значительной мере облегчает понимание того, почему Джеймс уже в зрелые годы не поскупился ни на восхищение Эмилем Ожье, Жип29 и Дюма-сыном, ни на время, посвященное их работам. Это проливает свет на ценности, которые побудили его сравнивать «Алую букву» с «Адамом Блэром» Локхарта30 – впрочем, нельзя сказать, что не во вред последнему. Это вносит ясность в то, почему Джеймс, говоря о будущем американской прозы, возлагал надежды на Хоуэллса,31 автора «восхитительной “Венецианской жизни”», а не на образы По, Мелвилла или Готорна с их «ребяческими» экспериментами с символизмом. И, наконец, это демонстрирует, почему Джеймс не мог воспринять русских современников Тургенева.
Это «одиночество моральной ответственности» (я бы здесь заменил «холодное» на «страстное»), это влечение к тому, что Ницше потом назовет «переоценкой ценностей», провело американскую и русскую литературу за границы истощающихся ресурсов европейского реализма в мир «Пекода»32 и Карамазовых. Как отметил Д.Г. Лоуренс:
«В старой американской классике присутствует “иное” ощущение. Сдвиг от старой ментальности к чему-то новому, замена одного другим. И это – болезненная замена».
В Америке «замена» носила характер пространственно– культурный – миграция интеллекта из Европы в новый мир, – а в России – историко-революционный. И в том, и в другом случае присутствуют боль и безумие, но также – и потенциал эксперимента, пьянящая убежденность в том, что на кону – не просто создание портрета современного общества или романтическое развлечение.
Да, по меркам Джеймса, Готорн, Мелвилл, Гоголь, Толстой и Достоевский были изолированными писателями. Они творили независимо от доминирующей литературной среды или даже вопреки ей. Самому Джеймсу, как и Тургеневу, повезло больше – в главных центрах цивилизации их чествовали, и они сами чувствовали там себя, как дома, не принося в жертву верность своим идеалам. Но сегодня мы видим, что к «титаническим» шедеврам пришли именно визионеры, те, кто были гонимы.
В нашей воображаемой лекции о России и Америке XIX столетия, о возможных аналогиях в великих образцах русского и американского романа, о том, как они, каждый по-своему, отходили от европейского реализма, нам следует остановиться еще на одной теме. Европейская проза отражает длительный период посленаполеоновского мирного времени. Если не считать судорожных, но непродолжительных всплесков 1854 и 1870 годов, мир длился от Ватерлоо и до Первой мировой. Раньше война была доминирующим мотивом эпической поэзии – даже если речь шла о войне на небесах. Она снабдила контекстом многие серьезные драматические произведения от «Антигоны» до «Макбета» и шедевров фон Клейста. Но эта тема лежит довольно далеко от сферы внимания европейского писателя XIX века. Мы слышим дальние залпы пушек в «Ярмарке тщеславия»; приближение войны придает последним страницам романа «Нана» их иронию и незабываемую энергию; но лишь когда в ту полную отчаяния и разгула ночь над Парижем появились «цеппелины», знаменуя собой финал прустовского мира, война вновь вошла в мейнстрим европейской литературы. Да, Флобер – у которого большинство перечисленных проблем видны особенно остро – тоже писал свирепые и яркие пассажи о битвах. Но то были давние битвы в музейных декорациях древнего Карфагена. Любопытно отметить, что убедительные повествования о человеке на войне мы можем обнаружить лишь в детских книгах того времени – у Доде или у Дж. А. Генти,33 который, как и Толстой, нес на себе глубокую печать опыта Крымской войны. А во взрослой литературе европейский реализм не произвел на свет ни «Войны и мира», ни «Алого знака доблести».34
Этим фактом подтверждается более широкий вывод. Сцена европейского романа – вся его политическая и физическая матрица от Джейн Остин и до Пруста – отличалась чрезвычайной стабильностью. Все главные несчастья носили личный характер. Искусство Бальзака, Диккенса и Флобера не было готово – и не было призвано – иметь дело с силами, способными полностью растворить ткань общества и поглотить частную жизнь. Силы эти неумолимо сосредоточивались по мере продвижения к веку революции и тотальной войны. Но европейские писатели либо игнорировали те предвестья, либо давали им ложную интерпретацию. Флобер заверял Жорж Санд, что Коммуна – лишь краткое возвращение к средневековой фракционной борьбе. Только два прозаика сумели четко разглядеть порывы к дезинтеграции и трещины в стене европейской стабильности – Джеймс в «Княгине Казамассиме» и Конрад в книгах «Глазами Запада» и «Тайный агент». Наиболее очевидная значимость этого факта состоит в том, что ни тот, ни другой по рождению не принадлежали к западноевропейской традиции.
Насколько я могу судить, влияние Гражданской войны в США – или, скорее, влияние ее приближения и последствий – на американскую атмосферу не получило должной оценки. Гарри Левин предположил, что мировоззрение По было затуманено предчувствиями неминуемой судьбы Юга. Лишь постепенно мы начинаем осознавать, сколь радикальную роль сыграла война в сознании Генри Джеймса. Отчасти именно из-за нее мы видим восприимчивость Джеймса к демоническому и деформирующему, которая сделала его романы глубже и вынесла их за пределы французского и английского реализма. Но в еще более общем смысле можно сказать, что искусство Америки отразило нестабильность ее общественной жизни, мифологию насилия, присущего пограничной ситуации, и сосредоточенность на военном кризисе. Все эти факторы внесли свою лепту в то, что Д.Г. Лоуренс назвал «наивысшей точкой экстремального сознания». Он говорил о По, Готорне и Мелвилле. Однако его слова равно применимы к «Веселому уголку» и «Золотой чаше».35
При этом элементы, которые в случае с Америкой можно считать хоть и сложными, но все же порой маргинальными, в России XIX столетия представляли собой фундаментальные реалии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?