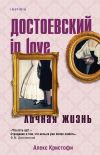Текст книги "Толстой и Достоевский: противостояние"
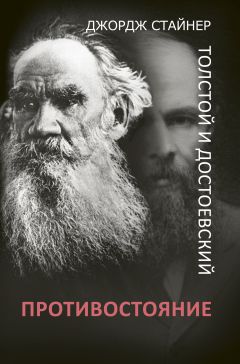
Автор книги: Джордж Стайнер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
II
Несмотря на некоторую ошибочность, замечания Арнольда имеют важное историческое значение. Они выразили общее мнение его европейских современников – в частности, виконта де Вогюэ, – которые первыми открыли русский роман французским и английским читателям, признав, что в русских авторах есть определенная свежесть и сила изобретательности. Но в их осторожном восхищении проглядывала мысль, которая и инспирировала эссе Арнольда, – мысль о том, что европейская проза – продукт постижимого разумом, узнаваемого искусства, а такие книги, как «Война и мир» – это таинственные творения природного гения и стихийной жизненной энергии. В своей самой примитивной форме эта концепция проявилась в нападках Бурже42 на русскую литературу, а в более утонченном виде – вдохновила блестящие, хоть и неровные наблюдения Андре Жида в его работе о Достоевском. Для европейской критики в этой теории не было ничего нового, а лишь очередная версия традиционной защиты устоявшегося и классического от того, что не вписывалось в господствующие нормы. Попытки Арнольда рассматривать «Анну Каренину» в пределах викторианской критики, противопоставляя ее жизненную энергию эстетической утонченности Флобера, можно сравнить с попытками критиков-неоклассицистов определить границу между «природным величием Шекспира» и упорядоченным, как они полагали, каноническим совершенством Расина.
Но хотя в обоих случаях эти противопоставления иррелевантны и не находят подтверждений в текстах, они бытуют по сей день. Русский роман накладывает мощный, широко признанный отпечаток на наше восприятие литературных ценностей. Но его влияние на европейскую прозу по-прежнему приходит извне, и оно по-прежнему ограниченно. Те французские романисты, которых явно вдохновляли модели Достоевского, не блистали высокими достижениями – скажем, Эдуар Род и Шарль-Луи Филипп. Следы влияния Достоевского проглядывают у Стивенсона в «Маркхейме» и, пожалуй, в некоторых произведениях Хью Уолпола, Фолкнера и Грэма Грина. Толстой повлиял на Мура («Эвелин Иннез»), Голсуорси и Шоу, но это было влияние, скорее, идейное, а не техническое. Из крупных фигур только о Жиде и Томасе Манне можно сказать, что они переняли существенные аспекты русской практики. И дело здесь не в языковом барьере; Сервантес – одна из основ европейской традиции, и он оказал глубокое влияние на писателей – даже тех, кто не мог читать его книги на испанском.
Причина лежит в общем направлении, на которое указал Арнольд. Бытует смутное, но стойкое ощущение, что Толстой и Достоевский не вписываются в привычные рамки критического анализа. Их «величие» воспринимается как животный факт природы, не поддающийся более тщательному разбору. Язык наших восторгов в значительной мере расплывчат. Создается впечатление, что «произведения искусства» можно досконально изучить, а «куски жизни» – лишь разглядывать с благоговением. Это, разумеется, нонсенс: величие великого романиста должно быть оценено с точки зрения фактической формы и технической реализации.
Последняя в случае с Толстым и Достоевским представляет собой колоссальный интерес. Нет большего заблуждения, чем считать их романы «рыхлыми мешковатыми монстрами», рожденными благодаря некой таинственной или счастливой спонтанности. В эссе «Что такое искусство?» Толстой ясно сказал, что совершенство достигается через «малые моменты»: «чуть-чуть» менее или «чуть-чуть» более. «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» подтверждают это суждение в не меньшей мере, чем «Мадам Бовари». Более того, принципы их композиции богаче и сложнее, чем у Флобера или Джеймса. В сравнении с задачей нарративной структуры и мотива, решенной в первой части «Идиота», даже такое проявление высокого мастерства, как единый фокус зрения в «Послах», производит впечатление поверхностного. На фоне вступительных глав «Анны Карениной», на которых я еще подробно остановлюсь, зачин «Мадам Бовари» выглядит тяжеловесным. Причем нам известно, что Флобер вложил в этот роман максимум своих ресурсов. С чисто технической точки зрения роман «Преступление и наказание» имеет мало себе равных. По чувству темпа и плотности исполнения его можно сравнить разве что с лучшими книгами Лоуренса или с «Ностромо» Конрада.
В критике это все должно быть общими местами и положениями, на которых можно не останавливаться. Но так ли обстоят дела в действительности? Немало «новых критиков» все свои упорные наблюдения, всю свою убедительность посвящают искусству романа применительно к Флоберу, Джеймсу, Конраду, Джойсу, Прусту, Кафке и Лоуренсу (то есть, к официальному пантеону). Изыскания по поводу метафоры у Фолкнера или генезиса того или иного эпизода из «Улисса» постоянно прибавляют в почтенности и числе. Но многие из студентов и критиков, по праву считающих эти вопросы жизненно важными для сферы своих интересов, обладают лишь самыми общими и смутными познаниями о русских мастерах. Они идут – возможно, бессознательно – по тому же пути, что и Эзра Паунд, который в эссе «Как читать» возмутительно глупо отверг русскую литературу. Одна из моих целей здесь – выступить в противовес этой тенденции и показать правоту Ч.П. Сноу, который сказал: «Это – сверхъестественные произведения, которые более всего требуют технического анализа, если мы вообще хотим их поместить хоть в какие-то рамки».
Раз так – и если мы ни на мгновение не упускаем из виду тот факт, что жизненная энергия романа неотделима от технических достоинств, которые делают его произведением искусства, – значит, в замечании Арнольда есть доля истины. Он был прав, говоря, что к «Мадам Бовари» и «Анне Карениной» нельзя подходить с одними мерками. Но разница – не только в качестве. Мало просто сказать, что Толстой видел человеческую природу глубже и в более сострадательном свете, чем Флобер, и что его гений отличался несомненно большей широтой. Дело в том, скорее, что при чтении «Анны Карениной» наше понимание литературной техники, наше знание о том, «как это делается», может дать лишь предварительные идеи. Те типы формального анализа, с которыми мы большей частью будем сталкиваться в этой главе, позволяют нам проникнуть в мир Толстого куда менее глубоко, чем в мир Флобера. Толстовский роман несет в себе выраженный груз религиозных, этических и философских проблем, которые проистекают из обстоятельств повествования, но при этом живут независимой – или, скорее, параллельной – жизнью и требуют нашего внимания. Любое наше наблюдение о толстовской поэтике имеет ценность, поскольку именно она дает нам нужный подход к одному из самых внятных и всеобъемлющих учений об опыте, когда-либо предложенных индивидуальным интеллектом.
Это может объяснить, почему новые критики – за исключением достопочтенного Р.П. Блэкмура – в целом обходят русский роман стороной. Их сосредоточенность на отдельном образе или кластере языка, их предубежденность против косвенных или биографических свидетельств, предпочтение, которое они отдают поэтическим, а не прозаическим формам, – все это не попадает в лад с главными качествами прозы Толстого и Достоевского. Отсюда – потребность в «старой критике», имеющей в своем распоряжении богатую цивилизацию условного Арнольда, условного Сент-Бёва и условного Брэдли. Отсюда же – и потребность в критике, готовой посвятить себя изучению более свободных и крупных форм. В «Квинтэссенции ибсенизма» Шоу отметил, что «у Ибсена нет ни одного персонажа, который не был бы – прибегая к древней фразе – храмом Святого Духа, и который порой не волновал бы вас ощущением этого таинства».
Если мы хотим понять «Анну Каренину», подобные древние фразы вполне уместны.
III
«Анна Каренина» с самой первой страницы переносит нас в мир, далекий от флоберовского. Эпиграф из Святого Павла – «Мне отмщение, и аз воздам» – звучит трагически и двусмысленно. Отношение Толстого к его героине можно описать арнольдовской фразой «клад сострадания»; автор осуждает общество, которое травлей доводит Анну до гибели. Но в то же время цитата апеллирует к неотвратимой каре нравственного закона. Не менее поразителен и сам факт использования библейского источника в качестве эпиграфа. В европейской прозе XIX века редко можно увидеть, чтобы в ткань повествования вплетались пассажи из Писания, поскольку своим чистым светом и силой ассоциаций они вторгаются в окружающую их прозу. Это хорошо удается Генри Джеймсу – например, в кульминации «Послов» (слова Слезера «Воистину, воистину…») или в аллюзиях на Вавилон в «Золотой чаше». Но в «Мадам Бовари» библейский текст смотрелся бы фальшиво и развалил бы всю подчеркнуто прозаическую структуру. Однако Толстой (или Достоевский) – совсем иное дело. Длинные цитаты из Евангелия вплетены, например, в текст «Воскресения» и «Бесов». В нашем случае мы имеем дело с религиозной концепцией искусства и с высшей мерой серьезности. На карту поставлено столь многое – вне рамок качества технического исполнения, – что язык Павла смотрится на удивление уместным и возвещает начало романа, словно зловещий горн.
Затем следует знаменитая открывающая фраза: «Все смешалось в доме Облонских». Традиционно считалось, что Толстой почерпнул эту идею из пушкинских «Повестей Белкина». Однако подлинные черновики и письмо Страхову (опубликованное лишь в 1949 году) заставляют нас в этом усомниться. Кроме того, в окончательной редакции Толстой предварил это предложение краткой максимой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Вне зависимости от конкретных деталей композиции, налицо – свободная стремительная энергия зачина, и Томас Манн, вероятно, не ошибался, говоря, что ни один другой роман не трогается в путь с такой отвагой.
Как это сформулировали бы в традиционной поэтике, мы сразу попадаем in medias res43 – тривиальная, но скандальная супружеская измена Степана Аркадьевича Облонского (Стивы). Повествуя о мелком адюльтере Облонского, Толстой – как бы между прочим – излагает ключевые темы романа. Степан Аркадьевич обращается за помощью к своей сестре, Анне Карениной. Она едет восстановить лад в смятенном доме. В том, что Анна впервые появляется в романе как та, кто чинит разваливающиеся браки, виден оттенок тревожной иронии, той самой шекспировской иронии, которая граничит с состраданием. Разговор Стивы с его разгневанной женой Долли, несмотря на комический блеск, предвосхищает трагические стычки между Анной и Алексеем Александровичем Карениным. Но эпизод с Облонскими – не просто прелюдия, где с совершенным мастерством излагаются ключевые мотивы; это – колесо, легко и непринужденно приводящее в движение многочисленные шестеренки повествования. Ибо хаос, посеянный в домашних делах Стивы, приведет к встрече Анны с Вронским.
Облонский едет в присутствие – он получил место на службе через влиятельного мужа сестры, – и там его навещает истинный герой романа, Константин Дмитриевич Левин, «гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов». Тот появляется в расположении духа, которое в высшей степени его характеризует. Рассказывает, что перестал посещать собрания земства, подшучивает над стерильной бюрократией, которую символизирует официальная синекура Облонского, и признается, что прибыл в Москву из-за любви к Кити Щербацкой, свояченице Стивы. Уже из первого знакомства с Левиным мы узнаем о главных движущих силах его жизни: мечта о реформе сельского хозяйства и деревни, неприятие городской культуры и страстная любовь к Кити.
Далее следует ряд эпизодов, где Левин продолжает раскрываться как персонаж. Он встречается со своим сводным братом по матери, известным публицистом Сергеем Ивановичем Кознышевым, справляется о старшем брате Николае и затем едет на каток, чтобы вновь встретиться с Кити. Это очень толстовская сцена: «Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы». Кити и Левин катаются на коньках, и все вокруг них залито свежим искрящимся светом. С точки зрения строгой повествовательной экономности, критика может назвать беседу Левина с Кознышевым отступлением от темы. Но я еще вернусь к этому вопросу, поскольку в структуре толстовского романа подобные отступления играют особую роль.
Облонский встречает Левина у катка, и они обедают в отеле «Англия». Левина раздражает бесстыдное изящество ресторана, и он кислым тоном заявляет, что ему лучше «щи да каша», а не гастрономические изыски, с щедростью предложенные официантом-татарином. Стива всецело увлечен блюдами, но все же возвращается к своим невзгодам и спрашивает Левина, что тот думает о супружеской неверности. Эта краткая часть диалога – шедевр нарративного баланса. Левин не понимает, как человек, «наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач». Его убеждения – строго моногамны, и когда Облонский намекает на Марию Магдалину, Левин с горечью отвечает, что «Христос никогда не сказал бы этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими… Я имею отвращение к падшим женщинам». При этом на позднейших страницах романа никто другой не отнесется к Анне со столь сострадательным пониманием. Далее Левин развивает свою концепцию уникальности любви и обращается к Платонову «Пиру». Но потом вдруг обрывает себя, вспоминая, что и в его жизни есть вещи, идущие вразрез убеждениям. В этом фрагменте сконцентрировано многое из романа – столкновение между моногамией и сексуальной свободой, несоответствие между личными идеалами и личным поведением, попытка интерпретировать опыт сначала философски, а потом – прибегая к образу Христа.
Декорации сменяются домом Кити, где мы знакомимся с четвертым главным участником этого квартета любви, графом Вронским. В романе он впервые появляется как поклонник, волочащийся за Кити. Это – не просто пример технической виртуозности Толстого, который с удовольствием отказывается удовлетворить читательские ожидания, как отказывается удовлетворить их и сама жизнь. Это – проявление «реализма» и «дышащей полной грудью экономии» великого искусства. Флирт Вронского с Кити имеет те же структурные и психологические свойства, что и увлечение Ромео Розалиной. Ибо всепреобразующая сила страсти Ромео к Джульетте и Вронского к Анне может быть поэтически реализована и достоверно подана лишь в контрасте с предыдущей любовью. Именно открытие разницы между былыми влюбленностями и демонической полнотой зрелой страсти делает обоих мужчин безрассудными и толкает к катастрофе. Китино девичье увлечение Вронским (как и любовь Наташи к Болконскому в «Войне и мире») – это, подобным образом, прелюдия к самопознанию. Лишь через сравнение поймет она подлинность своих чувств к Левину. Разочарование во Вронском даст Кити возможность отказаться от московского блеска и уехать с Левиным в его имение. Как тонко и как естественно разматывает Толстой свой клубок!
Мать Кити, княгиня Щербацкая, размышляет о будущем своей дочери в одном из бессвязных внутренних монологов, языком которых Толстой повествует о семейных историях. Как все было проще в старые добрые времена! – и тут мы вновь сталкиваемся с главной темой «Анны Карениной» – проблемой брака в современном обществе. У Щербацких появляется Левин, чтобы сделать Кити предложение:
«Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:
– Этого не может быть… простите меня…
Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!
– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее.
Он поклонился и хотел уйти».
Поразительная корректность делает этот фрагмент одним из тех пассажей, что не поддаются анализу. Он пронизан тактом и девственной грацией. Но толстовское видение непоколебимо в своей честности и даже суровости, когда речь идет о путях души. Кити толком не осознает, почему предложение Левина наполнило ее счастьем. Но сам факт смягчает пафос ситуации и оставляет смутные надежды на будущее. В напряженности и достоверности этого эпизода есть нечто от лучших моментов Д.Г. Лоуренса.
В следующей главе (XIV) Толстой сталкивает двух соперников лицом к лицу и углубляет тему любви Кити, адресованной всем сразу. Зрелость и убедительность его искусства видны в каждой детали. Когда графиня Нордстон – говорливая кумушка – начинает поддразнивать Левина, Кити полуосознанно пытается его защитить, и это несмотря на то, что тут же присутствует Вронский, на которого она смотрит с непритворным счастьем. Вронский показан в самом выгодном свете. Левин без труда понимает все положительные и притягательные качества своего удачливого соперника. Мотивы здесь не менее тонкие и разветвленные, чем в какой-нибудь сцене из Джейн Остин; одного неверного штриха или просчета в темпе оказалось бы достаточно, чтобы все настроение сцены рухнуло бы в трагизм или позу. Но над всеми этими тонкостями всегда виден твердый взгляд, Гомерово чувство реальности вещей. В обращенном к Левину взгляде Кити нельзя не прочесть: «Я так счастлива!», а в его взгляде – «Я ненавижу их всех, и тебя, и себя». Но поскольку его горечь передана без всякой сентиментальности или искусственности, она человечна сама по себе.
Званый вечер завершается в одном из тех семейных «интерьеров», которые наделяют Ростовых или Щербацких столь бесподобной «реальностью». Отец Кити предпочитает Левина и инстинктивно чувствует, что у варианта с Вронским нет будущего. Выслушав супруга, княгиня начинает колебаться:
«И, вернувшись к себе, она, точно так же, как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!»
Это – неожиданная и мрачная нота, и именно с нее повествование весьма естественно переходит к главному сюжету.
Вронский отправляется на вокзал, чтобы встретить мать, которая должна приехать из Петербурга. Там он сталкивается с Облонским, поскольку Анна Каренина едет тем же поездом. Трагедия начинается на вокзальной платформе, там же она и завершится (о роли перронов в жизни и творчестве Толстого и Достоевского можно написать отдельный труд). Мать Вронского и очаровательная госпожа Каренина ехали вместе, и Анна при знакомстве с графом говорит ему: «Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне». Эта реплика – один из самых грустных и тонких штрихов во всем романе. Реплика старшей по возрасту женщины, адресованная сыну ее приятельницы, мужчине моложе нее и, можно сказать, не принадлежащему ее поколению. В этом и кроется катастрофа отношений между Анной и Вронским и глубинная двойственность этой катастрофы. Вся последующая трагедия выражена единственной фразой, и своим гением, способным это реализовать, Толстой встает в один ряд с Гомером и Шекспиром.
Вронские и Анна со Стивой идут к выходу, и тут происходит несчастный случай: «Сторож, был ли он пьян, или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его задавили». (Спокойное перечисление двух альтернатив характерно для Толстого). Облонский рассказывает, сколь ужасно выглядел погибший, слышны голоса обсуждающих, мучительной ли была смерть. Вронский полутайком передает двести рублей в помощь вдове. Но его жест не вполне чист; он, возможно, смутно надеется, что поступок впечатлит госпожу Каренину. Хотя происшествие быстро забывается, атмосфера остается омраченной. Это чем-то напоминает мотив смерти в увертюре к «Кармен», отзвуки которого остаются еще долго после поднятия занавеса. Поучительно сравнить использование этого основополагающего инструмента у Толстого и в «Мадам Бовари», где уже в начальных главах есть намеки на мышьяк. Толстовская версия менее тонка, но более внушительна.
Анна приезжает к Облонским, и мы погружаемся в горячий, комический водоворот Доллиного негодования, которое все более сменяется прощением. Тому, кто усомнится в наличии у Толстого чувства юмора, следует посмотреть, как Анна отправляет своего раскаявшегося, но смущенного брата к жене: «“Стива, – сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая на дверь глазами. – Иди, и помогай тебе бог”». Анна остается с Кити, и они говорят о Вронском. Анна хвалит его тоном старшей женщины, подбадривающей влюбленную девушку: «Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть». Разумеется, так оно и есть.
В этих предварительных главах Толстой с одинаковым мастерством раскрывает две стороны одной темы. Нюансы и оттенки индивидуальной психологии передаются с высочайшей точностью. Манера изложения близка к психологической мозаике, которая у нас ассоциируется с Генри Джеймсом и Прустом, и радикально от нее не отличается. Но в то же время громко бьется пульс физической энергии и жеста. Сильно передана материальная природа опыта, она окружает и в некотором роде очеловечивает жизнь разума. Лучше всего это видно в финале главы ХХ. Изощренный и плотно выстроенный диалог между Анной и Кити завершается на тревожной ноте. Кити кажется, что Анна «чем-то недовольна». В этот момент в комнату вбегают дети:
«“Нет, я прежде! нет, я!” – кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне.
“Все вместе! – сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей…»
Мотивы здесь очевидны; Толстой вновь подчеркивает возраст Анны, ее зрелый статус, ее лучащееся обаяние. Изумляешься легкостью перехода от богатой внутренней игры предшествующего диалога к яркому скачку физической активности.
Кратко наведывается Вронский, но отказывается от приглашения присоединиться к семейному кругу. Кити думает, что он пришел из-за нее, но не стал показываться, «оттого что думал – поздно, и Анна здесь». Она смутно встревожена, как и сама Анна. На этой минорной и неясной ноте начинается трагедия обмана, в чьи сети Анне суждено попасть: этот обман ее в итоге погубит.
В Главе XXII мы оказываемся на балу, где Кити – словно новая Наташа Ростова – ожидает, что граф Вронский признается ей в любви. История чудесно выписана, и на ее фоне танцевальный вечер в Вобьесаре из «Мадам Бовари» смотрится тяжеловесно. Дело не в том, что Кити более духовно одарена, чем Эмма; на этой стадии романа она – заурядная молодая женщина. Разница обусловлена углом зрения двух писателей. Флобер отступает на шаг от своего холста и с холодной недоброжелательностью рисует вытянутой рукой. Даже в переводе мы чувствуем, что он гонится за особыми эффектами света и ритма:
«Слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор».
Ироническая дистанция сохраняется, но видение в целом бедно и неестественно. В «Анне Карениной» с ее всеведущим рассказчиком единого угла зрения нет. Мы видим бал через внезапное отчаяние Кити, через ошеломленную очарованность Анны, видим в свете нарождающейся страсти Вронского и глазами Корсунского, «кавалера по бальной иерархии». Обстановка и персонажи неотделимы друг от друга, каждая деталь – и в этом Толстой резко отличается от Флобера – присутствует не ради себя самой и не ради создания атмосферы, а в качестве драматически важного элемента. Китиным страдающим взглядом наблюдаем мы, как Вронский поддается чарам Карениной. Именно юная княжна с ее смущением и стыдом доносит до нас всю силу обаяния Анны. Во время мазурки Анна смотрит на Кити «прищурившись». Это – мелкая деталь, но она с высочайшей точностью концентрированно передает лукавство Анны и ее потенциальную жестокость. Художник меньшего ранга показал бы Анну глазами Вронского. Но Толстой следует примеру Гомера, который предоставил хору стариков перечислять и превозносить блестящие достоинства Елены. В обоих случаях косвенный взгляд более убедителен.
В следующих главах Толстой углубляет образ Левина, и мы получаем возможность кратко взглянуть на него в его имении, в его естественной стихии – посреди темных полей, березовых чащ, агрономических проблем и угрюмого покоя земли. Контраст с балом – намеренный, он указывает на главную раздвоенность темы романа: Анна, Вронский и общественная жизнь города; Левин, Кити и вселенная природы. Впоследствии эти два лейтмотива будут приведены в гармонию и получат развитие в сложных конфигурациях. Но прелюдия как таковая завершена, и в последних пяти главах первой части начинается главный конфликт – трагический агон.
Анна – на пути к мужу в Петербург. Она садится в поезд и читает английский роман, с тоской сопоставляя себя с героиней. Этот эпизод – как и знаменитая сцена из следующей главы, – похоже, непосредственно отражает память Толстого о «Мадам Бовари». Поезд останавливается на станции в разгар вьюги, и Анна в состоянии возвышенного волнения выходит на «снежный, морозный воздух». Вронский, который, оказывается, следовал за ней, признается в своей страсти: «Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком». Как просто и даже архаично разделяет Толстой человеческий дух на душу и рассудок! Флобер никогда не написал бы такого предложения; но в его утонченности лежит и его ограниченность.
Поезд прибывает на вокзал; Анна сразу замечает Алексея Александровича Каренина: «“Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?” – подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы». Разве это не толстовская версия Эммы Бовари, когда та обнаружила, что Шарль при еде издает неприличные звуки? Дома Анна замечает, что сын не вызывает у нее такого восторга, как она ожидала. Ее способности к различению и нравственные критерии уже начали деформироваться под влиянием страсти, которую она пока осознает лишь частично. Чтобы усилить ощущение остроты разъединения между Анной и средой, куда она вернулась, Толстой вводит графиню Лидию, одну из елейных и ограниченных знакомых Каренина. Но в тот самый момент, когда мы ожидаем, что Анна сейчас раскроется, пробудится к новой жизни, жар спадает. Она обретает спокойствие и удивляется, почему ее эмоции разыгрались по столь банальному и тривиальному поводу, как мимолетный флирт с элегантным молодым офицером.
В вечерней тишине Каренины – вместе. Алексей со своей жесткой честностью отмечает, что находит выходку Облонского непростительной. Его слова – как вспышка молнии на горизонте, но Анна принимает их и радуется его прямоте. В полночь Каренин приглашает Анну в спальню. Мелкие штрихи – его домашние туфли, книга под мышкой, точность часа – показывают нам, что в физических отношениях Карениных царит монотонность. Когда Анна входит в спальню, «огонь» кажется «потушенным в ней или где-то далеко припрятанным». Образ этот в данном контексте приобретает чрезвычайную силу; но даже когда Толстой наиболее пристально рассматривает тему секса, его гений остается целомудренным. Как вспоминал Горький, даже самые грубые и конкретные слова из эротического языка в устах Толстого приобретали естественную чистоту. Ощущение эротической незавершенности в браке Анны реализовано в тексте в полной мере; но здесь даже близко нет никакого шнурка от корсета Эммы Бовари, который «свистел» вокруг ее бедер «скользящей змеей». Этот момент имеет некоторую важность, поскольку именно своим блестящим изложением физической страсти Толстой – во всяком случае, до поздних лет – более всего приближался к Гомеровому настрою.
Первая часть романа завершается на оживленной ноте. Вронский возвращается в свою квартиру и погружается в разгульную и амбициозную жизнь молодого офицера в имперском Петербурге. Толстой категорически отвергает подобный образ жизни, но он – слишком тонкий художник, чтобы не показать, насколько великолепно такая жизнь подходит Вронскому. Лишь самые последние предложения возвращают нас к трагической теме. Граф планирует поехать «в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи». Это с виду случайное замечание обладает пророческой точностью. Ибо впереди лежит тьма.
Еще много что можно сказать о первой части «Анны Карениной». Но даже беглого знакомства с тем, как заявлены и развиты основные темы, достаточно, чтобы разглядеть несостоятельность мифа, будто романы Флобера и Генри Джеймса – это произведения искусства, а романы Толстого – куски жизни, преобразившиеся в шедевры некоей сверхъестественной и не имеющей отношения к искусству некромантии. Р.П. Блэкмур указывает, что «“Война и мир” имеет все качества», предписанные Джеймсом, когда он призывал к «дышащей полной грудью экономности и естественности формы». Даже в большей степени это касается «Анны Карениной», где требования философии Толстого не настолько посягают на целостность его поэтического дара.
Если следить за развитием понятия естественного и органичного на начальных страницах «Анны Карениной», на ум то и дело приходят музыкальные аналогии. В развертывании двух главных линий «прелюдии» с Облонским содержатся контрапункт и гармония. В дальнейших главах (происшествие на вокзале, шутливый разговор Вронского и баронессы Шильтон о разводе, «красный огонь», слепящий глаза Анны) используются мотивы, повторяющиеся с растущей амплитудой. Но главное, присутствует впечатление множественности тем, подчиненных устремленному вперед импульсу грандиозного замысла. Метод Толстого полифоничен, но основные гармонии разворачиваются с колоссальной прямотой и широтой. Даже с малой степенью точности нельзя сравнивать лингвистическую технику с музыкальной. Но как еще растолковать ощущение, что романы Толстого растут из некой внутренней упорядоченности и жизненной энергии, в то время как романы меньших по рангу писателей кажутся сшитыми из кусков?
Но поскольку «Анна Каренина» – роман крупный по объему и поскольку он сразу устанавливает контроль над нашими эмоциями, обдуманность и утонченность частных деталей чаще всего от нас ускользают. В эпической поэзии и стихотворной драме метрическая форма концентрирует наше внимание, фокусирует его на конкретном пассаже, на той или иной строчке или повторяющейся метафоре. Читая объемную прозу (особенно в переводе), мы подчиняемся суммарному эффекту. Отсюда и мнение, что русских романистов следует воспринимать в целом, и что едва ли можно получить ощутимый результат, внимательно изучая их теми же методами, которые мы применяем к Конраду или, скажем, к Прусту.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?