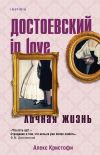Текст книги "Толстой и Достоевский: противостояние"
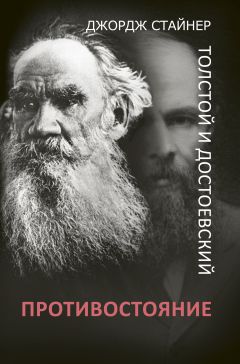
Автор книги: Джордж Стайнер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Как видно из толстовских черновиков и редакций, он много внимания уделял работе над конкретными задачами в повествовании. Но он никогда не забывал, что за технической виртуозностью, за «деланием красиво» лежит то, что именно нужно сделать красиво. Он осуждал «искусство ради искусства», полагая его эстетикой легкомыслия. И как раз то, что в прозе Толстого присутствует столь крупное и основополагающее мировоззрение, столь сложный гуманизм, столь ясный тезис о том, что великое искусство подходит к опыту с философских и религиозных позиций, – все это затрудняет попытки вычленить какой-либо отдельный элемент, отдельную сцену, метафору и сказать: «вот – толстовская техника».
В толстовских романах есть ключевые сцены– отступления: знаменитая косьба в «Анне Карениной», охота на волков в «Войне и мире», церковная служба в «Воскресении». В них есть сравнения и тропы, не менее тщательно выписанные, чем у Флобера. Вспомним, например, конфликт между светом и тьмой, давший название двум важным пьесам Толстого и пронизавший «Анну Каренину». В последнем предложении Седьмой части смерть Анны передается через образ свечи, вспыхнувшей на мгновение ярким светом и навсегда потухшей; в последнем предложении Главы XI в Восьмой части Левин ослеплен светом, когда к нему приходит понимание пути Господня. Это – намеренная перекличка; она разрешает двойственность эпиграфа из Павла и помогает согласовать две главные линии. Как всегда у Толстого, технический прием служит для передачи философии. Вся великая сумма замысла приводит к морали, которую Левин слышит от старого крестьянина: «Не для нужд своих жить, а для Бога».
Не претендуя на точное определение, Мэтью Арнольд говорил о «высокой серьезности», которая выделяет те или иные книги из некоторого числа шедевров. Он видел это в большей степени у Данте, нежели у Чосера. Возможно, мы сейчас ближе всего подошли к различию между «Мадам Бовари» и «Анной Карениной». «Мадам Бовари» – действительно великий роман; благодаря чудесному мастерству и художественному методу, исчерпывающему все потенциальные возможности темы, он убедителен. Но сама тема и степень нашего отождествления с ней остаются, в конечном счете, «историей слишком мелкой». В «Анне Карениной» мы выходим за пределы технического мастерства к ощущению самой жизни. Это произведение стоит в одном ряду (в том смысле, в каком этого нельзя сказать о «Мадам Бовари») с Гомеровыми эпопеями, пьесами Шекспира и романами Достоевского.
IV
Гуго фон Гофмансталь44 однажды отметил, что любая страница толстовских «Казаков» напоминает о Гомере. Его взгляд разделяют читатели не только «Казаков», но и творчества Толстого в целом. По воспоминаниям Горького, сам Толстой говорил о «Войне и мире»: «Без ложной скромности – это как “Илиада”», – и то же самое он сказал о «Детстве», «Отрочестве» и «Юности». Кроме того, Гомер и гомеровская атмосфера играли, по всей видимости, небезынтересную роль в толстовском образе собственной личности и творческого статуса. В своих воспоминаниях его шурин С.А. Берс пишет о «скачке на 50 верст» в самарском имении Толстого:
«Все местные и окрестные национальности, башкиры, киргизы, уральские казаки и русские мужики… Лев Николаевич заготовил призы: быка, лошадь, ружье, часы, халаты и т. п… Мы сами выбрали ровную поверхность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехалось несколько тысяч народу. Башкиры и киргизы приехали со своими кочевками, кумысом, котлами и даже баранами… На коническом возвышении, называемом по местному шишка, были разостланы ковры и войлоки, а на них кружком расселись башкиры с поджатыми под себя ногами… Пир длился два дня и отличался чинностью, порядком и оживлением…»
Это фантастическая сцена: перекинут мост через тысячелетия, отделяющие троянские степи от России XIX века, Песнь XXIII «Илиады» внезапно оживает:
… Ахиллес же
Там народ удержал и, в обширном кругу посадивши,
Вынес награды подвижникам: светлые блюда, треноги;
Месков представил, и быстрых коней, и волов крепкочелых,
И красноопоясанных жен, и седое железо.45
Словно Агамемнон, Толстой царственно восседает на холме; степь усеяна шатрами и кострами; башкиры и киргизы, подобно ахейцам, соревнуются на дистанции в пять верст и получают награды из рук царя-бородача. И здесь нет никакой археологии или надуманной реконструкции. Стихия Гомера была для Толстого естественной, укорененной в его собственном гении. Прочтите его антишекспировское эссе, и вы обнаружите, что его чувство сродства с автором – или авторами – «Илиады» и «Одиссеи» было ощутимым и непосредственным. Толстой говорил о Гомере как равный о равном; разделяющие их века не имели большого значения.
Что же в сборнике ранних воспоминаний Толстого кажется особо близким Гомеру? Думаю, это и окружающая обстановка, и стиль жизни, которые он воскрешает в памяти. Взглянем на «Охоту» из «Детства»:
«Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом… Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, – все это я видел, слышал и чувствовал».
В этом описании нет ничего такого, что нельзя было бы перенести на степи Аргоса. Это глядя из сегодняшнего дня, сцена выглядит чудно´ и архаично. Здесь – патриархальный мир охотников и крестьян: узы между хозяином, гончими и землей естественны и подлинны. В самом описании сочетается ощущение поступательного движения с чувством покоя; общий эффект – динамическое равновесие, как на фризах Парфенона. А за знакомым горизонтом – нехоженые леса, как за Геркулесовыми столбами – неведомые моря.
Мир толстовских воспоминаний – в не меньшей мере, чем у Гомера, – заряжен чувственной энергией. Осязаемое, зримое и обоняемое глубоко и ярко наполняют его каждую секунду:
«В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись как рак, раздувает Митька-форейтор; на дворе сыро и туманно, как будто пар поднимается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба, и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевиты от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцой отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка отворяет скрипящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада…»
Все было так же, когда «розоперстая Эос» приходила в Итаку двадцать семь веков назад. И так должно быть, провозглашает Толстой, если человек собирается существовать в единстве с землей. Даже гроза в своем одушевленном неистовстве делается частью общего ритма вещей:
«Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя…»
«… осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки… Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке…»
В своем эссе «Наивная и сентиментальная поэзия» Шиллер написал, что поэты или сами «становятся Природой», или «ищут утраченную природу».46 В этом смысле Толстой есть Природа; между ним и ее миром язык выступает не как зеркало или увеличительное стекло, а как окно, через которое льется свет, накапливаясь и обретая постоянство.
Невозможно в единой формулировке или иллюстрации сосредоточить все взаимосвязи между позициями Гомера и Толстого. Сюда включено слишком многое: архаичный и пасторальный антураж; поэтика войны и сельского хозяйства; первичность чувств и физического жеста; ясный, всепримиряющий фон чередования времен года; признание, что энергия и жизнь священны сами по себе; приятие простирающейся от грубой материи до звезд цепочки бытия, вдоль которой люди занимают назначенное им место; и, самый глубокий момент, – непременная гигиена души, решимость следовать, по выражению Кольриджа, «высокою стезей», а не темными окольными путями, чрезвычайно комфортными для гения условного Достоевского.
И в эпопеях Гомера, и в романах Толстого отношения между автором и персонажами носят парадоксальный характер. Жак Маритен47 в своей книге «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» проводит фомистскую аналогию. Он пишет об «отношениях между трансцендентной созидательной вечностью Бога и свободными тварями, следующими собственному выбору и в то же время неуклонно повинующимися Его предначертанию».48 Творец одновременно всеведущ и вездесущ, но он при этом отстранен, безучастен и безжалостно объективен. Гомеров Зевс взирает на битву со своей горной цитадели, он держит весы рока, но не вмешивается. Или, точнее, вмешивается, но лишь для того, чтобы восстановить равновесие, защитить переменчивость человеческой жизни от чудесного вмешательства извне или чрезмерного героизма. Ясное видение Гомера и Толстого – как и эта отстраненность Бога – жестоко и сострадательно.
У них такой же отсутствующий, обжигающий и непреклонный взгляд, как тот, что направлен на нас из прорезей в шлемах древнегреческих статуй. Их отношение было пугающе трезвым. Шиллера восхищала бесстрастность Гомера, его способность передать крайнюю степень скорби или ужаса абсолютно спокойным тоном. Шиллер считал, что это качество – он называл его «наивностью» – присуще именно ранним эпохам, и его невозможно было бы вновь воспроизвести в современной литературе с ее искусственностью и расчетом. Из этого качества Гомер черпал свои самые острые эффекты. Возьмем, например сцену из Песни XXI «Илиады», где Ахилл поражает мечом Ликаона:
«“… Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!
Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом;
Сын отца знаменитого, матерь имею богиню;
Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть;
Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень,
Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет.
Или копьем поразив, иль крылатой стрелой из лука”.
Так произнес, – и у юноши дрогнули ноги и сердце.
Страшный он дрот уронил и, трепещущий, руки раскинув,
Сел; Ахиллес же, стремительно меч обоюдный исторгши,
В выю вонзил у ключа, и до самой ему рукояти
Меч погрузился во внутренность; ниц он по черному праху
Лег, распростершися; кровь захлестала и залила землю».
Повествование почти бесчеловечно в своем спокойствии; но потом голый ужас охватывает нас и повергает в смятение. Кроме того, Гомер никогда не жертвует твердостью видения ради пафоса. Приам и Ахилл встречаются и изливают друг перед другом свои беды. Но затем они вспоминают о мясе и вине. Ибо – как Ахилл говорит о Ниобе:
«Пищи забыть не могла и несчастная матерь Ниоба,
Матерь, которая разом двенадцать детей потеряла».
И вновь мы видим сухую приверженность фактам и отказ поэта от внешнего проявления эмоций, чтобы передать горечь в его душе.
В этом отношении из писателей западной традиции нет никого ближе Гомеру, чем Толстой. Как отметил в своем дневнике (1887 г.) Ромен Роллан, «в искусстве Толстого отдельно взятая сцена не видится с двух точек зрения, ракурс только один: все вещи таковы, каковы они есть, и никак иначе». В «Детстве» Толстой вспоминает о кончине своей матери: «Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи», в том числе то, что сиделка была «молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка». Когда мать умирает, мальчик испытывает «какое-то наслаждение», зная, что он несчастлив. В ту ночь он спит «крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения». На следующий день ему предстоит узнать запах тлена:
«Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне и истину и наполнила душу отчаянием».
«Не отрывайте взгляд от света, – говорит Толстой, – вот и все».
Но твердая ясность гомеровской и толстовской позиции состоит не просто в отстраненности. Есть еще радость, та радость, которой искрятся «древние горящие глаза» мудрецов у Йейтса в «Ляпис-лазури». Ибо они любили и чтили человеческое в человеке; они любовались жизнью тела, когда она со спокойствием воспринята, но с пылкостью изложена. Более того, они интуитивно стремились устранить разрыв между духом и жестом, соотнести руку мечу, судно – водам океана, обод колеса – поющим дорожным камням. И Гомер в «Илиаде», и Толстой видели действие во всей целостности; вокруг персонажей дрожит воздух, а их внутренняя сила электризует неживую природу. Кони Ахилла оплакивают его неумолимый рок, а распустившийся дуб уверяет Болконского, что сердце еще оживет. Эта созвучность между человеком и окружающим миром распространяется даже на кубки, в которых Нестор после заката ищет мудрость, и на березовые листья, сверкающие внезапным буйством алмазов после грозы в поместье Левина. Ни Гомера, ни Толстого не останавливал барьер между разумом и объектом, двусмысленность, которую метафизики усматривают в самих понятиях «реальность» и «восприятие». Жизнь, словно море, неслась на них потоком.
И они наслаждались ею. Называя «Илиаду» «Поэмой о силе» и рассматривая ее как хронику о трагической тщетности войны, Симона Вейль49 права лишь отчасти. «Илиада» весьма далека от пессимистического нигилизма Еврипидовых «Троянок». У Гомера война – это доблесть и, в итоге, благородство. И даже в разгар кровопролития жизнь бьет ключом. У погребальной насыпи Патрокла троянские военачальники соревнуются в борьбе, беге и метании дротиков, прославляя свою силу и радуясь жизни. Ахилл знает, что судьба его предрешена, но еженощно его навещает «Брисеида, румяноланитная дева». В мирах Гомера и Толстого война и бренность сеют хаос, но главный стержень остается неизменным: жизнь сама по себе воистину прекрасна, труды и дни людей достойны увековечения, а любая катастрофа – будь то даже сожжение Трои или Москвы – еще не конец. Ибо вдали за обугленными башнями и полями брани катит волны свои винно-черное море, а когда Аустерлиц забудется, нивы вновь, по выражению Поупа, «засмуглеют на склоне».
Эта космология всецело выражена фразой Боссолы, когда он напоминает герцогине Мальфи,50 поносящей мироздание в отчаянном бунте: «А звезды как светили, так и светят!»51 Это жуткие слова, в них – отстраненность и суровое указание на то, что природа взирает на наши горести без всяких эмоций. Но если отвлечься от их жестокости, в этих словах выражена вера в то, что сиюминутный хаос пройдет, а жизнь и звездный свет пребудут вечно.
Гомер как автор «Илиады» и Толстой близки друг другу еще в одном аспекте. Изображение реальности у них антропоморфно; человек есть мера и главная движущая сила опыта. Более того, персонажи «Илиады» и толстовской прозы нам показаны в атмосфере глубоко гуманистической и даже мирской. Значение имеет только царство этого мира – здесь и сейчас. Тут, в некотором смысле, парадокс; в троянских степях дела смертных непрестанно путаются с делами богов. Но само схождение богов к людям, их беззастенчивая включенность в чисто человеческие страсти – все это придает произведению иронический оттенок. К этому парадоксальному мировоззрению обращается Мюссе, когда пишет о древней Греции в начальных строчках поэмы «Ролла»:
Когда еще была божественна земля
И были горести божественны земные;
Когда был сонм богов – зато среди людей
И слуху не было еще об атеистах…52
Вот именно: когда сонмы богов воюют в человеческих распрях, волочатся за смертными женщинами и ведут себя скандально даже по меркам самой либеральной этики, – тут никакого атеизма не нужно. Атеизм возникает в противовес живому и достоверному Богу, а мифология с комическим оттенком атеистической реакции не вызывает. В «Илиаде» божественное по своей сути человечно. Боги – это гиперболизированные смертные – причем зачастую в сатирическом ключе. При ранении их стоны громче людских, при влюбленности их вожделение более всепоглощающе, при бегстве от человеческих дротиков они резвее земных колесниц. Но в морально-интеллектуальном плане боги «Илиады» напоминают гигантских дикарей или зловредных детей, наделенных избыточной силой. Действия богов и богинь в Троянской войне увеличивают масштабы человека, ибо при равных шансах смертные герои более чем успешно удерживают сильные позиции, а если весы склоняются не в их пользу, условные Гектор или Ахилл демонстрируют, что в смертности есть свое величие. Понижая богов до уровня человеческих ценностей, «первый» Гомер не только добивается комического эффекта, хотя подобный эффект очевидно усиливает свежесть и «сказочность» поэмы. Он, скорее, подчеркивает превосходство и достоинство человека-героя. И именно это – главная тема его поэмы.
В «Одиссее» пантеон играет роль менее заметную, но вызывает больший трепет, а другая античная эпопея, «Энеида», и вовсе пронизана симпатией к религиозным ценностям и практике. Но «Илиада», хоть она и принимает мифологию сверхъестественного, обращается с ней иронично и очеловечивает ее материал. Подлинный центр веры лежит не на Олимпе, а в признании Мойры, непреклонной судьбы, которая своими явно слепыми казнями утверждает принцип справедливости и равновесия. Религиозность Агамемнона и Гектора состоит в приятии рока, в вере, что спонтанные порывы к гостеприимству священны, в почитании назначенного богами часа или места и в смутной, но неотступной вере, что гнев богов – причина движения звезд или упрямства ветра. В остальном же действительность имманентна миру человека и его чувств. Не знаю более подходящего слова, чтобы выразить нетрансцедентальность и безусловную «физичность» «Илиады». Ни одна другая поэма сильнее не спорит со словами «мы созданы из вещества того же, что наши сны».53
И именно здесь лежат важные точки ее соприкосновения с искусством Толстого. Его реализм тоже имманентен – в мире, основанном на соответствии наших чувств действительности, Бог странным образом отсутствует. В Главе 4 я попытаюсь показать, что подобное отсутствие не только увязано с религиозным смыслом толстовских романов, но и составляет скрытую аксиому толстовского христианства. Сейчас же достаточно сказать, что за литературной техникой «Илиады» и Толстого стоит более или менее одинаковая вера в центральное место персонажа-человека и в непреходящую красоту окружающей природы. В случае с «Войной и миром» аналогия даже полнее; там, где «Илиада» напоминает о законах Мойры, Толстой излагает свою философию истории. В обоих произведениях хаотичность битвы символизирует повышенную степень случайности в человеческой жизни. И мы считаем роман «Война и мир» героической эпопеей в подлинном смысле именно потому, что война в нем – как и в «Илиаде» – изображена в своем блеске, в своей радостной свирепости и в своем пафосе. Никакой толстовский пацифизм не может отменить восторг юного Ростова, когда тот бросается на отставших от части французов. Наконец, дело еще и в том, что в «Войне и мире» речь идет о двух народах – даже, скорее, о двух мирах, – схлестнувшихся в смертельной схватке. Уже одно это дает повод многим читателям – да и самому Толстому – сравнивать «Войну и мир» с «Илиадой».
Но ни военная тема, ни изображение судеб народов не должны помешать нам разглядеть антигероичность философии романа. В книге есть моменты, где Толстой настойчиво проповедует, что война – это бессмысленное кровопролитие, результат тщеславия и недалекости высших кругов. Кроме того, в некоторых фрагментах Толстой занят исключительно поисками «истинной правды» в противовес правде мнимой, утверждаемой официальными историками и мифографами. Его латентный пацифизм, его поиски исторических свидетельств – все это не находит параллелей с позицией Гомера.
«Война и мир» теснее всего приближается к «Илиаде» в тех местах, где не столь проявлена философия этого романа, где, выражаясь словами Исайи Берлина, лиса меньше всего старается быть ежом. В действительности, близость Толстого к Гомеру лучше проявляется в менее многоаспектных произведениях – в «Казаках», в кавказских повестях, в зарисовках о Крымской войне и в зловещей серьезности «Смерти Ивана Ильича».
Но не будет преувеличением, если мы подчеркнем, что сродство между автором «Илиады» и русским романистом состоит в близости их темперамента и видения; и вопрос о подражании Толстого Гомеру здесь не стоит (разве что, в мелких отдельных случаях). Скорее, могло случиться, что Толстой, обратившись, когда ему было уже за сорок, к греческому оригиналу Гомеровых поэм, с удивлением обнаружил родственную душу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?