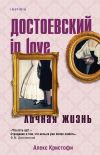Текст книги "Толстой и Достоевский: противостояние"
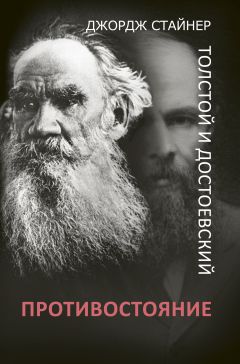
Автор книги: Джордж Стайнер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
V
За исключением гоголевских «Мертвых душ» (1842), гончаровского «Обломова» (1859) и тургеневского «Накануне» (1859), расцвет русской прозы пришелся на период от отмены крепостного права в 1861 году до первой революции 1905 года. По творческой мощи и частоте проявления гения эти сорок четыре года могут сравниться с Афинами времен Перикла и с Англией времен Елизаветы и Иакова. То время считается одной из высочайших эпох человеческого духа. При этом несомненно, что русский роман был зачат под единым знаком исторического Зодиака – знаком надвигающегося переворота. От «Мертвых душ» и до «Воскресения» (главный образ здесь проявляется, даже если просто наложить два заголовка друг на друга) русская литература отразила грядущий апокалипсис:
«она полна предчувствий и предсказаний, ей свойственна тревога о надвигающейся катастрофе. Многие русские писатели XIX века чувствовали, что Россия поставлена перед бездной и летит в бездну. Русская литература XIX века свидетельствует о совершающейся внутренней революции, о надвигающейся революции».36
Взглянем на главные романы: «Мертвые души» (1842), «Обломов» (1859), «Отцы и дети» (1861), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868-9), «Бесы» (1871-2), «Анна Каренина» (1875-7), «Братья Карамазовы» (1879-80) и «Воскресение» (1899). Это – пророческая серия книг. Даже роман «Война и мир», который придерживается, скорее, мейнстрима, завершается намеком на предстоящий кризис. С проницательностью ветхозаветных провидцев русские писатели XIX столетия осознавали надвигающуюся бурю и провозвещали ее. Нередко – как это было в случае с Гоголем и Тургеневым – пророчества шли вразрез с их собственными социально-политическими инстинктами. Но их представления подавлялись неизбежностью беды. Фактически русская литература – это расширенная интерпретация знаменитых слов Радищева, произнесенных в XVIII веке: «Душа моя страданиями человеческими уязвлена стала».
Ощущение преемственности и навязчивого видения можно передать, немного пофантазировав (это лишь игра воображения). Легендарная гоголевская тройка несется вперед через землю мертвых душ; герой Гончарова осознает, что ему нужно подняться и перехватить вожжи, но он фаталистически отказывается; в одном из городков «N-ского уезда», хорошо знакомого читателям русской прозы, тургеневский Базаров взял в руки плеть; в нем проявляется будущее – очистительное и смертоносное завтра; зараженные безумием и стремящиеся пустить тройку в бездну Базаровы являют собой тему «Бесов»; в нашей аллегории имение Левина из «Анны Карениной» может служить образом кратковременной передышки, где можно было бы проанализировать и, осмыслив, разрешить все проблемы; но поездка уже достигла точки невозврата, и нас несет к трагедии Карамазовых, которая – в масштабе частной жизни – предвосхищает грандиозное отцеубийство революции. В итоге мы доходим до «Воскресения» – странного, несовершенного и всепрощающего романа, чей взгляд устремлен за границы хаоса, навстречу грядущей благодати.
Маршрут этой поездки лежит через мир слишком бесформенный и трагический для инструментов европейского реализма. В письме Майкову, написанному в декабре 1868 года (у меня еще будет повод к нему вернуться), Достоевский восклицал:
«Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм!..»
Имевшаяся в распоряжении русских писателей XIX века реальность и впрямь была фантастической: ужасающий деспотизм; церковь, снедаемая апокалиптическими ожиданиями; невероятно одаренная, но лишенная корней интеллигенция, ищущая спасения или за границей, или среди дремучих крестьянских масс; легион изгнанников, звонящих в свой «Колокол» (журнал Герцена), или высекающих свою «Искру» (газета Ленина) в Европе, которую они одновременно любят и презирают; исступленные споры между славянофилами и западниками, популистами и прагматиками, реакционерами и нигилистами, атеистами и верующими; и нависающее над всеми этими настроениями, подобно одной из чудесных тургеневских летних гроз, – предчувствие катастрофы.
По качеству и способам выражения это предчувствие носило религиозный характер. Белинский писал, что вопрос существования Бога был первостепенной и всеопределяющей точкой сосредоточения русской мысли. Как отметил Мережковский, проблема Бога и Его природы поглощала русский народ «от “жидовствующих” XV века» до современности. Иконография Спасителя и эсхатология Откровения придавали политическим дебатам экстравагантный и лихорадочный привкус. Тень тысячелетних ожиданий простерлась над подавляемой культурой. Во всей русской политической мысли – в высказываниях Чаадаева, Киреевского, Нечаева, Ткачева, Белинского, Писарева, Константина Леонтьева, Соловьева и Федорова – царствие Божие пугающе близко подошло к меркнущему царству человека. Русский разум был, в буквальном смысле, преследуем Богом.
Отсюда и радикальная разница между литературой XIX века в Западной Европе и России. Традиция Бальзака, Диккенса и Флобера имела светский характер. Искусство Толстого и Достоевского было религиозным. Оно рождалось в атмосфере, пронизанной религиозным опытом и верой в то, что России предначертано сыграть заметную роль в надвигающемся апокалипсисе. Толстой и Достоевский не в меньшей мере, чем Эсхил или Мильтон, относились к тем, чей гений попал в руки живого Бога. Для них, как и для Кьеркегора, человеческий удел – это «или-или». Их произведения, таким образом, не могут быть верно истолкованы в том же ключе, что «Миддлмарч»37 или «Пармская обитель». Мы имеем дело с иной техникой и иной метафизикой. «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» – это, если угодно, романы или поэмы ума, но центральную роль в них играет идея, которую Бердяев называл искательством «всеобщего спасения».
Еще один пункт нуждается в пояснении: в настоящей книге я обращаюсь к работам Толстого и Достоевского с помощью перевода. Это означает, что она может оказаться не слишком полезной для тех, кто изучает русский или историю славянских языков и литератур. Надеюсь, что ни в одном из фрагментов книги, написанной благодаря их трудам и текстам, они не увидят грубых ошибок. Но книга не предназначена – и не может быть предназначена – для них. Как, по всей вероятности, и посвященные русскому роману работы Андре Жида, Томаса Манна, Джона Коупера Поуиса и Р.П. Блэкмура. Я привожу эти имена не из-за отсутствия скромности, а лишь для иллюстрации общей истины: критика порой может позволить себе свободы, которых филология или история литературы допустить не могут, поскольку те рискуют оказаться губительными для их целей. Переводы – чудовищные предатели, в большей или меньшей степени. Но именно в них мы черпаем то, что можем – и даже должны – почерпнуть о книгах, написанных на чужих языках. По крайней мере, в прозе мастерство зачастую способно пережить такую измену. Критика, привязанная к этой проблеме и отдающая себе в этом отчет, все равно имеет ценность, пусть и ограниченную.
Кроме того, Толстой и Достоевский – тема безграничная. Как писал Т.С. Элиот по поводу Данте, об авторах такого уровня у критика всегда есть надежда «написать что-либо значительное, в то время как, если взять авторов меньшего масштаба, потребуется подробнейший текст уже для одного только подтверждения, что писать о них вообще стоило».
Часть 2
С поэтами – то же, что с лицемерами: они защищают любые свои дела, но совесть никогда не оставляет их в покое
Из письма Расина Левассеру, 1659 или 1660 г.
I
Литературная критика с незапамятных времен стремилась к объективным канонам, к жестким и, в то же время, универсальным принципам суждения. Но при взгляде на ее многоплановую историю возникает вопрос: было ли – и может ли вообще быть – подобное стремление реализовано? И другой вопрос: являют ли собой доктрины критики нечто большее, чем вкус и восприимчивость того или иного гения, взгляды какой-либо школы, временно навязанные духу эпохи силой изложения? Когда произведение искусства проникает в наше сознание, что-то внутри нас воспламеняется. И далее мы пытаемся выделить и сформулировать исходный импульс узнавания. Умелый критик делает доступным для нашего разума и осмысленного подражания то, что изначально выглядело туманным и догматичным. Это и имел в виду Мэтью Арнольд, говоря о своих «пробирных камнях», или А.Э. Хаусман,38 когда заявлял, что при встрече с подлинно поэтической строчкой у него встает дыбом борода. В духе современной моды – осуждать принципы интуитивного и субъективного суждения. Но разве не отличаются они глубочайшей честностью?
Бывают моменты, когда непосредственный отклик видится настолько убедительным, настолько «правильным», что дальше него мы уже не идем. Некоторые впечатления оказываются самыми сильными именно из-за своей очевидной простоты. Они превращаются в освященные пылью предметы мебели нашего разума, о которых мы вспоминаем, лишь натыкаясь на них, задумавшись или в нездоровье. Наглядная иллюстрация – общепринятое представление об эпической природе романов Толстого. Толстой и сам пестовал эту точку зрения, и она вошла в список литературоведческих клише. Там она смотрелась вполне уместно и прижилась настолько хорошо, что попытка точно определить – а что, собственно, за этим стоит, – сделалась довольно непростой задачей. Что именно мы имеем в виду, говоря об «эпичности» «Войны и мира» и «Анны Карениной»? Что имел в виду сам Толстой, говоря о справедливости сравнения «Детства», «Отрочества» и «Юности» с «Илиадой»?
Несложно понять, откуда впервые возникло такое употребление слова «эпический». Его стилистические и мифологические коннотации получили широкое распространение в XVIII веке. Границы охвата этого термина размывались вплоть до того, что мы теперь можем говорить об «эпическом ландшафте» или «эпическом величии» в музыкальном контексте. Для современников Толстого понятие эпического вызывало закономерные ассоциации с масштабностью и серьезностью, с широким временным охватом, с героизмом, со спокойствием и прямотой повествования. Язык критики в области реалистической прозы не выработал никакого соответствующего термина сравнимой адекватности. Слово «эпический» само по себе представлялось достаточно ясным и исчерпывающим для характеристики толстовского романа или того же «Моби Дика».
Но те, кто назвал Толстого «эпическим романистом», даже не подозревали, насколько они правы. Они употребляли этот эпитет, в свободном смысле воздавая должное объемности его книг и архаичной величественности его личности. На самом деле это понятие в точности и по существу соответствует замыслам Толстого. «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Казаки» – все эти произведения заставляют вспомнить эпическую поэзию не в силу неких смутных ассоциаций, а потому, что Толстой сам подразумевал вполне определенные аналогии между своим искусством и искусством Гомера. Мы настолько сильно поверили ему на слово, что стали редко задаваться вопросом – как он достиг своей цели, и насколько вообще возможно проследить родство между художественными формами, которые разделены почти тремя тысячелетиями и бесчисленными революциями духа. Кроме того, почти никто не обращает внимание на соответствия между эпической манерой Толстого и его анархической версией христианства. Но эти соответствия реально существуют. Отмечая, что в толстовской прозе многое перекликается с тоном и традициями «Илиады», и цитируя слова Мережковского о том, что душа у Толстого – «урожденная язычница», мы говорим о двух аспектах единой фигуры.
Естественным казалось бы начать с «Войны и мира». Ни одно прозаическое сочинение не представляется современному читателю более очевидно и блестяще выражающим эпическую традицию. Этот роман повсеместно признается как русская национальная эпопея, и он изобилует эпизодами – такими, например, как знаменитая охота на волков, – которые с неизбежностью заставляют сравнивать Толстого с Гомером. Более того, сам Толстой задумывал свой труд, открыто имея в виду Гомеровы поэмы. В марте 1865 года он рассуждал о «поэзии романиста». В своем дневнике он отмечал, что эта поэзия может рождаться из разных составляющих. Одна из них – это «картина нравов, построенных на историческом событии, – “Одиссея”, “Илиада”, “1805 год”». Тем не менее, «Война и мир» – случай особой сложности. Эта книга пронизана антигероической философией истории. Ее широкий размах и высокая ясность исторических предпосылок мешают нам разглядеть внутренние противоречия. Этот роман очевидно важен для изложения моей концепции, но он не позволяет изложить ее в максимально прямолинейной форме. Поэтому я предлагаю вычленить некоторые характерные и основополагающие элементы толстовского «эпического» искусства, остановившись на «Анне Карениной» и «Мадам Бовари».
Это классическое сопоставление, и у него своя история. Когда появилась «Анна Каренина», стали думать, что Толстой выбрал тему адюльтера и самоубийства как вызов флоберовскому шедевру. Это слишком упрощенный взгляд. Толстой читал «Мадам Бовари»; он как раз находился в Париже в то самое время, когда роман публиковался в «Ревю де Пари» (1856-57), и он был близок тому самому литературному кругу, который страстно интересовался романом Флобера. Но из записей Толстого нам известно, что мотив адюльтера и мести поглощал его мысли еще в 1851 году, и что реальный импульс к написанию «Анны Карениной» возник лишь в январе 1872-го после самоубийства Анны Степановны Пироговой, случившегося неподалеку от толстовского имения. В целом можно сказать одно: автор «Анны Карениной» был осведомлен о ее предшественнице.
Оба романа – шедевры, каждый по-своему. Золя называл «Мадам Бовари» подведением итогов реализма, величайшей по гениальности работой в традиции, восходящей к реалистам XVIII века и к Бальзаку. Ромен Роллан считал, что это – единственный французский роман, сопоставимый с Толстым «по мощности передачи жизни и по жизненной полноте». Однако в обоих пунктах эти два романа ни в коем случае не равны; «Анна Каренина» несравненно более велика – по своим масштабам, своему гуманизму, по техническому исполнению. Сходство некоторых основных линий лишь усиливает наше ощущение, что это – две разные величины.
Первым, кто систематически подошел к сравнению этих двух книг, был Мэтью Арнольд в своем труде о Толстом, к которому последний отнесся благожелательно. Идеи Арнольда о разнице между «Анной Карениной» и «Мадам Бовари» позднее получили широкое хождение. Описывая контраст между формальной строгостью Флобера и бессистемной, кажущейся неконтролируемой конструкцией Толстого, Арнольд отмечает:
«Истина состоит в том, что мы не должны воспринимать “Анну Каренину” как произведение искусства; нам следует считать ее куском жизни… и там, где роман Толстого теряет в искусстве, он приобретает в реальности».
Отталкиваясь от совершенно иных предпосылок, Генри Джеймс утверждал, что толстовская проза не смогла адекватно отобразить жизнь именно из-за неспособности достичь того формального мастерства, которым славился Флобер. Говоря о Дюма и Толстом (это сопоставление уже само по себе подрывает ответственность суждения), Джеймс в предисловии к переработанному изданию «Трагической музы» задает вопрос:
«Какой художественный смысл несут в себе эти рыхлые мешковатые монстры с их сомнительными элементами случайного и произвольного? Мы слышали мнение… будто подобные вещи “выше искусства”; но смысл этого мы понимаем еще меньше… Жизнь жизни рознь, но сбрасывают со счетов и приносят в жертву за ненадобностью именно жизнь, которой я любуюсь, наслаждаясь дышащей полной грудью экономностью и естественностью формы».
Оба эти подхода основаны на глубоко ошибочном понимании. Арнольд поддается смешению категорий, проводя границу между «произведением искусства» и «куском жизни». Джеймс ни за что не позволил бы себе столь бессмысленное разделение, но он не смог разглядеть, что роман «Война и мир» (которому и были посвящены его замечания) – как раз и есть тот самый пример «дышащей полной грудью экономности естественной формы». Ключевое слово здесь – «естественность» с его оттенками, подразумевающими «живое». Оно дает точное определение того, в чем «Анна Каренина» превосходит «Мадам Бовари»: в ней жизнь дышит глубже. Если мы все же воспользуемся коварной терминологией Арнольда, то скажем, что толстовский роман – это произведение искусства, а флоберовский – кусок жизни, отмечая оттенки мертвенности и фрагментарности в слове «кусок».
Бытует известная история о Флобере и Мопассане. Наставник попросил ученика выбрать дерево и описать его с такой четкостью, чтобы читатель не смог перепутать его ни с одним другим деревом в округе. В этом предписании просматривается радикальный изъян натуралистической традиции. Ведь, чтобы выполнить задание, Мопассану пришлось бы просто-напросто взять на себя функции фотографа. Образы высохшего и цветущего дуба у Толстого – противоположный пример того, как достигается живой реализм через магию и высшую свободу искусства.
Характеристики физических предметов занимали одно из центральных мест в видении Флобера. Для них он не жалел точности и всех огромных ресурсов своего языка. В начале романа мы видим описание фуражки Шарля Бовари:
«Она представляла собой сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, – словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел».39
Этот чудовищный головной убор был навеян Флоберу карикатурой Гаварни, которую он увидел в Египте, в гостинице некоего Буваре. Сама фуражка в повествовании больше не появляется и играет весьма несущественную роль. Некоторые критики полагают, что она символизирует натуру Шарля Бовари и предвосхищает его трагедию. Это представляется надуманным. Внимательно читая этот пассаж, нельзя избавиться от подозрения, что его сочинили просто из любви к искусству вместе с другими гениальными и неослабными атаками на видимую действительность, с помощью которых Флобер стремился загнать жизнь в оковы языка. Знаменитое описание входной двери в «Евгении Гранде» имело цель поэтическую и гуманистическую: дом как внешнее одушевленное лицо его обитателей. Подробный же рассказ о фуражке Шарля Бовари выходит за рамки доступных пониманию целей. Это – кусок жизни, посягающий – сарказмом и нагромождением деталей – на экономность искусства.
Ни одного аналогичного примера из всей обширной панорамы толстовского мира на ум не приходит. Единственный элемент из флоберовского описания, который Толстой, пожалуй, сохранил бы, – это последнее предложение: «Фуражка была новенькая, ее козырек блестел». В толстовском романе физические объекты – платья Анны Карениной, очки Безухова, постель Ивана Ильича – получают смысл своего существования и свою цельность из человеческого контекста. В этом Толстой глубоко близок Гомеру. Как отметил – возможно, первым из всех – Лессинг, предметы в «Илиаде» неизменно даны в динамике. Меч – всегда часть разящей руки. Даже столь важный атрибут, как Ахиллов меч. Мы наблюдаем его в процессе ковки. Размышляя на этот счет, Гегель выдвинул замечательную теорию: он предположил постепенное отчуждение языка от непосредственности материального мира. Он отметил, что у Гомера даже детальные изображения бронзовой чаши или плота особой конструкции излучают жизненность, не имеющую равных в современной литературе. Гегель задавался вопросом, не случилось ли так, что полупромышленный и промышленный способы производства привели к отчуждению людей от орудий труда и от окружающей их жизнь обстановки. Доказательству этой глубокой гипотезы немало страниц посвятил Лукач. Но какими бы ни были исторические причины, Толстой связал всю внешнюю реальность теснейшим родством. В его мире – как и в мире Гомера – фуражки обретают значимость и включаются в произведение, только если они покрывают людские головы.
Характерные технические приемы «Мадам Бовари» – использование редких слов и специальных терминов, преобладание формального описания, намеренная ритмика внутри артикулированной прозы, тщательно проработанная композиция, которая позволяет важным эпизодам (таким, как бал, например) подготавливаться и завершаться повествовательным речитативом, – все эти приемы характерны не только для личного гения Флобера, но и в целом для концепции искусства, которой в своих наблюдениях придерживаются Мэтью Арнольд и Генри Джеймс. Это – инструменты, посредством которых реализм старается зафиксировать – с неумолимой доскональностью – тот или иной фрагмент современной жизни. Значимость или привлекательность этого фрагмента практически не имеют значения (смотрите романы Гонкуров). Главное – точность изображения. При этом маловажность предмета компенсируется его сложностью: Золя, надо сказать, был способен даже расписание поездов сделать достойным повторного чтения. Но в случае с Флобером все не так однозначно. Несмотря на мастерство, с которым написана «Мадам Бовари», и на все труды, которых Флобер не пожалел, роман оставил его неудовлетворенным. Создавалось ощущение, что в глубине крепкой прекрасной структуры книги лежит принцип отрицания и тщетности. Флобер в письме Луизе Коле писал о своем глубоком огорчении от осознания того, что даже если эта работа «будет выполнена безупречно, результат все равно окажется лишь приемлемым и далеким от красоты в силу самого предмета». Эти слова – очевидное преувеличение. Быть может, Флобер неосознанно мстил себе за книгу, которая стоила ему необыкновенных мук. Но, тем не менее, по сути он был недалек от истины. В этом шедевре реалистической традиции – атмосфера духоты и бесчеловечности.
Мэтью Арнольд назвал «Мадам Бовари» «книгой о застывших чувствах». Он писал, что в ней «нет ни одного персонажа, радовавшего бы нас или утешавшего…» По его словам, причина может скрываться в отношении Флобера к Эмме: «Он жесток, и это – жестокость застывших чувств… он преследует ее беспощадно и безостановочно, словно злонамеренно». Это написано в противовес жизненной и человечной «Анне Карениной». Но возникает вопрос, понимал ли Арнольд в полной мере, почему Флобер изводил Эмму Бовари с такой жестокостью? Флобера оскорбляла отнюдь не ее мораль, а скорее – ее достойные жалости попытки жить фантазиями. Губя Эмму, Флобер сводил счеты с той частью своего гения, которая бунтовала против реализма, против иссушающей теории о том, что романист – лишь обычный хроникер эмпирического мира, лишь фотообъектив, с бесстрастной тщательностью фиксирующий реальную действительность.
Даже Генри Джеймс, страстный поклонник «Мадам Бовари», чувствовал, что совершенству романа чего-то радикально недостает. Пытаясь объяснить «металличность»40 книги (в эссе о Тургеневе Джеймс применил этот эпитет к творчеству Флобера в целом), он предположил, что Эмма, «несмотря на природу ее сознания и на то, что ее рефлексии в немалой степени близки рефлексиям ее создателя, – история слишком мелкая». Джеймс, может, и прав, хотя Бодлер, говоря о романе, назвал его героиню «истинно великой женщиной». Но, в строгом смысле, иррелевантны обе точки зрения. Аксиома реализма состоит в том, что внутреннее величие темы произведения почти никак не связано с достоинствами исполнения. Его догма, как написал Валери в эссе «Искушение (святого) Флобера», – это «внимание к банальному».
Писатели-натуралисты чуть ли не жили в научных библиотеках, музеях, на лекциях по археологии и статистике. «Мы требуем фактов», – вторили они диккенсовскому школьному директору из «Тяжелых времен». Многие из них были буквально врагами художественной литературы. «Мадам Бовари» вышла с подзаголовком «Провинциальные нравы». Это было в духе знаменитого бальзаковского разделения «Человеческой комедии» на сцены из парижской, провинциальной и армейской жизни. Но тон изменился: за флоберовской фразой лежит упорное желание сразиться с социологами и историками на их территории и превратить роман в монографию, подробно конспектирующую реальность. Это желание ясно проявляется в самой структуре стиля. Как отмечает Сартр, фраза Флобера «окружает объект, захватывает его, не дает двинуться и ломает ему хребет… Предопределенность натуралистического романа разрушает жизнь, она человеческое действие превращает в однолинейные механизмы».41
Если бы это высказывание всецело было истинным, «Мадам Бовари» не считалась бы гениальной книгой, каковой она, со всей очевидностью, является. Но оно достаточно справедливо, чтобы показать существование в литературе области, к которой этот роман, в конечном счете, не принадлежит, и объяснить, почему флоберовская трактовка темы не дотягивает до толстовской. Более того – поскольку Флобер относился к себе с весьма жесткой критичностью и не обладал даром самообмана, который не дает писателям рангом пониже впасть в отчаяние, «Мадам Бовари» предоставляет уникальную возможность увидеть ограничения европейского романа. «Эта книга рисует посредственность», – говорил Генри Джеймс. Но разве «посредственность» – не именно то королевство, границы которого очертили Дефо и Филдинг для своих последователей? И разве не весьма поучительно, что, стоило Флоберу отойти от «посредственности», ему – в «Трех повестях», «Саламбо», «Искушении святого Антония» – пришлось искать пристанище у святых из золотых легенд и у завывающих демонов иррационализма?
Но неудачу «Мадам Бовари» («неудача» здесь – понятие дерзкое и относительное) нельзя объяснить с позиций арнольдовской разницы между произведением искусства и куском жизни. В «Анне Карениной» нет никаких «кусков жизни» со всеми нотками гниения и препарирования, которые несут в себе эти два слова. Мы находим там саму жизнь во всей ее полноте и славе, которые передать может лишь произведение искусства. Более того, открытие этой жизни происходит из технического мастерства, из обдуманного и контролируемого освобождения поэтических форм.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?