Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 4"
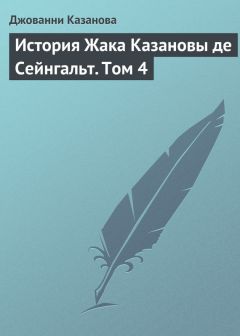
Автор книги: Джованни Казанова
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
В первый день 1756 года я получил новогодние подарки. Лорен принес мне комнатную одежду, подбитую лисицей, шелковое одеяло, подбитое хлопком, и мешок из медвежьей шкуры, чтобы засовывать туда ноги в холода, которые настали такие же свирепые, как и жара, что я переносил в августе. Давая мне все это, он сказал, по распоряжению Секретаря, что я могу располагать шестью цехинами в месяц, чтобы закупать все книги, которые хочу, а также газету, и что это подарок мне от г-на де Брагадин. Я попросил у Лорена карандаш и написал на клочке бумаги: «Я благодарен милости Трибунала и благородству г-на де Брагадин».
Надо быть в моей ситуации, чтобы понять чувства, которые пробудило в моей душе это происшествие; в порыве чувствительности я простил своим притеснителям, и я почти забыл свой проект убежать, так человек смиряется, когда его гнетет несчастье. Лорен мне сказал, что г-н де Брагадин приходил к трем Инквизиторам и просил их плача, на коленях, разрешить мне эти знаки его постоянной любви, если я еще нахожусь среди живых, и что они, взволнованные, не смогли ему отказать. Я тут же написал названия всех книг, какие хотел получить.
Прогуливаясь одним прекрасным утром по чердаку, я остановил свой взгляд на длинном засове, валявшемся на полу, и понял, что его можно использовать как оружие, оборонительное и наступательное; я взял его и отнес в камеру, где спрятал под своей одеждой вместе с куском черного мрамора; оставшись один, я понял, что мрамор можно использовать как точильный камень. Затем, после долгого трения засова о камень я выточил на нем острую грань.
Гордый этим высоким достижением, для которого я был еще новичком, я преисполнился надежды использовать мебель, которая должна была быть здесь очень прочная; поощряемый суетным желанием изловчиться сделать оружие без необходимых для этого инструментов, побуждаемый самими трудностями, потому что должен был точить засов почти в темноте, на высоте опоры, удерживая камень только левой рукой и не имея масла для его смачивания и более легкой заточки железа, которое я хотел заострить, я использовал только мою слюну, и я трудился пятнадцать дней, чтобы выточить восемь пирамидальных граней, образовывавших в конце настоящее острие; эти грани имели полтора дюйма длины. Таким образом, получился восьмигранный стилет, такой пропорциональный, что впору и хорошему оружейнику. Нельзя и представить себе труда, который я приложил, моей усталости и терпения, которое я проявил при этой неприятной работе, в отсутствии другого инструмента, кроме точильного камня; это было для меня пыткой, типа «quam siculi non invenere tyranni»[53]53
…что не изобрели еще сицилийские тираны – по Горацию
[Закрыть]. После этого я не мог больше двинуть моей правой рукой и правое плечо казалось вывихнуто. Ладонь стала одной большой раной, после того, как прорвались пузыри; несмотря на мои страдания, я не прекращал работу: я хотел ее закончить.
Несмотря на бесполезность моей работы, не решив, как и когда я смогу ее применить, я подумал спрятать ее в некоем месте, так, чтобы можно было скрыть ее даже в случае обыска; я придумал спрятать его в соломе моего кресла, но не сверху, где, приподняв подушку, можно было увидеть его выступающий силуэт, но вывернув подушку на изнанку, я поместил внутри весь засов, и чтобы его найти, надо было знать о нем заранее. Так Бог помогал мне приготовить все, необходимое для бегства, которое обещало стать замечательным, то есть необычным. Я беспокоился напрасно, но мое беспокойство не относилось к успеху предприятия, так как счастье зависит от множества причин; оно касалось лишь того, что я считал вещами возможными, которые собирался осуществить.
После трех-четырех дней раздумий над тем, какое применение я должен найти моему засову, который сделался теперь эспонтоном[54]54
короткое копье
[Закрыть], толстым, как трость, длиной в двадцать дюймов, чей прекрасно заточенный кончик показывал, что совсем не обязательно ему быть из прочной стали, чтобы сделать свое дело, я увидел, что мне надо делать дыру в полу у себя под кроватью.
Я был уверен, что комната подо мной, не может быть ничем иным, как той, где я видел г-на Кавалли; я был уверен, что эту комнату открывают каждое утро, и был уверен также, что смогу спуститься с высоты вниз, как только дыра будет готова, используя постельные простыни, из которых сделаю род веревки, привязав конец сверху за ножку кровати. В этой комнате я спрячусь под большим столом Трибунала и утром, как только увижу дверь открытой, я выйду оттуда и, прежде, чем кто-то сможет за мной последовать, окажусь в безопасном месте. Я подумал, что возможно, Лорен оставит в этой комнате одного из своих стражников для охраны, и тогда я убью его, воткнув ему в глотку свой эспонтон. Все представлялось возможным; Однако, пол мог быть двойным, и тройным, работа могла занять месяц или два; Мне представлялось затруднительным помешать стражникам подметать камеру на столь долгий срок. Если я это им запрещу, у них могут возникнуть подозрения, тем более, что для того, чтобы избавиться от блох, я требовал от них подметать каждый день, метла могла открыть им существование дыры; мне требовалась абсолютная уверенность, что этого несчастья не произойдет.
В ожидании дальнейшего, я запретил подметать камеру, не объясняя, почему. Восемь или десять дней спустя Лорен спросил у меня причину; я сказал, что пыль, поднимающаяся с пола, попадает мне в легкие и может вызвать туберкулез.
– Мы, – отвечает он, – побрызжем водой пол.
– Неважно, сырость может вызвать плетору[55]55
избыток плевры
[Закрыть].
Но неделю спустя он приказывает подмести, выносят кровать из камеры и, под предлогом необходимости вычистить всюду, он зажигает свечу. Я вижу, что этот поступок вызван подозрением, но показываю полное безразличие. Теперь я думаю над тем, как защитить мой проект. На следующее утро я окрашиваю кровью свой платок, уколов палец, и встречаю Лорена, лежа в кровати.
– У меня такой сильный кашель, – говорю я ему, – что прорвалась вена в груди и вот кровь, что вы видите; позовите мне врача.
Приходит доктор, назначает мне кровопускание и пишет рецепт. Я сказал ему, что Лорен – причина моего заболевания, потому что захотел подметать пол. Врач делает ему замечание и рассказывает, что молодой парикмахер умер от болезни груди по этой самой причине, потому что, как он сказал, вдыхаемая пыль никогда не выходит обратно. Лорен решил мне уступить и никогда в жизни больше не подметать. Я смеялся про себя, что доктор не мог бы лучше сказать, даже если бы был в сговоре со мной. Стражники, присутствовавшие при этом теоретическом разборе, были рады ему последовать и включили в список актов своей благотворительности решение подметать камеры только тех заключенных, что им не нравятся.
После ухода врача Лорен попросил у меня прощения и заверил, что все остальные заключенные чувствуют себя хорошо, хотя он подметает в их камерах каждый день. Он называл камеры комнатами.
– Но дело это важное, – сказал он, – и я буду выяснять это там внизу, потому что я вас всех рассматриваю как своих детей.
Кровопускание мне, впрочем, было необходимо, оно вернуло мне сон и избавило от спазматических судорог, мучивших меня.
Я выиграл важный пункт, но время завершить мой труд еще не наступило. Был сильный холод и мои руки, держащие эспонтон, заледеневали. Мое предприятие требовало большой осмотрительности, необходимости избегать всех препятствий, которые можно легко предвидеть, и дерзости и бесстрашия там, где, несмотря на предвиденье, надо положиться на случай. Ситуация человека, который должен действовать в таких условиях, весьма тяжела, но правильный политический расчет учит, что для достижения всего полезно бывает рискнуть всем.
Слишком длинные зимние ночи приводили меня в уныние. Я был вынужден проводить девятнадцать смертельных часов положительно во тьме, а в туманные дни, которые в Венеции не редкость, свет, попадающий в окошко и в дыру в двери, недостаточно освещал мою книгу, чтобы я мог читать. Не имея возможности читать, я погружался в мысли о моем бегстве, и ум, все время прикованный к этой мысли, мог привести к помешательству. Обладание масляной лампой сделало бы меня счастливым; я размышлял над этим, и был весьма обрадован, так как подумал, что смогу найти средство получить желаемое с помощью хитрости. Для создания этой лампы мне нужны были ее компоненты. Нужны были чаша, фитили из ниток или хлопка, масло, кремень, огниво, спички, трут. Чашей могла быть маленькая глиняная кастрюлька, и у меня была такая, в которой мне готовили яйца в масле. Я заказал купить масла из Луки, под предлогом, что от салата, заправленного обычным, мне делается плохо. Я вытащил из своего лоскутного одеяла достаточно ниток, чтобы изготовить фитили. Я притворился, что меня мучает сильная зубная боль, и сказал Лорену, что мне нужна пемза; он не знал, что это такое, и я заменил ее кремнем, сказав, что он дает тот же эффект, если поместить его на день в крепкий уксус и приложить затем к зубу; это утихомирит мою боль. Лорен сказал, что мой уксус хорош, и я могу сам положить в него кремень, и дал мне их три или четыре штуки. Стальная пряжка ремня от моих штанов могла послужить огнивом; оставалось найти лишь серу и трут, что приводило меня в отчаяние. Но вот каким образом я нашел выход, и в чем фортуна мне помогла.
У меня было что-то вроде кори, которая, подсохшая, оставляла на руках лишаи, причинявшие неприятный зуд; я сказал Лорену попросить у врача средство. На другой день он принес мне записку, которую предварительно прочел секретарь, в которой врач написал: «Один день диеты и четыре унции миндального масла, и кожа вылечится; либо смазывать серным цветом, но это топическое (местное) лекарство опасно».
– Мне все равно, что опасное, – сказал я Лорену; – купите мне эту мазь и принесите ее завтра; либо дайте мне серы, у меня здесь есть масло и я приготовлю мазь сам; у вас есть спички? Дайте мне их.
Он достал из кармана все спички, что у него были, и отдал мне. Как полезно сочувствие, когда в нем нуждаешься!
Я провел два или три часа, раздумывая над тем, чем можно заменить трут – единственный ингредиент, которого мне не хватало, и который я не знал, под каким предлогом получить; я вспомнил, что рекомендовал своему портному подбить мою одежду из тафты в подмышках трутом и покрыть его навощенной тканью, чтобы воспрепятствовать проникать пятнам пота, что важно в наших краях для любой одежды. Моя новая одежда была передо мной, и мое сердце трепетало: портной мог забыть мое указание, и я пребывал между надеждой и опасением. Мне достаточно было сделать пару шагов, чтобы убедиться, но я не мог себя заставить. Я боялся не найти трута и отказаться от такой дорогой надежды. Я решился, наконец, приблизился к месту, где лежала моя одежда, и внезапно ощутив себя недостойным этой милости, бросился на колени, умоляя Бога, чтобы портной не забыл мое указание. После этой горячей молитвы я разворачиваю свою одежду, отпарываю навощенную подкладку и нахожу трут. Радость моя была велика. Естественно, я возблагодарил Бога, поскольку искал трут, надеясь на его милость; и сердечная молитва моя была горяча.
Рассматривая эти свои благодарственные молитвы, я не считаю себя дурнем, каким себя ощущаю, раздумывая над молитвой, что я вознес господу всего сущего, направляясь искать трут. Я не делал этого, направляясь в Пьомби, не делаю этого и сегодня; но утрата свободы оглупляюще подействовала на душевные способности. Следует молить Бога даровать милость, но не сотрясать природу чудесами. Если бы портной не подложил трута в подмышки, я не должен был бы его там найти. Чего же я хотел бы от Творца? Смысл моей первой молитвы был только следующий: «Господи, сделай так, чтобы я нашел трут, даже если портной забыл его подложить, и если он там есть, сделай так, чтобы он не исчез». Какой-нибудь теолог, однако, мог бы счесть мою молитву благочестивой, святой и весьма разумной, потому что, произнося ее, я опирался на силу веры, и он был бы прав, как прав и я, не теолог, находя ее абсурдной. Мне не надо, впрочем, быть ученым теологом, чтобы найти мою благодарственную молитву похвальной. Я благодарил Бога за то, что портной не забыл сделать то, что я просил, и моя признательность была вполне в рамках святой философии.
Когда я стал обладателем трута, я налил масло в кастрюльку, положил фитиль, и получил лампу. Какое удовлетворение убедиться, что это благо получено мной лишь благодаря самому себе, и что таким образом нарушен один из самых жестоких приказов! Для меня больше не существовало ночей! Прощай, салат; я его очень любил, но я не сожалел; мне казалось, что масло создано лишь для того, чтобы нам светить. Я решил начать ломать пол в первый понедельник поста, потому что в суматохе карнавала я опасался ежедневных визитов; и я оказался прав. В прощеное воскресенье в полдень я услышал шум запоров и увидел Лорена в сопровождении очень толстого мужчины, в котором я узнал еврея Габриеля Шалона, известного своим умением находить деньги для молодых людей с помощью темных дел; мы были знакомы, так что поздоровались. Общество этого человека было не таково, чтобы доставить мне удовольствие, но мне следовало сохранять спокойствие; его заперли. Он сказал Лорену пойти к нему и принести его обед, кровать и все, что положено, и тот сказал, что они поговорят об этом завтра.
Этот еврей, который был легкомыслен, невежествен, болтлив и груб во всем, кроме своего ремесла, стал хвастаться передо мной тем, что предпочел меня всем прочим, чтобы составить мне компанию. Я предложил ему вместо ответа половину моего обеда, который он отверг, сказав, что ест только кошерное, и что его ожидает хороший ужин у него дома.
– Когда?
– Этим вечером. Вы видите, что когда я спросил свою кровать, он ответил, что мы поговорим об этом завтра. Очевидно, это значит, что она мне не понадобится. Считаете ли вы возможным, чтобы оставили без еды такого человека как я?
– Меня сочли таким.
– Ладно; но между вами и мной есть некоторая разница; и, говоря между нами, Государственные Инквизиторы совершили ошибку, арестовав меня, и должны быть сейчас озабочены тем, чтобы ее исправить.
– Они устроят, возможно, для вас пенсион, поскольку вы человек, с которым нужно обращаться бережно.
– Вы рассуждаете весьма верно: на бирже нет маклера более полезного, чем я, в вопросах внутренней коммерции, и Пятеро Разумных[56]56
что-то вроде Министерства коммерции
[Закрыть] извлекают много пользы из моих советов. Мое задержание – явление странное, которое, по случаю, принесет вам счастье.
– Мне счастье? Каким образом?
– Не пройдет и месяца, как я вызволю вас отсюда. Я знаю, с кем мне надо поговорить, и каким образом.
– Я рассчитываю на вас.
Этот глупый мошенник считал, что что-то знает. Он захотел проинформировать меня о том, что обо мне говорят, и не сказал ничего, кроме того, что говорилось в среде самых больших дурней города, он мне надоел. Я взял книгу, и он имел наглость просить меня не читать. Его страстью было болтать, и все время о себе самом. Я не осмелился зажечь мою лампу, и с приближением ночи он решил согласиться взять хлеба и кипрского вина, и мой тюфяк вновь стал постелью для вновь прибывшего. На завтра ему принесли от него еду и кровать. Я терпел это бремя восемь или девять недель, потому что секретарь Трибунала хотел, прежде чем присудить его к Кватро, поговорить с ним несколько раз, чтобы прояснить его мошенничества и чтобы заставить его выдать незаконные контракты, которые тот заключил. Он мне рассказал сам, что купил у г-на Доменико Мишеля ренты, которые могли перейти покупателю только после смерти шевалье Антуана, его отца.
– Верно, – сказал он мне, – что продавец на этом теряет сто на сто, но надо понять, что покупатель теряет все, если сын умрет прежде отца.
Когда я увидел, что этот дурной товарищ не уйдет, я решился зажечь свою лампу; он обещал мне хранить тайну, но сдержал слово, только пока оставался со мной, потому что, хотя и без последствий, Лорен об этом узнал. Этот человек, наконец, был мне в тягость и мешал мне работать над моим побегом.
Он мне также мешал развлекаться чтением; требовательный, невежественный, суеверный, хвастун, робкий, впадающий время от времени в отчаяние, утопая в слезах и оглашая окрестности громкими криками, доказывая мне, что это его задержание подрывает его репутацию; я его заверил, что за свою репутацию он может не опасаться, и он принял мой сарказм за комплимент. Он не хотел согласиться с тем, что он скупец, и чтобы заставить его признать это, я однажды сказал, что если бы Государственные Инквизиторы давали ему сотню цехинов в день, в то же время открыв для него двери тюрьмы, он бы отсюда не вышел, чтобы не потерять сотню цехинов. Он вынужден был с этим, смеясь, согласиться.
Он был талмудист, как и все существующие сейчас евреи, и старался показать мне, что очень предан своей религии соответственно своему пониманию. Будучи сыном раввина, он был знатоком церемониала, но, размышляя в дальнейшем над людским родом, я понял, что большая часть людей полагает самым важным в религии дисциплину.
Этот еврей, чрезвычайно тучный, не сходил с кровати и, поскольку спал днем, не мог спать ночью, хотя он слышал, что я сплю довольно хорошо. Он решился однажды разбудить меня, прервав один из лучших моих снов.
– Ну, ради Бога, – сказал я ему, – чего вы хотите? Почему вы меня разбудили? Если вы умираете, я вас извиняю.
– Увы, мой друг! Я не могу спать, проявите ко мне жалость, поболтаем немного.
– И вы называете меня другом? Мерзкий человек! Я верю, что ваша бессонница – настоящая пытка, и я вам сочувствую, но если в следующий раз, чтобы утешиться в ваших горестях, вы решитесь лишить меня самого большого блага, которым позволяет мне пользоваться природа в том великом несчастье, которое на меня свалилось, я сойду с кровати, чтобы вас удушить.
– Извините, пожалуйста, и будьте уверены, что я больше не буду вас будить.
Он был уверен, что я не стану его душить, но понимал, что причиняет мне страдание. Человек в тюрьме, находящийся в объятиях сладкого сна, уже не в тюрьме, и спящий раб не чувствует цепей рабства, также, как король во сне не царствует. Пленник должен воспринимать как бестактного того, кто будит его, как палача, что лишает его свободы, чтобы снова погрузить в несчастье; добавим, что обычно заключенному снится, что он свободен, и эта иллюзия ему заменяет реальность. Я поздравлял себя с тем, что не начал свою работу до того, как прибыл этот человек. Он спросил, подметают ли здесь, и обслуживающие охранники насмешили меня, сказав ему, что от этого я могу умереть; он этого потребовал. Я притворился, что заболеваю, и охранники отказались выполнять его распоряжение, если я буду против, но мой интерес потребовал, чтобы я согласился.
В святую среду Лорен сказал нам, что после Терцы г-н Секретарь Сиркоспетто[57]57
Осмотрительный
[Закрыть] поднимется нанести нам по обычаю визит по случаю праздника Пасхи, чтобы внести успокоение в души тех, кто хочет благостно встретить Святое Воскресение, а также выяснить, не имеет ли кто претензий к работе смотрителя тюрьмы.
– Таким образом, господа, – сказал он нам, – если вы хотите пожаловаться на меня, – жалуйтесь. Оденьтесь прилично, как того требует этикет.
Я сказал Лорену пригласить на завтра мне исповедника.
Я оделся по всей форме, и еврей поступил так же, приняв мой совет, потому что он был уверен, что Сиркоспетто вернет ему свободу, как только с ним поговорит; он сказал мне, что его предчувствие никогда его не обманывало. Я его с этим поздравил. Пришел секретарь, отперли камеру, еврей вышел и бросился на колени, я слышал только рыдания и крики, продолжавшиеся четыре или пять минут, без того, чтобы секретарь вымолвил хоть слово. Он зашел обратно, и Лорен сказал мне выйти. С моей восьмимесячной бородой и в одежде, скроенной для любовных похождений и предназначенной для июльской жары, в этот очень холодный день я представлял собой персону, способную вызвать смех, а не сострадание. Этот ужасный холод заставлял меня дрожать как осиновый лист, что не нравилось мне по единственной причине, что секретарь может подумать, что я дрожу от страха. Так я вышел из камеры, склонившись, сделал реверанс; выпрямился, смотрел без гордыни и приниженности, не двигаясь и не говоря ни слова; Сиркоспетто, также неподвижный, хранил молчание; эта немая с обеих сторон сцена продолжалась две минуты. Видя, что я ничего не говорю, он наклонил голову на полдюйма и ушел. Я вошел обратно, разделся и лег в постель, чтобы согреться. Еврей был удивлен, что я не поговорил с секретарем, хотя мое молчание говорило много больше, чем его презренные крики. Заключенный моего сорта в присутствии своего судьи должен открывать рот, только чтобы отвечать на вопросы.
На следующий день пришел иезуит меня исповедать, и в Святую субботу священник церкви Сан-Марко пришел дать мне святое причастие. Моя исповедь показалась слишком короткой выслушавшему ее миссионеру, и он счел за лучшее дать мне несколько наставлений, прежде чем отпустить грехи.
– Молите ли вы Бога? – спросил он.
– Я молю его с утра до вечера и с вечера до утра, даже когда я ем или сплю, потому что в положении, в котором я нахожусь, все, что происходит во мне, вплоть до моего волнения, моего беспокойства и всплесков безумия, может быть только молитвой к божественной мудрости, которая одна видит мое сердце.
Иезуит сопроводил мой специальный экскурс относительно молитвы тонкой улыбкой и ответил метафизическим дискурсом такого свойства, что никак не соответствовал моему. Я бы все опроверг, если бы, умелый в своем ремесле, он не обладал талантом меня удивлять и представлять меньше блохи в отношении предсказания, которое он мне приписывал.
– Поскольку, – сказал он, – это от нас вы получили основы религии, которую исповедуете, практикуйте ее, как и мы, и молитесь Богу, как мы вас учили, и знайте, что вы выйдете отсюда только в тот день, который предумышлен вашим святым покровителем.
С этими словами он дал мне отпущение грехов и ушел. Впечатление, которое они на меня произвели, было необычайное; сколько я ни бился, я не мог выкинуть их из головы. Я провел все праздники, перебирая всех святых, которых нашел в Альманахе.
Этот иезуит был духовником г-на Фламинио Корнера, старого сенатора, сейчас действующего Государственного Инквизитора. Этот сенатор был знаменитым писателем, великим политиком, очень набожным, и автором благочестивых и необычных трудов, написанных на латыни. Его репутация была безупречна.
Извещенный о том, что я должен выйти оттуда в день моего святого покровителя, человеком, который это может знать, я обрадовался, узнав, что он у меня есть, и, зная, что он мной интересуется, но будучи обязан его молить, я должен был бы его знать. Кто он? Сам иезуит не мог мне это сказать, даже если бы знал, потому что тем самым нарушил бы тайну; но посмотрим, говорил я себе, могу ли я сам догадаться. Это не может быть Святой Яков из Компостелло, имя которого я ношу, потому что как раз в день его праздника Мессер Гранде постучал в мою дверь. Я взял Альманах и, изучая его, самым близким нашел Св. Георгия, прославленного святого; но какой из его праздников мой, я никогда не думал. Я обратился к Св. Марку, прославляемому двадцать пятого числа, на покровительство которого, как венецианец, я мог рассчитывать; к нему я обратил свои моления, но напрасно. Его праздник прошел, а я оставался там. Я взялся за другого Св. Якова, брата И.-Хр., который идет вместе со Св. Филиппом, но я также ошибся; тогда я обратился к Св. Антонию, который сотворил, как говорили в Падуе, тридцать чудес за день, – но также безуспешно. Так я переходил от одного к другому, и незаметно пришел к выводу, что напрасно надеяться на помощь святых. Я пришел к выводу, что святой, на которого я должен рассчитывать, это мой верный эспонтон. Несмотря на это, предсказание иезуита подтвердилось. Я вышел оттуда в день Всех Святых, как это увидит в дальнейшем мой читатель, и понятно, что если у меня и был покровитель, его день должен был праздноваться именно тогда, поскольку там были все.
Через две или три недели после Пасхи меня избавили от еврея; но этот бедняга не был освобожден; его приговорили к Кватро, где он провел два года и после был отправлен доживать свои дни в Триесте.
Как только я остался один, я принялся за работу с большим старанием. Мне надо было спешить, пока не появился новый постоялец, которому вздумалось бы, чтобы подметали. Я отодвинул свою кровать, зажег лампу и воткнул в пол свой эспонтон, предварительно постелив около себя салфетку, чтобы собирать мелкие щепки, которые выцарапывал острием из дыры; Надо было вскрыть пол, с силой вонзая в него железо; его фрагменты в начале моей работы были не больше пшеничного зерна, но в дальнейшем обломки становились больше. Пол был из лиственниц в шестнадцать дюймов шириной, я начал его вскрывать со щели между половицами; не было ни гвоздя, ни железной полосы, и мой труд продвигался медленно. После шести часов работы я завязал свою салфетку и отложил ее в сторону, собираясь вынести ее утром и высыпать позади бака с тетрадями в глубине чердака. Фрагменты дыры образовывали объем в четыре-пять раз больше, чем ямка, из которой я их достал; дуга могла быть в тридцать градусов, диаметр круга был примерно в десять дюймов. Я вернул кровать на место и назавтра, опустошив салфетку, убедился, что мои опасения в том, что мои обломки будут видны, напрасны.
Во второй день я оказался под первой доской, имевшей толщину два дюйма, вторая доска, по моим представлениям, должна была быть такой же. Не имея несчастья заиметь визиты и все время их опасаясь, я достиг за три недели полного разрушения трех слоев досок, под которыми обнаружил каменный пол, выложенный маленькими кусками мрамора, который называют в Венеции terrazzo marmorin[58]58
мраморная облицовка
[Закрыть] Это обычный пол в апартаментах всех венецианских домов, принадлежащих небедным людям. Большие сеньоры предпочитают terrazzo из паркета. Я был подавлен, потому что видел, что мое отверстие дальше не пробьется; я старался нажимать, упираться – мое острие скользило. Это событие подломило мой дух. Я вспомнил Ганнибала, который, согласно Титу Ливию, проделал проход в Альпах, разрушая ударами секир скалы, размягченные с помощью уксуса; вещь, которая мне казалась немыслимой, не только из-за слабой силы кислоты, но и из-за колоссального количества потребного уксуса. Я полагал, что Ганнибал использовал для этого не aceto[59]59
уксус – лат.
[Закрыть], а asceta[60]60
ascea -топор? – прим. перев.
[Закрыть], которое на падуанской латыни могло означать то же, что и ascia[61]61
топор – ит.
[Закрыть], и что ошибка могла произойти по вине копиистов. Я, тем не менее, залил в углубление бутыль крепкого уксуса, что у меня был, и на другой день, то ли из-за эффекта уксуса, то ли за счет большего спокойствия, я увидел, что мне удастся углубиться до конца, потому что речь шла не о том, чтобы разбить маленькие кусочки мрамора, но чтобы размельчить концом моего орудия цемент, который их связывал; и я был очень доволен, потому что увидел, что главная трудность сосредотачивалась лишь на поверхности; за четыре дня я разрушил весь этот пол, так что острие моего эспонтона не затупилось. Блеск его поверхностей стал даже еще прекрасней… Под мраморной кладкой я нашел другой пол, как я и ожидал; это должен был быть последний, то есть первый по порядку в крыше всего помещения, балки которого держали плафон. Я взрезал этот слой с некоторыми повышенными трудностями, потому что моя дыра стала десяти дюймов глубины. Я непрерывно обращался к милосердию Божьему. Мудрые умы, говорящие, что молитва ничего не дает, не знают, чего говорят. Я знаю, что, помолившись Богу, я всегда чувствовал себя более сильным, и этого достаточно, чтобы признать силу молитвы, то ли от того, что прибавление сил шло непосредственно от Бога, то ли как физическое следствие того доверия к нему, которое возникало.
Двадцать пятого июня, в день, когда только республика Венеция празднует чудесное появление евангелиста Св. Марка в эмблематической форме крылатого льва в церкви дворца дожей в конце одиннадцатого века, событие, показывающее мудрость Сената, который нашел время, чтобы возблагодарить Св. Теодора, влияния которого стало более недостаточно, чтобы обеспечивать дальнейший рост города, и принять своим покровителем этого святого ученика Св. Павла и Св. Петра, согласно Евсебию, которого им послал Господь. В этот же день, в три часа после полудня, когда я голый и весь в поту трудился над моей дырой, в которой, чтобы ее видеть, я зажег лампу, я услышал в смертельном ужасе пронзительный скрип засова двери первого коридора. Какой момент! Я гашу лампу, прячу в дыру мой эспонтон, бросаю внутрь мою салфетку, поднимаюсь, поспешно ставлю на место в алькове подпорки и настил кровати, набрасываю сверху тюфяк, матрасы и, не имея времени постелить простыни, падаю поверх них как мертвый в тот самый момент, как Лорен открывает мою камеру; моментом ранее он бы меня захватил врасплох. Лорен собирается переступить через меня, но я испускаю крик, который заставляет его, согнувшись, выскочить за дверь, говоря высокомерно:
– Боже мой! Я сожалею о вас, месье, потому что здесь жарко как в пекле. Поднимайтесь и возблагодарите Бога, который направляет вам превосходную компанию. Входите, входите, светлейший сеньор, – говорит он несчастному, который следует за ним. Этот тупица не обращает внимания на мою наготу, и вот, светлейший заходит, обходя меня и не обращая внимания на то, что я делаю, я собираю мои простыни, бросаю их на кровать и не могу нигде найти мою рубашку, которую приличие обязывает надеть.
Этот вновь прибывший полагает, что вошел в ад. Он кричит:
– Где я? Куда меня завели? Какая жара! Какая вонь! С кем я нахожусь?
Лорен отвечает ему из-за двери, призывая меня надеть рубашку и выйти в чердак; он говорит ему, что у него приказ пойти к нему и принести для него кровать и все, что тот прикажет, и что до его возвращения он может прогуливаться по чердаку, а пока камера проветрится через открытую дверь от вони, которая происходит всего лишь от масла! Конечно, запах идет от лампы, которую я загасил, не обрезав фитиль. Лорен не задал мне при этом ни одного вопроса; значит, он знал все; Еврей ему все рассказал. Как я был счастлив, что он не мог рассказать ему больше! Я почувствовал с этих пор некоторую благодарность к Лорену.
Быстро надев другую рубашку и комнатную одежду, я вышел. Новый заключенный записывал карандашом то, что хотел получить. Он первый сказал, увидев меня:
– Это Казанова.
Теперь я узнал аббата графа Фенароло, брешианца, пятидесяти лет, человека любезного, богатого и ценимого во всех добрых компаниях. Он подошел меня обнять, и поскольку я сказал, что ожидал здесь увидеть кого угодно, кроме него, он не мог сдержать слез, которые смешались с моими.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































