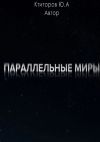Текст книги "Миры Джеймса"

Автор книги: Егор Клопенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Здесь мы будем прощаться с тобой. Еще раз прощаться. Как договорились, помни, ты обещала мне не идти за мной и не читать дальше. Прощаться. Я жду твой поцелуй. Утро торопится. Уйду. Ты останешься и все, что было до этого – оставляю в твоей власти, тебе, но дальше прошу – ни слова, ни шага.
Утренний поцелуй – пожалуй, все, что я взял с собой и пронес его через все эти годы, до сих пор помню его и чувствую. С собой. Все осталось тебе. И каждое слово, каждое мгновение в этой книге – я чувствовал твою близость и твое присутствие и знал, что ты слышишь меня, и писал только для тебя. Но слова закончились, мы подошли к самому краю, слова закончились, и словно щебень под ногами осыпаются, обваливаются в пропасть, и я боюсь, что мы упадем с ними в эту бездну, не в силах удержаться здесь.
Прощай. Все, что было с тобой, всегда будет светлым. Дальше ни шага, ни слова. Помни, ты мне обещала. Помни. Прощай.
Глава 15
Один. Один. Один. Вышел из дома. Прочь. Обвалился в пропасть камнепадом по лестнице. Они уже ждали меня, на улице, уже почувствовали свою власть. Вцепившись в мой рукав, повели за собой. Я помню их чудовищный взгляд, их клыки, когти. Старые приятели. Я встречал их и раньше: и вчера, и до этого. Тайная договоренность, не вторгаются в мою жизнь, в мой дом, не трогают тебя – лишь меня. Вот и получили меня, вот и расплачиваюсь теперь за все. В свое распоряжение, беззащитного, сожалеющего. Сколько ждали они, сколько скрывались в самом густом мраке моей души, эти голодные чудовища. Они вели меня темными улицами, еще не проснувшимися, я боролся со страхом каждый свой шаг, но скоро я устал бояться и сам уже шел быстрее, почти бежал, чтобы быстрее расплатиться за все, пережить это, раз не удастся избежать. Или это тоже страх?
Расплатиться. Они ломали всю мою жизнь, они забирали меня с собой. И эти улицы, с утренними низко весящими звездами фонарей казались мне переходом между мирами. И они вели меня, забирали прочь из нашего светлого мира, полного огней, ждущих меня, прочь от моего войска, прочь от побед, от золота и счастья, от тишины и нашей скромной радости в столь шикарной и тщеславной оправе. Прочь. Войско просыпалось, ты тоже, наверное, уже просыпалась, снова, наконец-то избавляясь ото сна, но вы не видели еще ничего необычного в этом утре. Не замечали перемен. Моего исчезновения. Я шел дальше, и все эти утренние звезды, эти гаснущие городские огни, собиравшиеся галактическими скоплениями далеких миров, гроздьями свисавшие надо мной, манили меня давно уже затихшими воспоминаниями, вновь всколыхнувшимися. Детство, мои царства, беды и горести, счастье, я узнавал очертания домов, улиц – как изменились они, совсем другими были, теперь же словно призраки – лишь тени. Я помню, я видел их в совсем других мирах, где все они были живыми, имели свое место в этом пространстве, но теперь я пролетал мимо и лишь гадал, куда выведет меня этот переход, этот туннель, бессознательный темный туннель. Гадал, какой мир уготовлен мне.
Но неожиданно движение прекратилось. Тупик, обернувшийся черной лестницей и безнадежным еле ощутимым светом от завешенного окна в сумерках темной комнаты, столь хорошо знакомой мне, словно я бывал здесь и раньше, бывал ли? Я оказался в ее логове.
Она, улыбаясь, что-то говорила мне, но я не мог пошевелиться. И мне не на что было злиться, я сам проиграл. Я вспоминал, как первый раз встретил ей подобных в этом уже кажется завершившемся мире полгода назад. И этот сговор, и цену, что они не называли, а я не спрашивал – но все мы знали ее. И я расплачусь теперь полностью. Полностью, и с ними, и с жизнью.
Полгода назад. Чудом выжил тогда. Зачем-то оставили в живых. Растерзав – следы от острых когтей на коже. Но теперь и с вами последняя встреча. Прощальная. Моя ностальгия по вашей волчьей стае. Может быть, даже любовь. Животная, волчья любовь, так сильно отличающаяся от людской, привитая вами.
И лишь один раз укушенный этим племенем, ты становишься сам не свой, сходишь сума, и каждый раз из последних сил переживаешь пустынные, медленные дни, но при первом проблеске луны, при первом проблеске золота в заливе у подножья нашего небоскреба ты становишься одним из них и несешься в стаю или рыщешь одиноко в темноте, и только напившись вдоволь крови, находишь для себя бессилие и в нем успокоение.
Господи, сам такой же, как они, мне не на что злиться. Лишили меня жизни? Сами же и лишены, такие же, как я, мучающиеся днем и терзаемые утром, лишь теперь могу полностью разделить с ними их горе, их страхи и их печаль.
Полгода как во сне. Мое многократное грехопадение, захватывающее дух, вечернее, на лифте в самую бездну. Я помню, как сердце, сжимаясь, летело вниз, тысячекратно опережая меня, но так и не разбивалось вдребезги, как я ни молил об этом. Боль приземления не разрывала его на куски, но словно оказывалась анестезией, убирала чувства, страхи, которые возвращались лишь позже, по чуть-чуть, вечером, догоняя меня на моем пути домой.
Но столько раз падавший в жизни, смог ли я скрыть, удержаться хотя бы для тебя, в твоем сознании, наверху? Насколько близка была та грань, к которой мы подошли с тобой вместе? Удалось ли мне хотя бы в словах устоять, удержаться, не упав вниз, в эту пропасть? Удалось ли скрыть это от тебя? Удалось ли? Хотя бы часть. Знаешь ли ты что-то?
Но и эта затемненная комната остается в прошлом. И лишь еще один волчий поцелуй в щеку. Время прощаться. Со всем. Я должен был удержаться на этой грани, лишь это знал я тогда. Я должен не упасть.
И одна мыль – бежать прочь, прочь из этого города, спастись, раз нельзя упасть – тогда остается взлететь. Я хочу обрести покой, я безумно боюсь любой высоты теперь, и этого полета тем более, но невыносимо было бы оставаться здесь, а это, пожалуй, единственный проверенный способ оборвать последнюю связь с этим миром и найти новый. Но до этого сегодня будет еще один подъем, на сорок первый этаж, лишь бы осилить. И сегодня будет еще одно, самое последнее, самое страшное падение. Сегодня сердце поднимется невероятно высоко, а после с силой, с огромной силой брошу его вниз, и оно, наконец, разобьется, надеюсь, разлетится на мелкие куски и больше не помешает мне. И больше не вернусь назад.
Глава 16
Только теперь понимаю, насколько огромно это путешествие, эта жизнь. Пальмовый пляж пустынен – ровная белая обнаженная полоска, и океан нежно, дрожа, словно от холода, целует ее, чуть-чуть спуская прозрачную кружевную ткань, белую пену волн, оставляющих след, как на нежной коже – на морском песке. Я боюсь пошевелиться, этот вечерний свет, легкий алый отблеск смущения касается и меня. Смущение, то ли от всего того, что со мною за эту жизнь, за это путешествие было, то ли от того, что все это закончилось, ничего не осталось, развеялось как легкий утренний туман, и теперь я оказался совсем наг.
Я где-то читал, что бесноватых и буйных в пустынях закапывали на время в песок – терапевтическое воздействие. Засыпаю себя, отпускаю горсть.
Я так далеко. На самом краю земли, еще бы один шаг и я упал в холодные воды, и никогда бы больше не… С трудом остановился самолет на этом ничтожно коротком аэродроме, с силой вцепившись когтями в асфальт, зажмурились пилоты, со скрипом дернулись в креслах, но все закончилось, осела песочная пыль, человек средних лет спустился по трапу, один, пустота.
Совсем нечего было предъявлять на таможне, без багажа, все оставил в той жизни, лишь одна сумка, на рентгене показавшая все свои ребра, худобу, пустоту и неспособность к жизни. Удивленные таможенники пропустили. Какая-то мелочь в кармане, несколько счетов в банке, с остальным расстался много раньше. Оборвалась нить.
Огромный пустынный тихоокеанский берег зловещ, он подходит, чтобы принять выбирающих в этом мире достойное место для смерти китов и вполне мог бы растворить их в себе, безболезненно, так же, как целые пласты неба, туч, всей своей мощью выбрасывающиеся на него под вечер, бьющие хвостом и угасающие окончательно во тьме.
Маленький городок, одной улочкой растянувшийся вдоль кромки моря. Здесь все линии, начиная с береговой, пытаются повторять горизонт, параллельны, единственный стоящий образец для подражания.
Никто не знает здесь ничего обо мне. Спрятаться. Начать новую жизнь. Ни слова. Хватит мучиться, думать, вспоминать, бояться. Это не я приехал. Совсем другой человек. Средних лет, черно-седой. Любое имя, любое, слава Богу, здесь никто не спрашивает документы, Джеймс, Джон, Джим. Все чужое. Но то, что родное, осталось далеко, там где сейчас солнце, там где самое раннее утро вступает в свои права, радостно разбирая все то, что было брошено мной, осматривая, перебирая своими лучами, и я даже благодарен ему за это, за уверенность в том что ничто не пропадет, все будет жить дальше, без меня. Джеймс. Все сначала. Все в прошлом.
Белье, кем-то развешенное на одной веревке между двух пальм, разноцветное, бесформенное, чем-то напоминавшее план города, если бы такой существовал. Давно высохло, как и штукатурка домов – но никто не снимет, брошено. Бессмысленное разноцветье. Забыто туристами?
Переоделся еще на пляже, брюки песочного цвета, закатанные рукава расстегнутой белой рубашки, Джеймс осматривался. Не сезон. Уже давно. Заколочены окна, снять жилье здесь точно не проблема, если только найти у кого.
Но в этом городе все же оказались люди, несколько фигур в полутьме прибрежного кафе, и хорошее виски, и лед, и даже музыка, человек за стойкой сделал чуть громче.
Снять жилье. Здесь могли бы быть варианты: дом Джеймса мог быть двухэтажным или трех, квартира на любом из них. Ванная, как ни меняй квартиру, маленькая – почерневшие от сырости стены, пустота прямоугольно-квадратных и даже трапециевидных комнат. Плетеная мебель, окна выходят куда угодно, только не на море. Словно запорченные фотографом-любителем кадры. Я нашел хоть сколько-то удачный снимок. Задернул серые шторы. Рассчитался с тяжело, но очень быстро дышащим толстячком. Следующий раз его увидим только в призрачном марте, когда он, хозяин еще нескольких домов на побережье, уже будет вытаскивать деревянные лежаки на еще не просохший пляж, тогда и опишем, подумаем над его видом, может, даже поможем с этими лежаками, пока лень. Да его уже и нет, захлопнулась, словно от сквозняка дверь. Что-то говорил про телевизор, про тело, про холод – все потом найду, все найду сам – не было сил слушать.
Крошки на полу, забытая книга на французском, недопитая вода в чашке на окне, мятая постель. И какой-то чужой, тяжелый сон – но что же ты хотел, раз это теперь совсем другой человек. Джеймс лег, даже не раздеваясь, накинув сомнительной чистоты простыни, оставив все на завтра, на потом, на другую главу.
Но что-то удерживает наш взгляд на этой абсолютно пустой комнате. И словно рано для следующей главы, словно хочется еще немного побыть здесь, в этом мире. Проверили – дверь закрыта, безопасно. Подули теплым ветром, что разнес догорающие угольки заката. Потухли совсем. Ночь, темно. Да, Джеймс закрыл глаза, и мир этого рассказа сжался до нескольких строк. Лишь несколько строк – несколько отрывистых вспышек света в засыпающем сознании – как следы от уже не подпрыгивающего, уже тонущего камушка, запущенного кем-то над водной гладью, как обрывки сна и, правда, совсем другого человека, из совсем другого мира.
И он увидел, как холодный океан все с большим отчаянием набрасывается на берег, но ничего не находит, ослеп, воет.
Темный, ночной мир, где ценны звуки, но нет перехода на слова. Мир бесплатного безымянного счастья, мир, где есть тепло, холод, тусклые огоньки разлетающегося пепла и все. Все.
И только чуть сверкающий алмаз на ее груди, и алое платье, и губы выводят из тьмы, нет, сами тают во сне.
Глава17
Шли дни. В этом городке без названия на самом краю земли штиль и мертвый сезон. Ледяное море и теплое молоко. Здесь имен достаточно на всех и фамилии – лишь как парадные камзолы у стариков, что достали из шкафов, в нафталине, бессмысленно блестящие на солнце, сверкающие под его лучами всеми ненужными признаками своей принадлежности к теперь уже несуществующим армиям – родам, сословностям. Греки, русские, итальянцы, кого только нет здесь. И бросая их всех поздними вечерами, Джеймс бредет в уже почти свой дом. Но слово «почти» здесь кажущееся лишь пустой осторожностью в ровных мыслях автора, собиравшегося уже вести свой роман к счастливому, ну, или, по крайней мере, спокойному, контролируемому финалу, отзывается криком в усталой голове героя, разрывая и мысли, и предложение, вздымаясь над прочими словами, таща их за собой так, что они оказываются оторваны от смысла и беспомощно болтаются в пустоте холодной чужой ночи, в моем сознании.
Ни черта не получается, сколько ни стараюсь. Нет никакого Джеймса, и что я ни делал, как ни обманывал себя – все же то, чего я боялся, было не вовне, а внутри меня. Какая-то детская игра, в которую я уже не могу играть, седой, если и не пожилой, то уж достаточно поживший человек. Я чувствую, как песок хрустит под ногами, как поет океан. Такой непохожий на всю мою прошлую жизнь мир. Я хотел вернуться в тот островной рай?
Но я чужой здесь и разъяренное море с лаем бросается на меня, шерсть дыбом, отпрыгивает и снова с лаем набрасывается, защищая какие-то свои сокровища. Чужой. И лишь немного постояв рядом с ним, я вынужден идти прочь, но еще долго оно не может успокоиться, изводясь шумом и лаем за моей спиной.
Островной рай – ведь его я представлял, бросая вниз свой взгляд с верхнего этажа того небоскреба? Золотые пряди? Что еще оставила мне память? Теплое дыхание ночной бездны? Что-то есть из моих воспоминаний здесь? Бездна? Ледяная, непостижимая. И даже если мне все же суждено когда-нибудь покинуть его, этот городок будет вспоминаться мне всегда как что-то холодное, словно я – чайка, что устала и, теряя высоту, закрыв глаза, на мгновение коснулась ледяной воды. Но мгновение тянется, часы, дни. И холод окутывает мое сердце и в нем есть покой.
Но всего лишь мгновение, одно мгновение, единое, неделимое, как бы ни хотел я – в него не вместить хоть какую-то жизнь, хоть какую-то судьбу, не разместиться, словно на этом плетеном кресле в холоде ночи, как ни сжимайся, как ни переворачивайся с бока на бок – в конце всех попыток придется встать и сделать шаг в поисках нового места, нового мира, придется собрать все свои силы и взметнуться опять вверх, в небо, в жизнь.
Но взметнуться вверх не так просто, память все дальше тянет на дно, всей своей обволакивающей тяжестью, на невыносимые глубины жизни прошлой. Еще хоть немного усидеть в этом плетеном кресле, спрятаться от холода, закрыть глаза и увидеть другой город, другое время, рабочий стол, заваленный бумагами и кричащий слепой вечер, а после – уже забытую в этих песках скорость – пятнадцать минут на такой быстрой машине, размазывающей словно кистью синее, красное, желтое этого города, пренебрегающей всеми деталям, формами, ценящей лишь грусть, чувства, страх, страсть, вываливающей все это на тебя, погружающей тебя в это, но не дающей ни имен, ни объяснений.
* * *
Прошлое и настоящее сделаны совсем из разных материй – нельзя сравнить, связать. И вот, уже в какой раз – теперь в воспоминаниях я еду этой дорогою. И все предыдущие разы, наяву, я лишь мечтал узнать, понять, как удастся все это смятение чувств переставить, перекрасить моей памяти потом, буду ли я чувствовать ту же грусть, вспоминая все это, и будет ли мне чего-то из того, что так меня тогда пугало, не хватать. Я надеялся, что память выдернет эту грустную нить из моей жизни и сплетет с мечтами, и это и будет та теплая ткань воспоминаний, плед, в который я смогу закутываться зимними старческими вечерами.
Я пытаюсь сейчас согреться в ней, в этой ткани воспоминаний, на этом ветреном острове, и кажется холод отступает. По крайней мере, я уже не чувствую его, не думаю о нем. Я лишь вслушиваюсь в шепот такой далекой теперь дороги, тогда мне казалось что он звучал близко-близко, только мне, я понимал его, он что-то важное рассказывал, объяснял, отвечал на вопросы, утешал меня своей силой и уверенностью, его интонации – вкрадчивые предостережения, резкие громкие всплески бравады, успокоение счастья. Путь не кончается, мы ныряем в темноту ночи, чтобы через мгновение вырваться, вывернуть под поток света, разбивающийся на попадающие прямо в сердце и в глаза осколки. Путь не кончается, дорога словно замыкается кольцом, все ускоряются чувства, свет – все растворяется в нем. Я не могу разобрать ни слова, но я чувствую, я понимаю этот шепот, то, о чем он говорит, то, что сейчас он раскрывает для меня – самые важные тайны этой жизни, бесконечно сжавшейся, кажется в это мгновение полностью умещающейся в этом авто. Скопления огней выстраиваются, встречаются на пути и, не задев нас, пролетают мимо – другие миры, особые, и шальное желание посетить их, остаться в них, узнать их, тревожит сердце еще несколько мгновений после их исчезновения. Миры огромные, гирляндами огней, районами и городами остающиеся позади и миры совсем крошечные, сродни моему, такие же одинокие, хрупкие, как и мой, двумя огнями вырывающиеся навстречу, но сразу же гасящие дальний свет, не успев коснуться им нас – своими переживаниями, мыслями, своей жизнью – пролетающие мимо, в темноту, гаснущие в ней двумя красными точками. И не умеющие управлять большими мирами, безвластные, мы все же находим силы справляться с этими, малыми мирами, и хоть и не без труда, не без усилия и не без сожаления, но все-таки разрываем это кольцо, и все – легкая вспышка скорости и света. Хлопок двери.
Пауза, равная нескольким шагам и еще раз хлопок двери, и уже совсем другой, ленивый, яркий, разбуженный мною свет.
– Привет любимый.
В отличие от него ты не спала, ждала меня?
Такой знакомый поцелуй. Если подумать, я выбрал его всего-то не более чем из десяти. Наверное, он и правда лучший, просто усталость, представляю, сколько ты умоляла тогда тот день не уходить, дождаться моего возвращения, вы сидели с ним в темноте кухни, в тишине, чтобы еще хоть что-то успеть вместе со мной.
– Я так соскучился, – ужасная скука этой жизни, я думаю, вселенная просто огромный зев, на мгновение – это и есть все мы.
Физиология, душа. Шелковый халат и шелковая же кожа, чертовски неудобная кушетка, в тысячный раз я проклинаю ее. Сброшенные на пол брюки, давят не снявшийся галстук, рубашка, мешает повисшее на руке пальто. Я пытаюсь раскусить эту кожу, разорвать зубами, чтобы выпустить все прячущиеся страхи, страсть и наслаждение. Я почти чувствую их вкус. Но это ощущение оборачивается жаждой, и включенный свет окончательно расставляет все на свои места, лишь немного помогли ему – повесил пальто, поправил кушетку, ты выставила белоснежные тарелки на край стола, словно в благодарность этому яркому электрическому свету, заменившему нам давно убежавший, не дождавшийся меня день. В благодарность этому свету – чтобы он мог так радостно отражаться в них, купаться, переливаться, пока ты хлопочешь на нашей кухне. И все-таки эту жажду так сложно утолить чем-то, даже красным вином – лишь разгорается, лишь растекается по всему телу.
– Чудесный ужин, – раскусив кусочек мяса, ощущаешь острый вкус приправы и паприки.
* * *
Пока нет туристов – нет и работы, все слоняются без дела, пытаясь изображать хоть какую-то занятость, но все больше похожи на приведения, кропотливо и бессмысленно повторяющих свои некогда важные прижизненные обязанности. Зачем каждое утро этот пожилой мужчина бросает свою жену и открывает деревянные двери своей пляжной кофейни? Я чуть ли не единственный, хоть и постоянный посетитель. Зачем целыми днями дожидается невесть кого городской банк? Все, кто живет здесь – давно разменяли в нем все, что оставалось у них от прошлой жизни, а ветер – бессребреник, что толку от его посещений? Зачем женщины носятся со старым выцветшим бельем, стирают его, с ненавистью душа, погружая под воду эти уже и так давно лишенные жизни отрепья. Кто-то чинит лодки, кто-то подметает улицы, пытается завести старый внедорожник, теперь и правда уже наверняка навсегда лишенный дорог – все ворошат прах, умирая от скуки. Больше похоже не на жизнь, а на раскопки в каком-то погребенном в песках городе. Но этот город давно спит, и не разбудить его, заново укутывается в пески, боясь холодных зимних ветров, лишь на мгновение обнажив мне свои улицы.
Почти проснувшись, зябнут эти тени, почти чувствуют дыхание реальности, почти открывают глаза – но нет, идут дальше, мимо меня, своими бессмысленными путями. И я, похоже, единственный, кто в силах оживить их, вложить хоть какую-то жизнь в это призрачное существование, обменял сто долларов, заказал виски, так звонко прозвучали настоящие живые слова, зазвенела посуда, и так бережно хранившая в этом враждебном холоде свое тепло бутыль, уже не надеявшаяся поделиться им с кем-нибудь, вначале даже не хотевшая открываться, словно оберегавшая его от этой призрачной жизни, в итоге отдала его мне.
– Джеймс!
Джеймс, Джеймс, Джеймс – что за имя.
– Джеймс! – постепенно прикрепляется ко мне, то, что я подобрал где-то на этих улицах, сдуру. Словно бездомная собака привязалось это имя – и везде вокруг только и слышу его. Не бросать же его теперь.
– Иду. Иду, – отзываюсь я очередному приветствию, уже почти знакомых и почти привычных людей.
Наличие телефонного аппарата – пять местных центов минута разговора с Прошлым. Соединит напрямую. Я даже не сомневаюсь в этом, в этой возможности воскресить голоса, не сомневаюсь, но и не могу смириться – невыносимо. Я пытался обойти это место другой улицей, но и тут он нашел меня. Лучше не смотреть на него, не показывать своего страха, словно он может броситься, узнать меня, словно не только я могу позвонить, но и он может, заметив меня, раздаться звонком. Я не ускорял шаг. Не бросался в бег. Но я чувствовал, что он смотрит мне в спину. Он следил за мной и знал, кто я.
Пустые магазины – призраки себя самих. Пустой город. Мелкими перебежками по песку пляжей блуждает скучающий ветер, играет с ним за неимением других развлечений, подбрасывает высоко – высоко.
Этот город лишен своей жизни, настоящей, бурной, он словно сшит на десять размеров больше, мешковидно и неуютно смотрится на столь немногочисленных, чужих, но взявших на себя обязанность ухаживать за ним и быть рядом людях. Брошенный, одинокий город, как много раз признавались ему в любви прекрасные, мимолетные незнакомки, прислушивались к его дыханию, отдавали ему все, но сбегали, лишь только ветер переменялся, лишь только лето подходило к концу. Как жестоки они с ним были, но только они и могли наполнить его жизнью, светом, счастьем. Мы же постоянно рядом, постоянно вместе, связанные судьбой, не можем дать ему ничего, не можем сотворить с ним этого волшебства.
Город живет не нашими заботами, не всеми этими призрачными стараниями, не ими. Воспоминаниями.
* * *
Воспоминания. В этом мы так похожи с ним. Я закрываю глаза. Я хочу вспомнить. Темноту. Не ту, что наступит, когда день как всегда неторопливо выполнит всю свою работу и уйдет прочь, и даже не ту, что была здесь, со мной, кажется всего несколько часов назад, до самого утра. Другую – совсем другую темноту. Темноту в которой растворились и страх, и усталость, и гораздо больший – в тысячи раз больший город, чем этот, и даже белые простыни спальни. И ты в них – таяла, медленно, ты – самая лучшая, таяла, еще дрожали твои бедра. Темнота. Приподняв аккуратно один край одеяла, как приоткрывают чужой конверт, в готовности мгновенно его закрыть, поставил ногу на пол.
Путь из спальни в ванную – длинный темный коридор второго этажа упирается в узкое окно, дверь направо, если пошарить рукою по стене – найдется выключатель, но, слава Богу, не нашел его, машинально подняв руку – темнота лишь вздрогнула с перепугу, но вот снова распрямилась, выровняла дыхание – в безопасности. Не бойся, никто не тронет тебя. По черному окну стекают капли дождя, далеко-далеко прыгают городские огни, словно светлячки, им нет никакого дела до нас, они счастливы своей пьяной ночной жизнью, и лишь дикий холод с жадностью прильнул к окну, словно завидует мне черной завистью.
– Спокойной ночи, родная.
– У тебя такие холодные руки.
* * *
Я открываю глаза – здесь все еще день. Свет. Хозяйка дома, где я обосновался, жена владельца кафе, осторожно стучится в дверь и, не услышав возражения, входит. Входит и убирает все следы моего существования, заботливо, припевая какую-то уже почти стершуюся из ее памяти песню, снова возвращает все в первозданный вид. А после, улыбаясь, уходит, оставляя меня в полной растерянности и смущении. Каждый день. Высшая услужливость с ее стороны, отточенная на туристах, невыносимой болью отзывается во мне.
Запустить бы ее в свою память, но вряд ли, вряд ли. Найти кого-нибудь – красивую, смуглую, едва ли не моложе моего горя, заботливую, местную, может, она приберется там? Запустить ее в душу, в память.
Я иду к морю, может, оно смоет хоть что-то. Очищающее, огромное. Море, своими волнами, терпением, вымывающее камни, закругляющее их углы, успокаивает меня, заговаривает мою боль своим равнодушным шепотом, но после опять выносит на берег моего сознания, словно следы какого-то далекого кораблекрушения острые осколки другой жизни, воспоминания.
* * *
Я помню тишину, страшную, оглушающую тишину, словно тишина пустого театра, когда все зрители, все участники и служители давно покинули его, ушли прочь, унеся с собой, каждый по крупице, смысл, восторг, разочарование, каждый – по ничтожной крупице, но не оставив ничего, не оставив ничего мне. Я стою и смотрю на разбросанные декорации, пустые комнаты темного офиса, бумаги, все, что осталось от моей, теперь, кажется, никогда и не существовавшей армии. Внизу за окном золотой рекой бежит дорога, льется свет, журчит, падает водопадом и течет дальше, тихой струёй, далеко-далеко, пересекаясь с другими реками, сливаясь с ними, разбегаясь на новые, и где-то совсем далеко вливается в океан. Огромный океан света. Мой театр пуст.
Я помню их, их дикие глаза и свой страх. Они выжидают нас годами, наблюдают за нами, они все время рядом. И, может быть, именно они заманили меня в ту ловушку, больного, слабого зверя, оторвав от общей довольной, разбежавшейся по теплым домам стаи. Их глаза манят меня, я знаю, что они ждут меня. И я парализован собственным страхом и их волей. И не в силах остановиться. И вот я в пятый раз пролистываю телефонную книжку и страшно, и горе, но я листаю ее вокруг одного когда-то поспешно записанного номера.
И голос, ответивший мне, обдает холодом, кровь приливает к вискам, плещется, рвется прочь, словно чувствуя беду, заранее.
– Я тебя жду. Выходи, бери машину, приезжай.
И я не в силах ему перечить, я не в силах ему сопротивляться, выполняю его приказания. Я понимаю, я знаю, чей он, я узнал его. Я знал, что это он, и я хотел пропасть, попасть в эти когти, быть растерзанным ими. Чтобы эта кровь, переполняющая меня, словно водопадом бьющая в виски, стучащаяся, ищущая выхода, наконец, нашла его.
Я помню тишину, страшную, оглушающую тишину, словно тишина ночного леса, когда все хищники, жертвы притаились, выжидая. Все замерли, примеряя на себе небытие. И точно не осознавая, кто они в этот раз, те или другие, в это мгновение. Выжидая момента, чтобы прыгнуть, броситься на жизнь, схватить ее зубами, гнаться за ней или, наоборот, мчаться от нее прочь. Я жертва, я хищник? Кто я? Кто-то норовит разорвать меня на части или кто-то станет моей жертвой, и я сам причиню дикую боль. Осознанно ли, случайно ли отбился я от стаи в этой тьме, запоздал, остался? Я слушаю шум лифта, рыщущего где-то внутри, в стенах этой бетонной глыбы. Он затих, притаился где-то на самом верху, чтобы вдруг, неожиданно выскочить, броситься вниз и разом заглотить какого-нибудь полусонного запоздалого служащего и после разочарованно выплюнуть десятком этажей ниже. Я затих, как и он, словно тоже жду свою жертву, по-паучьи прячусь ото всех, прислушиваюсь к каждому шороху. Но мы не можем быть лучше, чем мы есть. И не можем быть тише, чем наше стучащее сердце, чем шорох наших ресниц, чем тяжелое дыхание. И вот я разоблачен своим несовершенством, и он срывается сверху, с рыком проглатывает меня и уносит вниз, в темноту, в свет этой ночи.
И дорога снова и снова расходится, и каждый раз я мучительно выбираю не тот, неправильный путь, и все быстрее подъезжаю к Ее логову.
И красные глазницы ее окон парализуют меня. И я не могу ничего сделать. Лишь выключить телефон. Чтобы Ты не позвонила. И дверь раскрывается, и чарующе прекрасный своей опасностью силуэт в темноте, и последний шанс уйти, спастись, прочь. И последний шаг.
И так больно, без анестезии, хоть бы выпил коньяка. Господи, совсем трезв. Словно по стеклу острыми когтями она раздирает меня. Набрасывается на меня и пьет мою кровь. И пьет мою жизнь, методично и церемонно, словно какой-то обряд, посвящение. Словно меня приняли в какое-то тайное общество. И мне ужасно от этого, но я покорно выполняю все, что она повторяет. И в благодарность ли, или такие правила – она все же оставляет во мне хоть немного жизни.
Растерзанный и обездвиженный, выброшен на улицу, на холодную, затуманенную морозным паром улицу. И болевой шок. Подобран милостивым господином на такси, и увозимый теперь прочь, прочь, назад в центр, к свету, к своей обычной нормальной жизни, к Тебе, и нет сил включить телефон.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.