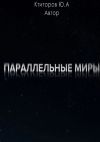Текст книги "Миры Джеймса"

Автор книги: Егор Клопенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава 13
Все тот же электрический свет, вряд ли что-то новое есть в его желании разделять нас. В желании вырывать из объятий бархатной ночи все эти предметы, контуры, линии, грубо обличая и расставляя все по местам. И у нас с тобой было свое место и стоило торопиться, чтобы успеть занять его. И все это было знакомо нам и уже не было сил сопротивляться. И в этой ледяной утренней воде такая знакомая свежесть, и в этом клокочущем на кухне чайнике, и дальше – в чернеющем чае, в твоих вопросах, в моих ответах, и в наших мыслях – тоже отголоски вчерашних дней и так сложно по крупицам в них собирать наше будущее.
– Какое сегодня число?
И безумно хотелось отказаться от этой обыденности, от повторяющейся безысходности этого утра, выплеснуть прочь этот остывший чай, словно он – яд, раздирающий нашу плоть изнутри, подавляющий наши силы и возможность сопротивляться. Если бы я только знал тогда, что выплескивая вот так наше прошлое, мы можем ненароком вместе с ним выплеснуть и будущее. В нашу эпоху оно научилось подражать настоящему и прошлому в совершенстве. Эволюция времени. Ради выживания. Ради того, чтобы иметь возможность сбыться, в пугливых человеческих жизнях, минуя наш панический страх перед новым, перед потерями. Минуя наше непонимание, преобладающее над мечтами, над желанием исполнить свое предназначение и дать новым мирам возможность осуществиться. Именно поэтому будущее становится все изобретательнее и уже не открывается нам до того, пока не обретет окончательно плоть и не получит полную власть над нами. Мимикрия. Оно принимает вид наших обычных дней, перенимая их серую окраску, их глухой голос. Незаметно оно сливается с контурами нашей привычной жизни, невидимое для нас, прячась от нас, ожидает того момента, когда сможет обрушиться всей своей силой, своим естеством, сбыться. Раньше времени не раскрывает того, что оно уже здесь и мы давно на его территории. И новые миры являются нам в обличии старых, и лишь после открываются, обнажая свою суть. «Ты хочешь еще чаю?»
Все та же погода на улице, та же тьма, но путь уже не пугает, расстояние знакомо, измерено, терпимо. На ощупь, на слух. Шорох снега, все тот же ветер, такие же, если не те же люди – полутемные контуры в черноте зимнего утра. Все те же мысли, давно знакомые, но я послушно иду, и снова верю в них, верю в этот путь. И каждый шаг мой – переход границы, и каждый отголосок в моем сознании – именно та мысль, та потрясающая идея, что приходит к нам, за нами, чтобы провести в новый, ждущий уже нас мир. Мы всегда чувствуем в них привкус чего-то давно знакомого, родного. Как вкус молока, как тепло взрослой руки, переводящей нас через дорогу. Почему же это родство так отпугивало меня все время, казалось фамильярностью? Господи, почему я боялся? Почему сразу не понял, что именно так и должно прийти оно, будущее? Чего я ждал? Триумфальных ворот? Чего-то совсем нового, невиданного?
Почему я был так смущен столь знакомым его звучанием, зачем я так долго сопротивлялся, прежде чем поверить в него? Но теперь я готов поделиться им с тобой, и хочется развернуться прямо сейчас и бежать к тебе, но каждый шаг мой – переход границы, и я знаю, что это произойдет прямо сейчас, теперь, и, разгадав замысел будущего, разглядев, я не смею разоблачить его. Я должен подыграть ему, сделать вид, что ничто не происходит, не ускоряя шаг идти дальше, принимая все уже привычные почести и обряды этого повторяющегося дня. Так долго сопротивлялся ему, так долго мешал его приходу, его замыслам, теперь же сам ему помогаю. И лишь вечером, шепотом, поделиться с тобой этим будущим, этим знанием, что проведет нас тайными тропами в наш новый мир.
Но уже встревоженная мною эта мысль теперь не хочет успокаиваться, она бьется все сильнее о клетку моего разума, моего сознания, в невозможности выбраться на свободу, трепеща, нервно взметая вверх, рассыпаясь гроздьями фраз и слов. И мне страшно за нее, я боюсь, что она разобьется, повредит себя, не дождется свободы. Как успокоить ее, как попросить сесть на свою ветвь? Я выпущу тебя, подожди, выпущу тебя, не бойся, вечером – но она не слышит, не может ждать.
Свобода. Надо звонить. Звонить. Словно перья и пух летят во все стороны в моей голове слова. Один. Справлюсь. Нет. Звать. Нужна помощь. Но остался ли телефон? Остался. Нет. Остался. Голос был так знаком. Звать. Звать. Прямо сегодня. Обязательно позвать их всех. Успокойся, успокойся, время ждет.
Так я нес эти мысли до вечера, и как бы я ни старался не выдавать присутствие будущего, вести себя как всегда, боюсь, что эта паника прорывалась наружу, и я был счастлив уже от того, что не был до конца рассекречен. Еле дождавшись, когда завершив предпоследний оборот минутная стрелка, вначале так легко, так резко, упала вниз, словно съезжая с ледяной горки белого циферблата настенных часов, но дальше, с таким трудом, с такими мучениями и нежеланием забралась вновь наверх, я бросил все, захлопнул за собой дверь и покатился вместе с ней с этой горки, с ветром, так быстро, что, только съехав вниз, был уже дома.
Но так странно, неожиданное затишье: мысль, тревожившая меня весь день, теперь словно исчезла – не шелохнется. Я сижу напротив тебя, я открыт, она может спокойно выйти на долгожданную свободу, неужели она не чувствует это, неужели не дождалась, жива ли она? Прошло ведь совсем немного времени? И темнота, избалованная тобою, лежит у твоих ног, прямо в нашей комнате, и совсем не боится настольного огонька лампы, прижимается к нему вплотную, чувствует, что с тобой она в безопасности. Тишина. Мое опустошенное сознание наслаждается ею, этой свободой, твоим взглядом и, может быть, даже тем, что, наконец, больше нет этого хлопанья крыльев, этой паники, этого потока несвязанных слов, но неужели мне нечего сказать? Неужели я потерял все?
Мы вдвоем на этом спокойном берегу, лунная вода лишь слегка плещется за окном, словно жизнь пытается совсем задержать дыхание, остановиться, не тревожить нас – но это против ее естества, и легкий ветерок оборачивается вздохом и выдохом – и что-то продолжает происходить во тьме, меняться. Наш песчаный берег и мы ждем, что к легкому плеску прибавится едва различимое медленное, тяжелое движение, и из этой тьмы проявится силуэт корабля, идущего за нами, чтобы перевезти на другую сторону. Назначенное место, но давно уже просроченное время. И от этого только сильнее ожидание, только чутче.
Все эти дни – были одним днем, и все мои разрозненные слова складывались в одну фразу, в одну мысль, в одну истину, которую мы так долго ждали. Все эти вечера были одним вечером, в котором мы знали, должно было появиться, начаться что-то еще. И каждый раз, не дождавшись, не найдя этого чего-то, мы словно включали быструю перемотку назад и опять прослушивали, просматривали день заново, уже совсем пренебрегая его утренними подробностями, этой потерявшей всякий смысл суетой и, наоборот, усиленно всматриваясь, вслушиваясь во вновь приходившую вечернюю тьму, словно опять замедляя время, растягивая до бесконечности. Мы так долго ждали, так сильно хотели этого, что услышали зарождающуюся бесшумную дрожь задолго до того, как она обернулась хоть каким-то звуком и уж тем более прежде, чем превратилась в раскатистый и показавшийся нам пронзительно громким телефонный звонок – словно гудок корабля, заходящего в порт. Прерывающий и наше ожидание, и этот вечер, и этот долгий переход из одного мира в другой.
И лишь еще несколько предложений по эту сторону страницы – не часть уже оборвавшегося мира, но частица моих размышлений, более поздних, возвращающих меня сюда из совсем других, здесь еще даже не зародившихся миров: часто то, что нам кажется всего лишь переходом из одного мира в другой не является таковым, и иногда это мучительное ожидание, как ничто иное богатое страхами, но также и устремлениями, и чистыми помыслами, уже и является самостоятельным миром, со своими законами – гравитации и жизни. Часто, если не всегда. И то, чему раньше мы не придавали значения, оказывается целым созвездием ярких миров, совсем неизученных, почти не тронутых нами, но обладающих всеми необходимыми признаками самостоятельности: неделимостью, независимостью и, к сожалению, невозвратимостью. Так, в черную ночь, смотря на небо, видишь лишь тьму, после – крупные звезды, и только для самых целеустремленных наблюдателей небо рассыпается блеском бесчисленной звездной пыли, делающей его светлым и прекрасным.
Глава 14
В тот вечер наша новая идея, нашла выход и обретя свободу тысячью восклицаний, возражений, одобрений бесконечно зазвучала в полутьме нашей кухни – и если в одиночестве так мало что получается, может, нам нужна чья-то помощь? Может, не зря воскресали эти голоса из предыдущей жизни, пытаясь вырваться из телефонной трубки, прорваться на нашу малую кухню? Пустим их сюда?
– Завтра? – переспросила ты, но это уже был ответ.
Завтра. Но словно они не хотели ждать, и так столько уже времени потеряли, и прямо сегодня, в то же мгновение вторглись в нашу жизнь, ворвались, начали обживаться, обосновываться. Их имена, что раньше ты даже не слышала, теперь так звонко сотрясали своды этой кухни, твой голос повторял их, без нужды, но ты радовалась каждому отзвуку, словно отблеску перебираемых драгоценностей в приглушенном свете. И каждый из них, пусть невидим, но совершенно отчетливо ощущаем, был с нами, за этим круглым столом, теперь казавшимся нам столь значимым и большим. Первое тайное совещание нашего братства. Да и разве что-то могло быть по-другому, даже если бы все они во плоти присутствовали здесь? Разве кто-то из них смог бы прервать тебя, вмешаться в твою речь, перебить тебя, дать ответы, на твои вопросы, предположив, что у тебя самой их нет, или что их ответы могут быть лучше твоих? Все та же дрожащая тишина обрамляла бы твою пламенную речь. И разве я могу перебить тебя, твою уверенность своими ничтожными сомнениями в том, что у нас все это может получиться – вдруг кто-то из них так и не придет, а наш поход сорвется, и в нашем братстве так и останемся лишь мы с тобой вдвоем?
* * *
Чай стынет, не могу прикоснуться к нему, он где-то в недосягаемости моих мыслей, моих устремлений, где-то между небом и землей, на этой бесконечной белизне – скатерти. Я могу больше, мне нужно больше, я хочу услышать отчаянный крик ветра, пойманного на самой вершине скалы, пойманного и придавленного к ней, не видящего пути к отступлению, боящегося броситься с такой высоты. Большего, большего, чем эта простая вода, доведенная до негодования, до агонии бешенства, но так и не взбунтовавшаяся, покорно успокоившаяся в этих чашках, так клеймами прижигают животных: окончательный этап одомашнивания.
И постепенно все эти вызванные нами духи, и так невидимые, совсем перестали ощущаться, словно незаметно разошлись по одному, оставив нас наедине друг с другом, с этим вечером, с утишающей тишиной, с этой теперь кажущейся непривычно большой для нас двоих кухней, и с непривычно большим для нас будущим, до неузнаваемости измененным их появлением здесь. И вечер тоже заканчивался, и у него больше ничего не осталось для нас, он молчаливо ждал, пока сможет уйти, и лунный свет, словно плавящийся воск, стекал по оконному стеклу, отражаясь в тающем мокром снеге и водяных каплях.
Ты убрала кружки, сдернула покрывало. Оставив меня перед голой, с потертостями и ссадинами деревянной поверхностью. И, видимо, чтобы не смущать меня этим зрелищем, погасила свет. Пустота?
Не сегодня, еще не сегодня? Завтра? Что же, еще один день? Я привык. Ничего страшного, дни мелькают – и дождаться следующего, это все равно, что просто отойти и еще раз подойти к столу. И уже не хочется самому зажигать свет в этой тьме, пожалуй, пусть это сделает новый день, позволю это ему.
* * *
Все тот же вечер. Еще раз. Из завтра в сегодня. Остров белого света в полумраке чернеющего океана. Можно ли считать спасением то, что нас опять выбросило на него?
Или спасение не в нем, но должно прийти из этой тьмы? И если не придет – этот остров может обернуться настоящей мукой для нас. И я уже чувствую, как это происходит. Они не придут – эта мысль звучит в голове, и все так похоже на вчера, ни одного отклонения, ни одного изменения в привычном узоре вечернего неба, в уже привычном рисунке расходящихся по нему волн, окружающих нас, смыкающихся над нами. Неоткуда ждать спасения. Поразительно похоже на вчера, позавчера. Они не придут. И я точно знаю, что ты сейчас сделаешь. Теплый чай.
– Хочешь ли чая?
Они не придут.
Но минутная стрелка, похоже, уже собиравшаяся что есть сил бежать прочь от назначенного времени, тихо и незаметно прокравшись мимо него, застигнута на месте раздавшимся звонком в дверь, замерла.
Ты открываешь дверь. Голоса все громче, все ближе, преодолевая сопротивление миллиона лет и миль, называют мое имя и раздаются оглушающим гулом. И я делаю несколько шагов им навстречу. И вот они здесь.
И засмущавшийся стол, и притихший чай. Радоваться ли встрече? Или жалеть, что нас так мало? Лучшие ли остались? По силам ли нам сделать то, что задумали мы? Моя королева, как ты просила. Все что есть. Вся старая армия. Пусть она уже не та, что ты представляла себе. Все, кто откликнулся на наш зов. И минутную стрелку можно было бы уже отпустить, но я все еще ждал и пристально смотрел на нее, ждал еще звонка в напряженной тишине. Но никто больше не приходил. Стрелка медленно по чуть-чуть начала уходить – и я не стал бы уже останавливать ее, но она опять замерла под моим взглядом. Но уже все. Моя королева. Больше никого. Так мало. Намного меньше, чем в старой сказке про такой же круглый стол.
Поверить ли в эту сказку? Поверить ли в нее? Или допить чай, подслащенный старыми, полустертыми воспоминаниями и закрыть дверь?
Лучше так, я не могу поверить в этот круглый стол. Но воспоминания не растворяются в тишине, нависшей над нами, и я чувствую, что все ждут моих слов, что все боятся, что так и не услышат их или не поверят в них, услышав. Я же боюсь не поверить в них, произнеся.
И снова минутная стрелка, воспользовавшаяся тем, что мы отвлеклись, чтобы удрать прочь, пробежавшая уже пол оборота, застигнута множеством удивленных взглядов, вынуждена замереть и остановиться – опять звонок.
И ты идешь встречать.
И вновь голос, приближается. И рождает в нас радость и веру.
И радость, и вера.
* * *
И мы все были равны за этим столом, и каждый был необходим и незаменим.
Я был удивлен, увидев всех их в моем, нашем с тобой мире – гостящие в нем великие воины. Я чувствовал благодарность за их службу мне, тебе. За то, что они бросили все свои миры и пришли в наш, на наш зов, согреваемые нашими фантазиями и ими ведомые. Им было непривычно здесь, но они скрывали это, боролись с этим чувством, чувством страха и неуверенностью, и эта борьба обернулась их первой победой в этом еще только начинавшемся походе.
И я выступил, и призывал их идти за мной, и принести в этот мир покой и благодать. И получил согласие, и они присягнули на верность нам, нашему миру. И через три дня мы начали свой первый поход.
Впрочем, вначале это были скорее мелкие вылазки, подпольная война. Слишком далеко зашли наши враги, и уже было практически невозможно перейти в прямое наступление и отвоевать назад нашу жизнь, наш королевский мир. Подпольно. Темными вечерами за круглым столом в тишине обсуждали планы, чертили, рисовали. Днем же скрывали, каждый из нас по-своему, сохраняя в сердце, в памяти оставшийся привкус горячего чая и тихого голоса, уверяющего, что все получится, и наш заговор обернется успехом. Каждый из нас по-прежнему играл свою роль. Перебежками от работы до места тайной встречи. И наши первые выпады – маленькие диверсии, подрывающие монотонный строй наших невольно бедных дней. Выпады, не рассчитанные на окончательную победу, лишь маленькие шаги к ней, диверсии, для того, чтобы сбить монотонный угнетающий ход этой жизни, душащей, порабощающей нас. Но двойная жизнь вдвойне труднее. Несколько часов для сна. Я помню твое лицо, когда мы праздновали нашу первую общую победу, тихую победу в полутьме нашей комнаты – как ярко озарена была она, словно искрами, брызгами белого дешевого игристого вина – нашу честную, первую победу. Подпольный праздник. Чуть раньше отпросилась с работы ты, и я, и все мы. С основной работы. Она всех нас так нехотя отпускала. Словно чувствовала, что теряет, заподозрила что-то, но нам удалось скрыть, обмануть, уговорить, улыбнуться ей, уходя. Поверила, и с подозрением, но приняла нас к себе опять на следующий день. И через день еще одна победа, громче, ярче, и снова обман, и уже почти не поверила, скандал, заподозрила, но разве мы могли уже не уйти? Тысячи оправданий, тысячи. И еще, и еще, и мы уже не знали, как сказать ей, как прекратить эту агонию обмана. Новая жизнь разворачивалась, светом проникала в старую, просачивалась через все щели, через все условности и неточности, через обеденные перерывы, через телефонные разговоры и, как это и должно было в итоге случиться, столкнулась однажды лицом к лицу с ней, со старой – все решилось без нас. Меня вышвырнули с работы. Вдогонку выкрикивая проклятия – видимо уже не оставалось надежд задеть, дотянуться до меня и придавить тишиной презрения. Окончательный разрыв. Освобождение. Этот мир узнал о нас, о нашем сопротивлении, о наших тщеславных замыслах, узнал – и было поздно уже скрывать. Мне казалось, он был удивлен. Был ли обрадован за нас, за себя, узнав, что мы пришли его спасти, освободить? Не знаю, эта родительская радость, переплетенная с беспокойством, со страхом за нас, за наше будущее. Мы вышли из подполья.
Были ли рады мы? Это рабочая трудовая радость, перемешенная с усталостью, все замедляющей полуночной усталостью.
Победа? Но были и потери в нашем строю, и если мой проигрыш и потеря работы не в счет, легкое ранением – разве что ты чуть-чуть испугалась за меня, но, обняв, прислонившись ко мне, прислушавшись к моему сердцу и убедившись, что ничего не изменилось, что я по-прежнему с тобой, успокоилась, то одного из нас мы потеряли навсегда. И было уже не прикоснуться к нему и не проверить, что у него все в порядке, что и его жизнь, пусть без нас, продолжается, он исчез так же как и появился – голосом ускользающим и затихающим в моей телефонной трубке, голосом вновь почти не знакомым мне. Призрачно далеким. Голосом прощания.
Он отказался после двух месяцев пути. Просто остался, отстал, медленно отставал, смотря нам в спины и боясь, что кто-то оглянется, боясь увидеть взгляд, полный осуждения. Мы же старались идти не слишком быстро, медленнее, чтобы дать ему шанс вернуться, догнать, но не оборачиваясь, чтобы оставить ему возможность уйти.
Мы собрались вечером, уже без него. На нашей скромной кухне. Поражение. Вечер был полон тишины и сожаления, и терпкого вкуса янтарного виски. И уже пора расходиться. И продолжать. Продолжать все. С утра – работать, днем – встречи, новые планы и грандиозные успехи, которые обязательно будут, но теперь придется их делить лишь на четыре. И их, и все наши поражения и неудачи. Продолжать пытаться, продолжать искать помещение, постоянное, для того, чтобы стать еще сильнее. Еще самоотверженнее сражаться для того, чтобы достойно ответить жизни на это наше поражение. Так было решено. Луна разливала в наши опустевшие стаканы свое янтарное зелье – ничем не хуже виски, та же терпкая грусть.
* * *
Через несколько дней одиноких скитаний по городским улочкам, ведомый каталогом объявлений, совсем уже запутавшийся во все усложняющихся топографических загадках и каждый раз все дольше искавший в городских катакомбах очередное предлагаемое для сдачи место, я чудом наткнулся на него. Точнее, вначале на его хозяина, нелестно отозвавшего обо мне за пятнадцатиминутное опоздание, но все же соблаговолившего показать мне это помещение. Это было оно. Наше место.
Вечером я рассказал о нем всем и на следующий день уже выступал в роли проводника. Но чем дальше мы шли, тем эта роль все сложнее давалась мне, где же оно? Его нигде не было, я не мог найти его, оно исчезло. Совсем. Я шел и уговаривал его, словно убежавшую и прячущуюся за углом собаку вернуться ко мне. И вы уже не могли идти за мной, говорили, что верите мне, но ограниченные обеденным перерывом должны возвращаться назад, еще не потерявшие в отличие от меня последнюю связь со своей уже прошлой жизнью.
– Завтра, завтра, еще раз попытаемся, все вместе, возьмем точный адрес, – утешала ты меня.
Но я не мог остановиться, переполняемый досадой и свободным временем, я шел и шел дальше. И еще через несколько поворотов я встретил его, сверкнуло своими чистыми большими окнами, словно глазами, виновато, но солнечно, радостно. Я вновь открыл дверь, поднялся по лестнице, прошел по коридору. Это наше место.
На следующий день оно уже не пряталось. Мы почти сразу нашли его. Неуверенно смотрело на нас из-за угла. И вы согласились. Оно, и правда, было чем-то похоже на дворовую собаку, беспородное, испуганное, перепачканное. И мы приютили его, заплатив какие-то гроши желающему побыстрее избавиться от него хозяину. Вы согласились. Это выглядело так, будто вы действительно покупаете мне как ребенку собаку, сами тогда еще не собираясь проводить с ней много времени, даже не подозревая, что скоро уже практически не будете отходить от нее, и не догадываясь, как много она станет для вас самих значить.
Так появилось еще одно место, вторая точка после нашей квартиры на карте города, отвоеванная, принадлежащая нам. Скромный офис для наших начинаний, штаб нашей маленькой армии, нашей, теперь уже объявляемой во всеуслышание воины. И наша вера была такова, что двадцатиметровая комната показалась роскошной залой, и старое кресло – троном, и первое дождливое сентиментальное утро – ярчайшим днем. И он пришел и озарил своды нашей комнаты своим светом и золотом. И, кажется, настало время вступить в открытый бой? Битва за битвой, бой за боем мы проходили все дальше.
И уже было не остановиться. Победы, победы – все более и более пьянящий вкус, я выпивал их до дна. Негасимый свет ночных огней. Враг бежал. Наши страхи, наши кошмары чернеющими тенями бежали прочь из этого города, прятались в подворотнях, в подъездах, когда мимо проезжали мы. Бились в агонии. Все перевернулось, все так быстро поменялось. Бедность, нужда и горе уходили прочь. И нам казалось, что это навсегда. И наша армия ширилась, росла: по утрам принимали добровольцев, сбивчиво рассказывавших о себе, о своем небогатом военном опыте, присягавших на верность и сразу же бросавшихся в бой, в самое пекло нашей войны. Добровольцы шли непрерывным потоком, мы договаривались с хозяевами дома, где располагалась наша маленькая комнатка, потом две, три, четыре комнатки, целый этаж и дальше – пока не отвоевали весь дом.
Шли дни и шли ночи, и наша власть над этим городом расширялась. И нам давно уже незачем было скрываться в темноте нашей кухни, нам открывали двери шикарные дворцы и принимали нас в своих залах.
Город взят! Город был взят окончательно. Я скидывал к твоим ногам трофеи: меха, золото.
Я брал тебя за руку и вел по твоим новым владениям, там, где ты еще никогда не была. Рестораны, магазины – тебя везде встречали твои подданные с почтением, признавая твою власть. Ты, благосклонная, дарила им свою улыбку, а мне в этот момент – смысл жизни. Ты принимала назад свои владения и была счастлива.
Наша империя разрасталась. Тихий океан покорно встречал нас, Атлантический – боязливо смотрел, когда мы с тобой прогуливались по его облагороженным побережьям, вырываясь на несколько дней от тяжелейших и не прекращавшихся даже в наше отсутствие боев. Города сдавались, один за другим.
Десять долгих лет этих непрерывных походов, боев. И когда мое все разрастающееся войско после очередной битвы вечером возвращалось домой, изможденное, я не смел сказать им ни слова, благодарный и не желавший отнимать у них мгновений покоя, что остались до утра, до новой битвы, от которой я также уже не мог отказаться.
Долгий путь. Десять лет, и половину из них ты безумно скучала, оставаясь все дальше от этих боев, вначале отодвинувшихся на задворки твоего мира, а после и вовсе скрывшихся от тебя. И я вместе с этими боями уходил все дальше. И вряд ли ты уже видела наши огни, стоя на твоем королевском балконе, одна. Я возвращался с дарами в этот совсем другой мир, к тебе, где велась совершенно иная жизнь. И этот мир стал настолько большим, что уже не надо было думать о его расширении, впрочем, мы все же думали о нем, о наследнике, о продолжении наших судеб.
* * *
Бои продолжаются. Свежий воздух в раскрытое окно помогает держаться, отрезвляет. Словно на вершине горы разбит наш командный пункт – сорок первый этаж, выше только небо.
Открытое окно, я смотрю вдаль, светящийся город покорен, но пространство здесь так огромно, слишком огромно, мне не объять его целиком даже взглядом. И выше уже не подняться, выпущено из виду – а значит, уже не принадлежит мне, все, что было отвоевано с таким трудом. Я даже не вижу вдали нашего с тобой дома, тебя. Ничтожна моя человеческая власть. Высота сильнее, тянет меня за собой, манит недоступной подробностью булыжной мостовой, чернотою земли, россыпью расплывающихся красок, покоем едва заметного бесшумного движения. Один шаг, всего один – и так хочется выбрать хотя бы на этот раз легкий путь, но я человек, один шаг назад, еще один, десять тяжелых шагов до открытой двери, двадцать по коридору, семь ступенек по лестнице, и крошечная лифтовая площадка предвещает еще большую клаустрофобию этого медлительного спуска. Сорок пять, пятьдесят, шестьдесят шагов без цели, по кругу, пока это мучительное падение продолжается, и я уже сбился со счету, но путь еще так долог.
Но вот впереди главная дверь, и снаружи к ней прислонились морозный холод, ночь, пьяный город, и всего двадцать шагов осталось до нее, и нужно решить, куда эта дверь ведет, куда перенесет меня. В какой мир она выведет меня.
Я действительно думал, что я могу выбирать, что их два, возможных варианта, медленно шел, убеждая сам себя, что я все еще могу попасть в наш старый дом, в нашу, в твою сказку, под свет домашней лампы, яркий, лучезарный, в этот теплый, уютный мир, в великолепие твоего дворца. Еще шаг, время кончается, я хочу избежать этого ужаса, нового, чудовищного, животного ужаса, который я все еще боюсь впустить в себя, в свои мысли, а, следовательно, не могу описать его – лишь свой собственный страх. Я хочу выбирать. Я хочу остаться. Я хочу света. Дверь тяжело, бесшумно открылась, и портье попрощался со мной, наигранно улыбнувшись. Машина уже ждет, я не знаю, куда она привезет меня, я пытаюсь сдержать эти животные крики, свой голос, не проронить ни звука, стерпеть, пережить. Я сделал выбор, сделал, этот новый мир, ужасный, он просто взбесился от того, что не смог вырваться на поверхность, сбыться, он проскочил мимо меня, лишь слегка оцарапав своими клыками, ухватив когтями лишь пустоту этой морозной ночи. Для него – эти холодные дворы, эта пьяная тьма самых порочных, холодных улиц, для меня – свет. И чем дольше ехали, тем тише, дальше были его крики, превращаясь в почти неслышимое скуление. Я поправил ворот пальто. Ночь нежным светом растекалась по стеклу машины, но ни капли не проникло во тьму и тишину салона, ни капли, защищены. Домой.
Но вновь – утро, и лифт постепенно набирает высоту, и опять последний этаж, и вновь страхи охватывают меня, и темнеет в глазах, и открыв их, я вижу, что темнота уже везде, вокруг, словно серная кислота, пролитая на яркую картину этого дня, не оставляет от его красок и следа, съедает его – темное полотно, опять вечер. Тот же самый вечер. Повторение. И снова вдаль уносятся огни, снова то ли боязнь высоты, то ли клаустрофобия вытягивают меня из этого небоскреба прочь, уже почти бегом совершаю последние шаги, и знаю заранее свой выбор, я готов, я хочу прокричать его – словно криком можно отпугнуть эти скулящие ярые, злые глаза ночи, этот ужасный мир, подкарауливающий меня у дверей. Но снова и снова он нападал на меня. И было не избежать его. Я перепробовал все, абсолютно все, перед тем как сдаться ему. Сдаться. Пойми меня. Разве можем мы выбирать? Разве можем мы возвращаться? Лишь в один мир вела эта дверь, сколько раз ни выходи из нее, сколько раз ни меняй такси, ни беги пешком, ни запутывай следы. Мой главный проигрыш, главное поражение.
* * *
– Привет, как прошел день?
Что ответить тебе? Оставшийся без войска, побежденный, чудом прорвавшийся сюда, спрятавшийся в этом замке я чувствовал, знал, что мы окружены, и враги подошли к самым стенам, и я выглядывал в окно и видел, как мириадами огней горели их полевые костры.
Но пришло утро, и практически все огни погасли, и я понял, что это моя собственная армия. Моя собственная, ждет меня, моего появления и готова идти дальше.
Но снова приходит вечер, и вновь сердце замирает, за доли секунды падая с высоты небоскреба в грязь и слякоть чернеющих улиц. И возвращаюсь, возвращаюсь под ночь. Теплота дома. И я помню, шел дождь, странный зимний дождь, и ты закрывала мне глаза и шептала на ухо. И ковчег нашего дома сохранял тишину. Ты говорила, что все здесь, все здесь, ничто не потеряет наш мир к завтрашнему утру. Ничто. Все здесь. Но я чувствовал – что-то упущено, что-то прекрасное погибает под водой. Но ночь волнами наваливалась на нас, погружала в свою тьму, свою глубину и тишину. И уже было слишком поздно.
Ты говорила, что скоро вода спадет, и мы найдем землю, и будет новый рай и счастье. Скоро вода спадет. И я был словно белая птица, ты продолжала выпускать меня каждое утро в поисках земли. И я каждый раз продолжал возвращаться.
– Ты видел землю?
– Нет, – но как мне было сказать, что эта земля есть. И она ужасна. И я ел с чужих рук. Как мне было сказать тебе это? Земля давно уже есть.
* * *
Обычное утро. Пятнадцать лет прошло с нашей первой встречи, нашей первой ночи. Все с точностью до наоборот. Словно оно – дверь через которую мы вошли в этот мир – только теперь представившаяся нам уже с обратной стороны, но я узнал ее.
Обычное утро. Разбужена и испугана им, или мною – кем-то из нас, ты приготовилась прощаться, ожидая, когда я переступлю за порог. Тревожный сон был в твоих глазах. Видит Бог – я не хотел уходить. И ты не хотела оставаться. Но ты поцеловала меня, и я исчез из этого утра, из этой квартиры, из этого города, из этой жизни. Не сразу, медленно, словно сон в твоих глазах. В то самое первое наше совместное утро ты решила уйти, не видя причин оставаться, радуясь закончившемуся дождю, теперь видя их тысячи, но не в силах остаться, ухожу я. И я вряд ли когда-то вернусь. Закрылась дверь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.