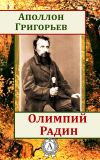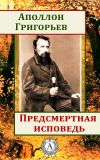Автор книги: Елена Бузько
Жанр: Старинная литература: прочее, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
2
Почти одновременно с Гиляровым-Платоновым свою статью о «Сказании» обдумывал Ап. Григорьев. Предполагавшаяся публикация статьи Григорьева стала одним из проявлений интереса к Парфению в журнале «Библиотека для чтения». Для анализа восприятия «Сказания» очень важна история этой критической статьи, задуманной в 1856 г., но так и не появившейся нигде в печатном виде.
Попытка восстановить историю этого неосуществленного замысла побуждает обратиться к эпистолярному наследию Григорьева, Дружинина, Тургенева, а также к тексту статьи М. Е. Салтыкова[178]178
С псевдонимом Н. Щедрин Салтыков впервые выступил в «Гу бернских очерках» (1856–1857 гг.).
[Закрыть] о книге Парфения и «Парадоксам органической критики» Григорьева, поскольку именно Григорьев и Салтыков почти одновременно работали над статьей для «Библиотеки». Однако статья Григорьева о «Сказании» ни в печатном, ни в рукописном виде неизвестна, а текст статьи Салтыкова, датируемый первой половиной 1857 г., не был опубликован при жизни писателя.
С инициативой написания статьи о «Сказании» выступил А. А. Григорьев. По свидетельству Григорьева, именно ему был обязан А. В. Дружинин знакомством с книгой Парфения[179]179
Григорьев А. А. Парадоксы органической критики // Он же. Эстетика и критика. С. 150.
[Закрыть]. Из письма редактора «Библиотеки» к И. С. Тургеневу можно заключить, что Дружинин прочитал «Сказание» только летом 1858 г. и вполне согласился с высокой оценкой книги Григорьевым: «… я читал за лето одно поистине превосходное сочинение, изданное в России несколько лет тому назад и, кажется, оцененное лишь московскими ханжами и поврежденным Аполлоном Григорьевым <…> Я говорю про Странствования инока Парфения. Или я жестоко ошибаюсь, или на Руси мы еще не видали такого высокого таланта со времен Гоголя, хоть и род, и направление, и язык совершенно несходны. Таких книг между делом читать нельзя, – а если вы еще проживете в деревне, то засядьте на неделю и погрузитесь в эту великую поэтическую фантасмагорию, переданную оригинальнейшим художником на оригинальнейшем языке…»[180]180
Тургенев и круг «Современника». С. 217–218.
[Закрыть].
В ответном письме от 10 октября 1858 г. Тургенев, соглашаясь с высокой дружининской оценкой «Сказания», называет смиренного инока «великим русским художником и русской душой»[181]181
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма. Т. III. С. 242.
[Закрыть]. Это письмо Тургенева поддержало идею осмысления книги Парфения как уникального явления в литературе. В 1860 г. в «Библиотеке для чтения» Дружинин писал: «…между первыми представителями нашей литературы мы можем насчитать не один десяток людей, вполне сознавших, что в странствиях инока Парфения сказался России великий русский писатель»[182]182
[Б. п.] Записки паломника / Дружинин А. В. // Библиотека для чтения. 1860. Т. 160. Ч. 4. С. 8.
[Закрыть]. Как видим, суждение Тургенева здесь приводится почти дословно.
В 1860 г. «Библиотека для чтения» поместила рецензию на «Записки паломника 1859 года», опубликованные анонимно. Непосредственно к сочинению Парфения рецензия отношения не имела, однако в финале статьи ее автор, редактор журнала Дружинин, упоминает о «неподражаемой истории странствований и паломничества инока Парфения», сравнивая «Сказание» с «Чайльд Гарольдом» Байрона. Столь неожиданное для читателя сравнение рецензент объясняет тем, что «…путешествие инока Парфения есть океан поэзии, бессмертная книга, которая останется в русской литературе на столетия, и с каждым годом будет приобретать большую и большую славу»[183]183
Библиотека для чтения. 1860. Т. 160. Ч. 4. С. 8.
[Закрыть]. Досадуя на то, что эстетическая критика до сих пор не сказала о книге Парфения «своего слова», Дружинин в данном случае подчеркивал значение того эстетического направления в критике, к которому принадлежал сам, но очевидно и другое: представление об отсутствии должного анализа книги возникло именно из-за несовместимости мировоззренческих позиций авторов, пишущих о Парфении.
Возвращаясь к истории замысла статьи о «Сказании», которая должна была появиться в «Библиотеке для чтения», напомним, что в 1856–1857 гг. Григорьев искал для себя место критика. В числе журналов, в которых он мог бы печататься помимо «Русской беседы» и «Библиотеки для чтения», оказался «Современник». Григорьев вступил в переговоры с журналом по поводу места главного критика, но выдвинул редакции условие, что будет просматривать все критические статьи – включая и статьи Чернышевского, чьи «Очерки гоголевского периода русской литературы» Григорьев воспринял как надругательство над искусством и художественным отношением к миру.
Следует указать на то, что для Григорьева искусство являлось едва ли не важнейшей из всех жизненных ценностей, а рационалистический, тем более утилитарный подход к искусству критик неустанно обличал в своих статьях и письмах. Вопрос о сочинении Парфения для Григорьева был принципиально важен, более того, именно отношение к книге Парфения явилось тем критерием, по которому критик «соотносил и поверял» ценность творчества. «Легкомысленный отзыв» Чернышевского о книге Парфения вызвал у Григорьева резкое неприятие, поразив критика «отсутствием такта и дубинностью чутья». Григорьев отнес статью Чернышевского к писаниям, «оскорбляющим всякое эстетическое и историческое чувство» «серьезного литератора»[184]184
Григорьев А. А. Письма. С. 107.
[Закрыть]. В отличие от Чернышевского, который рассматривал книгу Парфения как источник исторических и этнографических данных, Григорьев давал высшую художественную оценку «Сказанию», видя в этой книге ключ к пониманию внутренней жизни народа.
Статью о Парфении Григорьев начал писать весной-летом 1856 г. Однако работа давалась критику нелегко, о чем говорят его письма к Дружинину. Так, в августе 1856 г. Григорьев предупреждал редактора, что «окончание статьи замедлилось». Критик ощущал необходимость в том «сосредоточенном состоянии», которое было, по его мнению, необходимо для работы над книгой Парфения. Летом 1856 г. Григорьев «полмесяца пропутешествовал по богомольям» и, судя по письму к Дружинину, даже посетил Берлюковскую пустынь, где в то время настоятельствовал о. Парфений. Однако статью для «Библиотеки» Григорьев не подготовил, о чем в сентябре извещал Дружинина: «Статья о Парфении представл яет страшные трудности: об этой книге можно написать или гладенькую пристойную статью, каковых я писать не умею, или статью живую, выношенную в сердце: откровенно скажу Вам, что она уже написана, но я ею не доволен. Потерпите – довольны будете!»[185]185
Летописи государственного литературного музея. Кн. 9. Письма к А. В. Дружинину (1850–1863). М., 1948. С. 101.
[Закрыть]. Помимо приведенного выше оправдания-объяснения, это же письмо Григорьева содержало просьбу дать ему возможность «додумать» статью о «Сказании».
В декабре критик снова дает обещание Дружинину окончить статью, но позже, великим постом, когда, по его мнению, обретет состояние, необходимое для написания статьи. В январском письме 1857 г. Григорьев повторяет просьбу об отсрочке до великого поста, но вместе с тем в этом же письме говорит, что готов уступить статью другому автору при условии, если она будет «дельная и серьезная».
На этом следы работы Григорьева над статьей обрываются, правда, в письме от 22 марта 1857 г. Григорьев сообщает Дружинину следующее: «Сижу, неистово пью чай и пишу, пишу так, как давным-давно не писал. Статья будет мое полное и вполне прочувствованное литературное исповедание. Горизонт ее в эти дни так расширился, что менее пяти листов захватить она не может…»[186]186
Аполлон Александрович Григорьев. Материалы… С. 164.
[Закрыть]. А. И. Журавлева справедливо относит приведенные слова Григорьева к его работе над статьей «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства», а подпись под письмом «инок Аполлоний» расценивает как указание на воздержание от «загулов»[187]187
В примечаниях А. И. Журавлевой дан другой вариант: «инок Аполлон». См: Журавлева А. И. Примечания // Григорьев А. А. Эстетика и критика. С. 450.
[Закрыть]. Действительно, процитированный фрагмент письма не имеет отношения к статье о «Сказании», однако подпись под этим же письмом «инок Аполлоний»[188]188
Трактовать подпись Григорьева, встречающуюся в его письмах единственный раз, следуя логике А. И. Журавлевой, как воздержание от «загулов» нам представляется неправомерным.
[Закрыть] кажется слишком явным напоминанием о неисполненном долге Григорьева. Это напоминание может служить аргументом в пользу того, что статья о «Сказании» все-таки существовала.
Приведенные письма Григорьева подтверждают, что весной 1857 г. «Сказание» представляло для Григорьева живой интерес. Об этом свидетельствуют не только работа критика над статьей, но и оживленный разговор о книге с Салтыковым в марте того же 1857 г. Диалог обоих писателей о книге Парфения выходил за рамки личных взаимоотношений и получил отклик в литературной среде. Доказательство тому – воспоминания Н. Н. Страхова, в которых тот запечатлел разговор Григорьева и Салтыкова. Что касается позиции самого мемуариста, то он явно противопоставляет высоту паломнического подвига Парфения ничтожеству современного образования, породившему «холопов просвещенья»[189]189
Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки // Литературные заметки. 1892. № 314. С. 3–4.
[Закрыть].
Для понимания того, как воспринималось «Сказание» в литературном контексте эпохи, встреча Григорьева и Салтыкова особенно важна. Воспоминания об их беседе сохранили и «Парадоксы органической критики». Григорьев утверждает, что Салтыков занимал «отрицательную позицию» по отношению к книге. Описывая свою встречу с Салтыковым, которого он именует «компетентным господином», критик был искренно возмущен позицией своего оппонента: «Компетентный господин – в ответ на мою речь, выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развила бы слишком аскетического настройства. Господи, Боже мой! Да в какую нормально устроенную человеческую голову – тем более в голову такого умного человека, каков был мой собеседник – придет опасение, что после чтения книги инока Парфения – все в пустынножительство ударятся? Ведь это надо сделать, сочинить в себе. Ведь самый строгий религиозный взгляд не полагает как требования – непременного аскетизма. Ведь по самому строжайшему же религиозному идеализму – пустынножительство, аскетизм – суть явления не требуемые, а только существующие во свидетельство возможности достижения идеала»[190]190
Григорьев А. А. Парадоксы органической критики. С. 152.
[Закрыть].
Судя по полемическим строкам автора «Парадоксов органической критики», направленным против Салтыкова, можно предположить, что к моменту встречи с Григорьевым у Салтыкова также сформировалась концепция его будущей статьи о «Сказании». Обоим литераторам книга Парфения предоставляла уникальный материал для понимания внутренней жизни народа, однако в самом понимании народности Салтыков расходился с Григорьевым. Приведенный пассаж из «Парадоксов органической критики» направлен в первую очередь против салтыковского понимания аскетизма, и причиной этого могло явиться негативное отношение Салтыкова к древним представлениям о благочестии. Остается предположить, что Григорьев своеобразно истолковал позицию Салтыкова, отождествив его неприятие народного аскетизма с неприятием самой книги Парфения.
Известно, что Салтыков обращался к «Сказанию» как к источнику, проливающему свет на темные стороны раскола. Созданные в книге картины и образы интересовали писателя в первую очередь как иллюстративный материал для обличения раскольников. Исходя из эстетики Григорьева, такой подход можно было бы назвать «односторонне историческим». Суть его состояла в том, чтобы ценить произведения искусства настолько, насколько они являлись иллюстрацией к жизни. Григорьев же категорически отказывался видеть в искусстве «рабское служение жизни». Нельзя утверждать, что Салтыков был носителем «исторического» (по терминологии Григорьева) взгляда, однако, очевидно то, что этнографическая точка зрения, которая приводит Салтыкова к выводу, что «предметом «Сказания» служат два капитальных явления русской жизни: паломничество и раскол», не могла вызвать у Григорьева положительного отклика. Очень вероятно и то, что Григорьев не разделял того отношения Салтыкова к старообрядчеству, которое сложилось у автора «Губернских очерков» ко второй половине пятидесятых годов.
По мнению Григорьева, книга Парфения свидетельствовала об органичности и временной неразрывности духовной жизни народа. Проявляя к сочинению о. Парфения не меньше личного интереса, чем Салтыков, и обдумывая свою будущую статью о «Сказании», критик в письме к Дружинину от 19 сентября 1856 г. так представлял проблематику книги: «Вопрос о великой книге смиренного монаха есть вопрос: 1) о сущности Православно-Христианского созерцания, 2) о постоянном пребывании Старых Элементов в жизни народа, о силе, величии, красоте этих элементов»[191]191
Летописи Государственного литературного музея. Письма к А. В. Дружинину. С. 101.
[Закрыть]. Последний тезис для Григорьева был принципиально важен: критик развивал его в письмах и статьях и, основываясь на нем, относил «Сказание» к «настоящим», а не «деланным» произведениям.
Поставленные проблемы волновали Григорьева на протяжении всей жизни и в его эстетике были всегда тесно взаимосвязаны. Еще в «москвитянинский» период Григорьев видел главную цель критики в том, чтобы разъяснять читателю «народный смысл» новых литературных сочинений. Критерием для оценки и отбора лучших произведений, согласно Григорьеву, должно было стать «старокоренное русское воззрение». В основу деления современной литературы на «настоящую» и «вздорную» Григорьев положил связь (или ее отсутствие) с допетровской литературой, как духовной, так и светской, с фольклором, древними летописями и грамотами. Впоследствии, продолжая свою мысль и разделяя «деланные» и «рожденные» произведения искусства, Григорьев охарактеризует последние как «художественные отражения непеременного, коренного в жизни», у которого есть «корни в прошедшем, ветви в будущем». К таким «рожденным» сочинениям Григорьев относил книгу Парфени я, о чем вдохновенно писал в упомянутом письме к Дружинину от 19 сентября: «Как вдруг, откуда-то, из уединенного скита, спадает книга, которая языком, чувством и проч. соединяет Россию XIX в. с всею старою жизнию – наглядно, ясно и вместе наивно, – книга, отмеченная печатью великого поэтического дарования, соединенного с младенческою простотою, – книга, оживившая многих, – книга, которой ничего подобного нигде не встретите, – и, писавши о ней, – не дрогнет ли несколько раз рука, не остановится ли мысль, боясь дойти до ложного напряжения… о ней говорить всегда будет современно…»[192]192
Григорьев А. А. Письма. С. 119.
[Закрыть].
Впервые мысль о том, что «Сказание» – свидетельство органичности и временной неразрывности народной жизни, была высказана Григорьевым именно в апрельском письме к Боткину: «…на почве народного (не официального) православия, вдруг, нежданно вырастает перед Вами благоухающий цветок в виде книги о. Парфения, которая не только что восстановляет перед Вами свежестью чувства и безыскусственно-старыми формами языка связь с теми временами, когда игумен Даниил повесил, с позволения Годфрида Бульйонского, у гроба Господня кандило за землю русскую, но показывает ясно, что связь эта никогда существенно и не разрывалась, что коренной русский человек остался все такой же, каков он был во времена Мстиславов-стоятелей за вольную жизнь старой Руси… Все старое найдете Вы вечно новым, вечно живущим, существенным в книге отца Парфения, все даже до племенной вражды, которая наивно высказывается у него к гуцолам (хохлам), как наивно высказывается она у летописцев. Этим миросозерцанием – живут, как идеалом, конечно, – более 70000000 народонаселения: и насколько это миросозерцание способно к глубине мысли и к поэзии образа – свидетельство в той же книге о. Парфения…»[193]193
Там же. С. 110.
[Закрыть]
Мысль о преемственности духовных начал, явствующая для Григорьева из книги о. Парфения, нашла подтверждение в таких статьях критика как «Русские народные песни», «Западничество в русской литературе», «Парадоксы органической критики», а также в его переписке. Неразрывность духовной жизни народа от XII до середины XIX столетия заключалась, по Григорьеву, главным образом в той «аскетической струне», которая создала «изумительное поэтическое миросозерцание духовных стихов».
Эстетическая концепция Григорьева принципиально отличалась от позиции Салтыкова. В отличие от Салтыкова, критик расценивал сочинение о. Парфения и древнее духовное творчество народа как явления одного порядка. Понимая под художественностью «выражение жизни народа», при котором «коренные нравственные начала жизни народа суть неминуемо и нравственные начала художества», Григорьев соотносил и поверял произведение того или иного автора идеалом «народного (неофициального) православия». Следуя этому принципу, он давал высшую оценку тем авторам, которые возвышались до «созерцаний религиозных», проводя при этом органическую связь с прошедшим. Для Григорьева аскетические мотивы «Сказания» свидетельствовали о непреходящих духовных устоях, о той связи времен, которая определяла художественную ценность произведения, что позволило ему назвать книгу о. Парфения вещью «совершенно народною», более того – отнести ее к явлениям «растительной» жизни.
При всем том критик отчетливо осознавал границу, отделяющую «растительную» поэзию от явлений культуры: «С одной стороны, Пушкин в поэзии, Белинский в деле сознания, Брюллов и Глинка в живописи и музыке, а с другой стороны – мир странных сказаний и песен, раскольническое мышление, хождение странника Парфения, суздальская живопись и народная песня…»[194]194
Аполлон Александрович Григорьев. Материалы… С. 230.
[Закрыть] Григорьев равно высоко ценил те и другие творения, если находил в них «корни истинно народной жизни».
Вопрос о соотнесенности народного идеала в искусстве и «идеальнейшего начала», существовавший для Григорьева при разборе сочинений Ж. Санд, Байрона, Лермонтова, снимался при характеристике «Сказания». Признавая единство принципов народности и художественности, Григорьев рассматривает книгу Парфения в одном ряду с «Семейной хроникой» Аксакова и драмами Островского. Отмечая родство «Сказания» и «Семейной хроники», Григорьев, тем не менее, подчеркивал разницу между ними: «Появление ее <книги о. Парфения> совпадало с появлением «Семейной хроники», и по искренности своей это были явления действительно однородные, только книга смиренного инока и постриженника горы Афонской была, сказать правду, и шире и глубже захватом и даже оригинальнее, ибо великолепная эпопея о Степане Багрове, несмотря на свои великие достоинства, все-таки ни более ни менее как самое разумное последствие «Хроники» семьи Гриневых, наполнение красками и подробностями очерка, оставленного нам в наследство <…> Пушкиным-Белкиным, – а корней книги о. Парфения надобно было искать гораздо дальше в прошедшем…»[195]195
Григорьев А. А. Парадоксы органической критики. С. 151.
[Закрыть].
У Парфения Григорьев особенно ценил ту цельность миросозерцания, в основе которой лежало сознание нравственного идеала и перед которой мерк даже излюбленный критиком тип Белкина. Идеал Белкина (по Григорьеву, позиция «простого здравого чувства», хотя «кроткого и смиренного») по отношению к «Сказанию» оказывается неприменим и узок, ибо «корней книги о. Парфения», по мнению Григорьева, надо искать «в хождении Барского, Трифона Коробейникова – и еще, еще дальше, в хождении паломника XII века игумена Даниила».
Объединяя эти имена, Григорьев, несомненно, имел в виду то начало «беспощадного здравого смысла», которое руководило древним писателем-путешественником. Оно заключается главным образом в ограждении путника от малейшей опасности для традиционного уклада русской жизни, для «крепко сложившегося векового типа». Этот тип (иначе – образ мыслей) дорог Григорьеву своим цельным и, главное, непосредственным отношением к западной жизни. Цельностью взгляда Григорьев называет, например, то, что путешественник допетровского времени проходит мимо величайших памятников западного искусства, опасаясь их как источников ереси и противопоставляя им православные святыни. Непосредственное, исконное (в терминологии Григорьева – «вековое») восприятие чуждого западного мира стольником Лихачевым, Потемкиным, Фонвизиным говорило о «природе с богатыми стихийными силами и с беспощадно-критическим смыслом»[196]196
Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Он же. Искусство и нравственность / Под ред. Б. Ф. Егорова. М., 1986. С. 82.
[Закрыть].
Единство стихийно-коренного, векового начала позволило Григорьеву поставить сочинение о. Парфения в один ряд с «хождениями» Барского, Трифона Коробейникова, игумена Даниила, а позже, в начале 1860-х годов, сравнить «Сказание» с философскими, богословскими трудами И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, о. Феодора (Бухарева), но не с «Семейной хроникой» Аксакова. «Семейная хроника» представляла для Григорьева прежде всего исторический интерес, тогда как сочинения о. Парфения, Хомякова, Киреевского несли глубочайшую христианскую мудрость в «великой простоте своей мысли».
Миросозерцание Парфения не только выражало «коренные нравственные начала жизни народа», но, главное, оно всецело было подчинено идеалу. В этом «ясно сознаваемом и живо чувствуемом идеале» о. Парфения Григорьев видел высшую нравственную, а, следовательно, и художественную ценность. Здесь уместно вспомнить негативную реакцию критика на «Фрегат “Палладу”» И. А. Гончарова. Григорьев упрекал автора очерков путешествия в «положительном отсутствии идеала во взгляде», в том «низменном уровне, до которого умалил себя» Гончаров и из-за которого терялись достоинства его произведения[197]197
Григорьев А. А. Взгл яд на русскую литературу со смерти Пушкина. С. 198.
[Закрыть].
Место книги Парфения в эстетике Григорьева во многом определяется тем значением, какое критик придавал личности художника. «Сказание» явило образ автора, жизнь которого была постоянным стремлением не просто к нравственному, но к христианско-аскетическому идеалу.
Философские искания Григорьева, направленные на «выявление глубин русского духа», приводят критика к выводу, что цельность народной жизни раскрывается в православии, которое в письме к Погодину Григорьев охарактеризует следующим образом: «Никто не знает и знать не хочет, что в нем-то, т. е. в Православии (понимая под сим равно Православие о. Парфения и Иннокентия и исключая из него только Бецкого и Андрюшку Муравьева) заключается истинный демократизм, т. е. не rehabilitation de la chair, а торжество души, душевного начала. Никто этого не знает, всякого от Православия претит, ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, а мы, его носители и жрецы – пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу. Так вакханками и околеем»[198]198
Аполлон Александрович Григорьев. Материалы… С. 226.
[Закрыть].
Смысловая цепочка православие – Парфений – душевное начало, характеризуя философско-эстетические построения Григорьева, одновременно содержит то зерно «христианского натурализма», которое получит свое развитие в религиозном сознании Ф. М. Достоевского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.