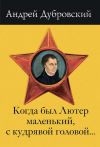Автор книги: Эрик Метаксас
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Дело Лютера переходит к Приериасу
Шли месяцы – и наконец облако пыли, поднятое в Германии, донесло попутным ветром до Рима. Ох, какой же там поднялся кашель, чихание и махание руками! Да кто он такой – этот немецкий выскочка, и как смеет нести такую возмутительную чушь против папы и Церкви? Разумеется, Лютер не говорил и трети того, что ему приписывали; но, так или иначе, теперь ему предстояло явиться в Рим и дать ответ за свои крамольные речи. Архиепископ Альбрехт отправил тезисы в Рим примерно через два месяца после того, как получил их сам; однако новости в те дни расходились быстрее, чем кажется нам сейчас – и, поскольку тезисы были напечатаны во многих городах и разошлись по всей Европе, нам неведомо ни то, когда первые экземпляры попали в Ватикан, ни то, какими комментариями они сопровождались и насколько преувеличили их «разжигательность» досужие сплетники.
Точно известно другое: в какой-то момент Ватикан поручил разобраться в этом деле доминиканскому монаху по имени Сильвестро Маццолини. Доминиканский орден, как мы уже упоминали, ставил главной своей задачей защиту церковного учения. Маццолини происходил из города Приеро на северо-западе Италии, и потому взял себе имя Приериас. В Ватикане Приериас носил звание «комиссар Священного дворца», и именно ему теперь поручили разобрать тезисы и определить, имеется ли в них ересь – в этом случае Лютеру предстояло явиться в Рим и отвечать перед судом инквизиции. Итак, наконец-то официальному лицу поручили разобраться в этом вопросе! Однако нельзя сказать, что Приериас подошел к делу вдумчиво и ответственно. Отнюдь! Сам он хвалился тем, что настрочил ответ наглому немцу всего за три дня. И что же было в этом ответе? Само заглавие его – «Диалог о бесстыдных нападках Мартина Лютера на власть папы» – как бы намекало: ничего хорошего ждать не стоит.
Ни в какие богословские глубины Приериас в своей торопливой публикации не вникал. Для него все было проще простого:
Итак, мой Мартин, чтобы тщательно рассмотреть твое учение, прежде всего необходимо установить общие положения и основания…
Основание третье:
Кто не принимает учение Церкви Римской и понтифика Римского как нерушимое правило веры, из которого, среди прочего, и Священное Писание черпает свою силу и авторитет – тот еретик.
Основание четвертое:
Церковь Римская может принимать решения касательно веры и нравственности как словом, так и делом. Различие между ними лишь в том, что решение, выраженное в словах, звучит яснее и определеннее. В этом смысле привычка становится силой закона, ибо воля князя выражается в действиях, которым он позволяет совершаться или же приказывает их совершать. Следовательно, как еретиком является тот, кто неверно мыслит об истине Писания, также и еретик – тот, кто неверно мыслит об учениях и деяниях Церкви в вопросах веры и нравственности.
В сочинении Приериаса немало личных нападок, грубых и поверхностных. Например, он пишет: «Как дьявол смердит гордостью во всех делах рук своих, так и ты смердишь своей злонамеренностью», и называет Лютера «прокаженным с железным рылом и латунными мозгами»[129]129
«Железное рыло» здесь – намек на упрямого быка.
[Закрыть][130]130
Bainton, Here I Stand, 77.
[Закрыть]. Заключение этого переперченного опуса звучит вполне однозначно: «Итак, всякий, кто говорит, что Церковь Римская не вправе делать то, что делает в рассуждении индульгенций – еретик»[131]131
Цит. по: Oberman, Luther, 194.
[Закрыть]. Вот и делу конец. Теперь Лютеру оставалось только ехать в Рим, на суд инквизиции.
Однако в своем «богословии» – или, вернее, в том, что принимал за богословие – Приериас совершал такие головокружительные прыжки, что сам Лютер, прочтя его сочинение, был поражен и, кажется, даже позабавлен. В своем стремлении все упростить Приериас провозглашал такое, чего Церковь никогда раньше не провозглашала. Сложные, тяжелые вопросы, по которым разные авторитеты противоречили друг другу, о которых спорили или просто старались аккуратно их обходить – Приериас представлял как однозначные, давно установленные факты. Читать это было и смешно, и дико; и, подобно современному интернет-пользователю, репостящему какой-нибудь особенно идиотский твит, Лютер просто организовал перепечатку труда Приериаса, как бы говоря: «Вы только посмотрите, что он несет!»
Впрочем, затем он написал Приериасу ответ – и хвалился, что этот ответ занял у него лишь два дня. Красноречивее всего, пожалуй, было то, что, в отличие от своего оппонента, Лютер начал цитировать Писание. Прежде всего, 1 Фес. 5:12: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Затем Гал. 1:8: «Если же и ангел с неба будет благовествовать вам не то, что я благовествую, да будет анафема». На этом можно было бы и остановиться. Что тут еще сказать? Впрочем, нашлись у Лютера и собственные слова:
Я теперь жалею, что с презрением отзывался о Тетцеле. Хоть он и достоин смеха, а все же будет поумнее тебя. Ты не цитируешь Писание. Не приводишь доводов разума. Искажаешь Писание, словно хитрый бес. Говоришь, по сути, что вся Церковь состоит из одного папы. И что же тогда, по-твоему, считать деяниями Церкви? Взгляни на страшное кровопролитие, устроенное Юлием II. Взгляни на возмутительную тиранию Бонифация VIII, который, по пословице, «захватил престол как волк, правил как лев, а умер как собака»… Ты называешь меня прокаженным, ибо я смешиваю истину с заблуждениями. Что ж, хотя бы признаешь, что истина в моих словах есть. Папу ты превращаешь в императора, правящего силой и насилием. Император Максимилиан и немецкий народ такого не потерпят[132]132
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 77.
[Закрыть].
Последняя фраза здесь отнюдь не случайна; это острый выпад в сторону Рима, указывающий на щекотливые национальные чувства немцев, которые Рим может неосторожно задеть.
Сочинение Приериаса Лютер получил, по-видимому, 17 августа, вместе с официальным предписанием прибыть в Рим в течение шестидесяти дней. Лютер прекрасно понимал, что доминиканцы с Приериасом во главе объявили ему войну, и в Риме – который он уже назвал «Лернейским[133]133
Лернейское болото – легендарное болото в Лерне (близ Аргоса), где, согласно мифу, Геркулес и Иолай победили чудовищную Гидру.
[Закрыть] болотом, полным гидр и прочих чудищ» – справедливого суда ему не видать; так что немедленно написал Спалатину, надеясь, что тот убедить Фридриха добиться, чтобы суд провели в Германии[134]134
LW, 48:72.
[Закрыть]. Лютер понимал, что дело принимает серьезный оборот: если решение будет принято не в его пользу, его запросто могут осудить как еретика и сжечь на костре.
В письме к Спалатину он писал, что уже отвечает на труд Приериаса (видимо, полученный им накануне), который, по его оценке, «в точности напоминает дикую непролазную чащобу»[135]135
В этом письме – как и многие другие письма Лютера, написанном по-латыни – он именует труд Приериаса «Сильвестровым диалогом», по имени Приериаса – Сильвестр, и на этом основывает игру слов: ведь silvester по-латыни означает «дремучий лес».
[Закрыть].
От обещания пока не публиковать «Резолюции», содержащие в себе более подробное объяснение тезисов, епископ освободил Лютера еще в апреле; однако после того, как Лютер вернулся из Гейдельберга, ему потребовалось время, чтобы отредактировать этот труд, так что «Резолюции» вышли из печати только ближе к концу августа. Отправляя рукопись епископу, Лютер с подчеркнутым и, видимо, вполне искренним смирением писал: на свое усмотрение епископ может вычеркнуть из книги все, что посчитает неподобающим, или даже вовсе ее уничтожить. Лютер по-прежнему считал себя смиренным монахом, всего лишь стремящимся послужить Богу и помочь Матери-Церкви – и был уверен, что и Церковь не может этого не видеть. Он писал даже: если что-либо написано мною не в духе Христовом, – разумеется, это не должно видеть свет.
Еще один экземпляр «Резолюций» Лютер отправил Штаупицу вместе с длинным письмом, в котором просил его, как главу ордена августинцев, переслать этот документ папе в Рим. Собственно говоря, свою новую книгу Лютер предназначал прежде всего папе, надеясь обратиться к нему через голову своих корыстных, узко мыслящих оппонентов, объяснить свою позицию и доказать свою правоту. Он ясно давал понять: ни в коем случае не намерен он подрывать авторитет папы и Церкви. Напротив, именно из страха перед тем, что их авторитет подорвут злоупотребления, допускаемые продавцами индульгенций, и делает он то, что делает. Сделал Лютер и еще один шаг в эту сторону: посвятил свою книгу самому папе Льву X. В посвящении Лютер писал: он знает, что имя его в глазах папы очернено и запачкано, – однако верит, что Христос просветит и направит папу, поможет ему понять, насколько важен вопрос, о котором идет речь. Далее он объяснял: он никогда не стремился к широкому распространению «Девяноста пяти тезисов» – но, раз уж это произошло и повлекло за собой бурную полемику, он чувствует для себя необходимость высказаться, пусть и «как гусь среди лебедей», чтобы прояснить свою позицию.
Итак, в конце лета 1518 года, через десять месяцев после публикации «Девяноста пяти тезисов», Лютер все еще надеялся на благополучное разрешение конфликта. Теперь он обращался напрямую к Святейшему – тоном глубокого смирения, однако не делая никаких уступок в том, что ему самому было совершенно ясно. Он понимал, что Церкви нужна реформа, и сам, как доктор и служитель Церкви, видел свою обязанность в том, чтобы посильно этому послужить. Примечательна и его вера, и мужество, и – в особенности – глубокое смирение в сочетании с прямодушной и почти самонадеянной отвагой.
28 августа он писал Спалатину:
Ты сам знаешь, мой Спалатин: ничто во всем этом меня не страшит. Даже если своей властью и лестью они преуспеют в том, чтобы сделать меня всем ненавистным, сердце мое и совесть останутся при мне; по-прежнему буду я знать и исповедовать, что все, из-за чего на меня нападают, получил от Бога, которому с радостью и по доброй воле все это предлагаю и вверяю. Если Он это разрушит – пусть разрушится; если сохранит – сохранится. Да будет благословенно и прославлено имя Его вовеки. Аминь[136]136
LW, 48:74.
[Закрыть].
Явление Меланхтона
Неожиданно для себя Лютер оказался в центре разгорающегося спора; однако многочисленные его обязанности в Виттенберге никуда не исчезли. По-прежнему он занимался университетом и старался привлечь на свой факультет лучших преподавателей; и в конце лета 1518 года привлек лучшего из всех – очень молодого еще человека по имени Филипп Шварцердт, которого история запомнила под гуманистическим прозванием Меланхтон. В Виттенберг его привез Спалатин, связывавший с ним самые радужные надежды.
Меланхтон родился 16 февраля 1497 года. С самых ранних лет он отличался большими способностями к языкам и скоро сделался знатоком и увлеченным любителем греческого. Был он внучатым племянником великого ученого-гуманиста Иоганна Рейхлина. Когда Филиппу было одиннадцать лет, случилось так, что отец и дед его умерли один за другим, всего за десять дней – и мальчика отправили в Пфорцхайм к бабке по матери, сестре Рейхлина. Говорят, что Рейхлин скоро начал относиться к мальчику как к сыну. Именно Рейхлин убедил Филиппа сменить немецкую фамилию Шварцердт на ее греческий аналог Меланхтон, по гуманистической моде того времени: почти все тогдашние гуманисты воображали себя гражданами Древней Греции или Рима и потому носили греческие или латинские имена.
Уже в тринадцать лет Филипп поступил в Гейдельбергский университет и опубликовал свою первую поэму, а в четырнадцать – стал наставником двоих сыновей местного графа. В этом же возрасте он получил степень бакалавра, а не позже чем через год попытался стать магистром, чтобы иметь возможность официально преподавать в университете – однако в этом ему было отказано «из-за юности и мальчишеского вида». Меланхтон был сильно этим обижен и уехал в Тюбинген. Там он подпал под влияние известного профессора Иоганна Агриколы, также убежденного гуманиста.
Однако, оказавшись в Тюбингене, Меланхтон скоро заскучал от местных проповедей. Проповеди в самом деле носили сказочный характер: так, один священник рассказывал благочестиво внимающим ему прихожанам, что деревянные подошвы сандалий доминиканских монахов изготовлены из древа познания, росшего в райском саду. На такие случаи Меланхтон брал с собой в церковь латинскую Библию, подаренную ему двоюродным дедом Рейхлином. Много раз, утомленный дурацкими проповедями, в жажде услышать слово Божье, которое с кафедры не доносилось, раскрывал он Библию и делал добрый глоток. Несколько раз, однако, его ловили на этом и сурово упрекали. В самом деле, что этот парень себе возомнил – разве для того мы ходим в церковь, чтобы читать там Библию?
Положение Меланхтона в Тюбингене было далеко от идеала и в других отношениях; поэтому, услышав, что Виттенбергскому университету требуется преподаватель греческого, Рейхлин немедленно и от чистого сердца рекомендовал туда своего юного племянника. Получив от Фридриха и Спалатина официальное приглашение, Рейхлин так сообщал Филиппу эту радостную новость:
Воззри! Явилось письмо от нашего милостивого князя, подписанное его собственной рукой, где он обещает тебе плату и благоволение. Не стану сейчас обращаться к тебе на языке поэзии, а процитирую обетование Бога Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение…» Так говорит мне Дух, и таково, надеюсь, будет твое будущее, дорогой Филипп, труд мой и мое утешение[137]137
Цит. по: Manschreck, Melanchton, 42.
[Закрыть].
В конце августа 1518 года, когда Меланхтон прибыл в Виттенберг, ему едва исполнился двадцать один год. Однако уже в таком возрасте он был столь известен и знаменит, что по дороге в Виттенберг, во время остановки в Лейпциге, руководители тамошнего богословского факультета из кожи вон лезли, убеждая его остаться и занять кафедру у них. Даже Эразм Роттердамский был от него в восторге.
Меланхтон был не только очень юн; выглядел он еще моложе своих лет – маленький, щуплый, напоминавший скорее застенчивого пятнадцатилетнего мальчика, чем университетского профессора. Не все были уверены, что он им подойдет – иные предпочитали ему известного лейпцигского гуманиста Петера Мосселануса. По приезде в Виттенберг Меланхтону пришлось услышать в свой адрес фырканье и насмешки; слышал он даже, как несколько шалопаев-студентов сговаривались над ним поиздеваться. Быть может, они заметили, что одно плечо у него ниже другого, или услышали, что он заикается. Так или иначе, приветственная речь Меланхтона в Виттенберге четыре дня спустя развеяла все сомнения и отбила у остряков желание над ним смеяться. Предметом его речи стал упадок науки при схоластике и обещание нового ее возрождения в руках гуманистов. Лютер был очень впечатлен. Он писал Спалатину:
Через четыре дня после своего прибытия произнес он приветственную речь – чрезвычайно ученую и поистине безупречную. Все глубоко оценили эту речь и пришли от нее в восхищение… [так что все мы] быстро обратили взгляды от его внешности и манер на самого человека. Мы поздравляем себя с тем, что этот человек с нами; в его лице обрели мы истинное сокровище… Пока я жив, не желал бы иметь иного преподавателя греческого. Боюсь лишь, как бы телосложение его не оказалось слишком хрупко для суровой жизни в наших краях[138]138
LW, 48:78.
[Закрыть].
На портретах кисти Кранаха Меланхтон выглядит необычайно хрупким, почти бесплотным: кажется, стоит подуть ветру – и он поднимется в воздух и улетит за горизонт. На некоторых поздних портретах на Меланхтоне огромный плащ, размера на четыре больше нужного; вместе с небритостью и рассеянным взором этот плащ придает ему вид бродяги или пьяницы. Рядом с Лютером, который был на четырнадцать лет его старше, Меланхтон, должно быть, выглядел почти комично – как Лео Блум рядом с Максом Бялыстоком. Один – щуплый, застенчивый, оторванный от мира книжник; второй – крепкий, грубоватый, прочно стоящий на ногах любитель шутки и соленого словца. Позже Лютер приобрел хорошо знакомый нам по портретам «бычий» вид, и они с Меланхтоном сделались особенно выразительной и контрастной парой.

На портрете кисти Лукаса Кранаха Старшего Меланхтон изображен в огромном плаще, глубоко погруженным в задумчивость: портрет подчеркивает и его физическую хрупкость, и характерную для ученого оторванность от мира. (Обратите внимание на подпись Кранаха под датой – значок, изображающий крылатого змея.)
Однако пока что Меланхтон всего лишь учил местных студентов греческому – и учил так ярко, с такой страстью, что привлекал к себе сотни учеников. Очень быстро он обрел такую популярность, что в его греческий класс записались четыреста студентов – две трети всех, обучавшихся в университете в это время – и, помимо них, приходили к нему на занятия и многие другие. Лютер так писал об этом Спалатину: «Его классная комната всегда битком набита студентами. Благодаря ему все наши богословы – и лучшие в учебе, и средние, и даже слабые – ревностно взялись за греческий язык»[139]139
LW, 48:83.
[Закрыть].
Глава седьмая
Аугсбургский рейхстаг
Итак, мне предстоит умереть. Каким позором станет это для моих родителей!
Мартин Лютер
Лютер понимал: в Риме его ждет неминуемая смерть. Вот почему он просил Спалатина поговорить с Фридрихом и постараться убедить его настоять на том, чтобы суд над Лютером проходил в Германии. И снова мы видим, что папство в те времена было почти исключительно политической организацией. В наше время папа – фигура религиозная, лишь номинальный правитель крохотного государства Ватикан; но в то время он был прежде всего земным князем (и князем из рода флорентийских Медичи), так что жизнь его, как и жизнь его приближенных, была сосредоточена на манипуляциях мирской властью. Рядом с тем утонченным злом, что воплощали в себе папы из рода Медичи, сам Макиавелли порой кажется наивным первоклашкой.
Фридрих уже был недоволен тем, как и на что Рим тратит немецкие деньги. Торговля индульгенциями в его глазах была лишь еще одним способом выкачивания денег из Германии. Острые нападки Лютера на индульгенции так взволновали Рим отчасти и потому, что соответствовали уже существующему умонастроению множества немцев. Разумеется, был у Рима и другой способ получать деньги от Фридриха и от Германии в целом – в виде налогов. Например, на имперском рейхстаге, назначенном в Аугсбурге той осенью, главным вопросом должен был стать так называемый «турецкий налог», якобы помогающий отражать натиск мусульманской армии, уже несколько десятков лет неуклонно движущейся на Запад. Император Максимилиан надеялся, что его курфюрсты одобрят налог; однако главным его лоббистом выступал папа, для поддержки своего дела решивший послать на рейхстаг своего представителя, достопочтенного кардинала Каэтана.
Еще одним ингредиентом этого малоприятного варева стали выборы нового императора. Максимилиану еще не исполнилось шестидесяти, однако здоровье его было худо: он никак не мог оправиться после неудачного падения с лошади. Кроме того, он, судя по всему, давно уже был поглощен мыслями о смерти и считал себя «не жильцом»: видно это из того, что уже четыре года, куда бы ни отправился, он возил с собою гроб. Максимилиан хотел гарантировать, что после смерти его трон унаследует внук, Карл I Испанский. Сын его Филипп Красивый, отец Карла, умер в 1506 году. Любой ценой Максимилиан стремился избежать того, чтобы следующим императором стал Франциск I Французский – и заручился помощью сказочно богатого семейства Фуггеров, чтобы подкупить семерых курфюрстов в свою пользу. Заметное место в списке возможных кандидатур на императорский престол занимал и Фридрих Мудрый. Однако папа Лев X, по своим соображениям, не хотел видеть императором Карла I – и также надеялся видеть Фридриха на своей стороне.
В середине августа 1518 года Фридрих согласился на то, чтобы Лютер остался в Германии. Он приказал Спалатину написать императорскому советнику Реннеру с тем, чтобы император одобрил эту идею и отменил приказ, призывающий Лютера ехать за восемьсот миль в Рим. Император не знал, на что решиться: до него уже дошли дурные слухи о Лютере, он слыхал, что этот возмутитель спокойствия распространяет какую-то ужасную ересь – и, конечно, хотел его остановить. Но что из этого выйдет? Важны были для него и национальная, и территориальная сторона дела. Итальянцы мечтали распоряжаться империей, как своей вотчиной – и их необходимо было держать в узде и время от времени показывать, что они здесь не хозяева. Так что в конце концов Максимилиан согласился: пусть Лютера судят не в Риме, а в Германии. На таких вот решениях – обусловленных не совестью, не убеждениями, не суждением о том, что хорошо и что дурно, а лишь политическими соображениями – и покоилось будущее Реформации, будущее Европы, а в перспективе и всего мира.
Рейхстаг в Аугсбурге должен был начаться в конце сентября. Предполагалось, что папский представитель кардинал Каэтан будет там присутствовать и озвучит позицию Ватикана по ряду вопросов. Так почему бы ему не задержаться чуть дольше и не принять участие в процессе между Святой Церковью и монахом по имени Лютер, который должен пройти примерно в то же время? Лютер должен был появиться в Аугсбурге в начале октября. После того как будут решены все дела, папский легат сможет с ним встретиться и поступить так, как хочет Рим.
Сам император Максимилиан своих чувств насчет Лютера не скрывал: он громко поклялся «положить конец гибельным нападкам Мартина Лютера на индульгенции, дабы не соблазнял он не только простой народ, но и своего князя»[140]140
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 75.
[Закрыть]. Ему важно было верно сыграть свою партию: показать себя добрым христианином, всецело на стороне Церкви, однако не позволить Церкви себя «продавить» и утвердить свою власть в политическом отношении. Поэтому он потребовал, чтобы суд состоялся в Аугсбурге, – под его юрисдикцией и под присмотром его людей. Однако защищать Лютера и его мятеж у Максимилиана и в мыслях не было.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?