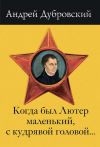Автор книги: Эрик Метаксас
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Эрфурт. Aetatis 17
В 1501 году, в семнадцать лет, для Лютера настало время поступать в университет. Рудоплавильное дело давало его отцу достаточно денег, чтобы оплатить учебу сына. Должно быть, с неописуемой гордостью Ганс Лютер снаряжал своего старшенького в знаменитый Эрфуртский университет. «Дорогой мой отец, – вспоминал позднее Лютер, – поддерживал меня всеми силами, и только трудами рук его я смог поступить в университет». Во многих смыслах это была кульминация всех усилий отца: всего несколько лет – и Лютер получит степень по юриспруденции, открывающую дорогу к дальнейшим свершениям, затем вернется в Мансфельд, найдет себе подходящую жену из какого-нибудь респектабельного местного семейства и станет практикующим юристом, активно помогающим отцу в его деловых предприятиях…
Распорядок в университете был, по нашим стандартам, достаточно суровый: в четыре утра студенты поднимались на молитву, в восемь вечера отходили ко сну. Все они жили в общежитии, так называемой бурсе[25]25
Bursa – слово латинское, означающее сумку или кошелек. Используется этот термин и в современных университетах [англоязычных – прим. пер. ], где казначей или завхоз именуется bursar.
[Закрыть] – таких бурс в Эрфурте было шесть. В день полагалось две трапезы: первая – в десять утра, после четырех часов упражнений и лекций. После этого завтрака занятия продолжались до пяти вечера. Лютер, по-видимому, жил в бурсе под названием «Врата рая», где на утренних молитвах за каждые пятнадцать дней прочитывали всю Псалтирь – так что за четыре года пребывания в Эрфурте псалмы он должен был выучить наизусть. Также и за завтраком, и за обедом студентам читались вслух отрывки из Вульгаты, а иногда – «Postillae» Николая Лирского, экзегетические комментарии на Библию, о которых Лютер и много лет спустя отзывался очень высоко и активно ими пользовался, создавая свой перевод книги Бытия. Логично предположить, что уже в те юные годы священные слова, слышанные Лютером, оставляли глубокий след в его сердце. Очевидно, в этом была одна из причин, приведших к тому, что вопросы о Боге он воспринимал куда глубже и серьезнее среднего эрфуртского студента, и трудно сомневаться: даже если прежде Лютер об этом не задумывался, – в то время он начал подумывать о принятии монашеских обетов.
Гуманизм
Именно в Эрфурте, изучая философию, Лютер впервые познакомился с новым и модным интеллектуальным движением – гуманизмом[26]26
На протяжении всей этой книги, говоря о гуманизме, мы имеем в виду возрожденческий гуманизм, не совпадающий с более привычной нам современной, сугубо светской версией гуманизма.
[Закрыть], которому были преданы здесь многие профессора и студенты. Среди профессоров можно назвать Бартоломея Арнольди Узингена и Йодокуса Трутфеттера, с которыми Лютер поддерживал связь на протяжении многих лет. А среди студентов – молодого человека по имени Георг Буркхардт, сына дубильщика из баварской деревни Шпальт. Несколько лет спустя этот Георг последовал примеру большинства гуманистов того времени, бравших себе латинские или греческие имена. Буркхардт латинизировал название своей родной деревни – и приобрел известность как Спалатинус или, в немецком варианте, Спалатин: под этим именем и узнал его Лютер. В будущем Спалатин станет ближайшим другом Лютера и одним из важнейших героев нашей истории. Но пока до этого далеко – они просто знакомы.
Несколько столетий в средневековой Европе господствовала школа мысли, известная как схоластика. Главные схоласты – Дунс Скот, Уильям Оккам (создатель пресловутой «бритвы») и Фома Аквинский. В наше время большинство людей воспринимает схоластику как теоретизирование, безнадежно оторванное от практических жизненных проблем. Образ ученых, которые, запершись в башне из слоновой кости, пресерьезнейшим образом обсуждают ничтожные и смехотворные философские парадоксы – словно не замечая, что турки взяли Константинополь и угрожают всему христианскому миру, – запечатлен в классическом вопросе: «Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы?» Это не шутка, не преувеличение – схоласты в самом деле серьезно об этом спорили. Кроме того, в схоластический период студентам предлагалось читать вместо самой Библии «Сентенции» Петра Ломбардского, комментарии на отдельные части Писания – или даже примечания Дунса Скота к «Сентенциям» Петра. Им, так сказать, предлагали играть с черепицей на крыше, и они играли, ничего не зная ни о доме, ни о фундаменте дома да и не обращая на него никакого внимания.
По иронии судьбы, именно падение Константинополя в 1453 году под ударами мусульманских агрессоров привело к тому, что схоластика в Европе встретилась с достойным противником. Бесчисленные византийские ученые бежали из своей порабощенной страны в Европу: результатом этого стало великое возрождение греческих и латинских исследований, приведшее к тому, что мы теперь называем возрожденческим гуманизмом. Девизом его было: ad fontes – назад к первоисточникам! Впервые за много столетий перед европейскими учеными открылись огромные, завораживающие возможности – и прежде всего возможность вернуться к корням христианской веры. Опираясь на первоисточники, можно было исследовать любые спорные вопросы или опровергать общепринятые учения. Само слово «Возрождение» указывает на то, что речь шла не просто о возвращении к древним оригинальным источникам – скорее уж о том, что эти источники получили новую жизнь, ибо знания, накопленные за много веков университетских штудий, ученые теперь прикладывали к этим древним текстам. Много столетий тексты эти пребывали в забвении, иные даже считались навсегда утраченными; но вдруг двери растворились, и на ошеломленных европейцев хлынул поток новых знаний. Кто знал, что можно найти в этой древней сокровищнице?
В центре всех этих новых открытий стояла, разумеется, Библия. Мир схоластики чрезвычайно отдалил Библию от верующих – даже от монахов; и даже те, кому позволялось читать отрывки из Библии, пользовались латинской Вульгатой, порой затемняющей смысл оригинального текста[27]27
Вульгата – это латинский перевод Библии IV века; к XVI веку он стал единственной официальной версией Библии, используемой Католической Церковью. В основном перевод принадлежит святому Иерониму Стридонскому. Слово «вульгата» происходит от латинского vulgaris, что означает «общий», «общеупотребительный».
[Закрыть]. Однако изначально Ветхий Завет был написан на древнееврейском, а Новый – на греческом, и в латинском переводе было немало неточностей и смысловых ошибок, много веков передававшихся из поколения в поколение. В восстановлении греческого Нового Завета важнейшую роль сыграл Эразм Роттердамский: именно благодаря ему писания первых христиан – изначальные, без всяких прикрас – стали доступны новому поколению. Из тех, кто устремился на эти давно забытые пути, одной из самых заметных фигур был сам Лютер – и именно с восстановленным греческим Новым Заветом Эразма сверялся он много лет спустя, переводя Новый Завет на немецкий. Но пока все это было лишь волнующей возможностью. Несомненно, уже в университете Лютер задавался вопросом о том, какие еще неоткрытые сокровища прячутся в оригинальных текстах и сможет ли его беспокойная душа найти успокоение в первоисточниках.
В Эрфурте впервые ярко засияли дарования Лютера. До этого мы не слышим о нем ничего примечательного; если и были у него какие-то успехи в учебе, сведения о них до нас не дошли. Но после всего трех семестров в Эрфурте Лютер защищает бакалавриат: экзамены на степень бакалавра он прошел 29 сентября (в день святого Михаила) 1502 года. Теперь настало время более серьезных занятий – Лютеру предстояло стать магистром. Много лет спустя его будущий коллега Меланхтон сообщит, что, по рассказам многих студентов, учившихся вместе с Лютером, с этого времени талант его стал «чудом для всего университета». Экзамены на магистерское звание он был готов сдать уже в декабре 1504 года; однако для получения магистерской степени кандидат должен был достичь двадцати двух лет. Точного года своего рождения Лютер не знал, и, возможно, поэтому для него допустили послабление. Если он родился, как мы предполагаем, в 1483 году, значит, за месяц до того ему исполнился двадцать один год. Магистерские экзамены Лютер сдал в январе 1505 года, сразу после Богоявления[28]28
Julius Koestlin, Life of Luther (Charlestone: BiblioBazaar, 2008), 31.
[Закрыть].
Итак, Лютер получил степень магистра свободных искусств (magister artium), заняв на экзаменах второе место из семнадцати, получил магистерское кольцо и вожделенную бордовую биретту. Сделаться магистром – для сына горняка это было серьезное достижение! Получение ученой степени поставило Лютера в привилегированное положение даже в собственной семье – ведь ни отец его, ни предки с отцовской стороны в университете не учились. Подумать только – сын Ганса Людера получил ученое звание в одном из самых блестящих университетов мира! С этих пор отец Лютера обращался к сыну уже не на «ты» (du), а официально и с уважением – на «вы» (ihr).
«Что за торжественный, радостный миг, – вспоминал Лютер много лет спустя, – когда получаешь магистерскую степень, и перед тобой несут светильники, и воздают тебе почести! Думаю, никакая иная временная или мирская радость с этим не сравнится». Конная процессия, блеск факелов, общий торжественный и радостный настрой – все это произвело на него глубокое впечатление, сохранившееся до конца жизни. И через много лет, вспоминая это чествование, Лютер восклицал: «Вот так следует праздновать нам и сейчас!»[29]29
Oberman, Luther, 113.
[Закрыть]
Перед ударом молнии
Получив магистерскую степень, Лютер готов был начать изучение юриспруденции. Вплоть до этой жизненной вехи он точно выполнял отцовские ожидания – и теперь готовился преодолеть последнюю ступень и стать юристом. Но, может быть, именно в это время он начал задумываться о том, чего же хочет на самом деле. Быть может, его поразила окончательность, непоправимость предстоящего ему выбора. Нам неизвестно, задумывался ли Лютер до тех пор о монастыре – но, скорее всего, задумывался; и на этом этапе мысль о монастыре должна была перейти из разряда фантазий в категорию серьезных жизненных вопросов, требующих решать и выбирать. В любом случае, привычный нам рассказ о том, как, напуганный раскатами грома и ударами молний под Штоттернхаймом, Лютер внезапно решил уйти в монахи, – едва ли составляет всю историю. Как и большая часть романических, идеализированных сюжетов из жизни Лютера, это скорее народная легенда, чем строгий факт. Однажды, пораженный ужасом, Лютер опрометчиво дал обещание, которое из чувства долга волей-неволей пришлось выполнять… очень сомнительно, что так оно и было.
Итак, Лютер собирался изучать право и стать юристом – и наконец прошел через последнюю дверь на пути к своей цели. Он приобрел «Corpus Juris» – огромный и дорогой том, необходимый каждому будущему юристу – и, казалось, непоколебимо шел своим путем. Однако думается нам, что, помимо выбора карьеры, душу Лютера в то время волновало и многое другое. Современному человеку легко забыть о том, что во все времена, равно как и в наше, над каждым постоянно висит угроза безвременной смерти – и человек думающий или чувствительный (а Лютер обладал обеими этими добродетелями) едва ли в силах об этом забыть. Уже в Эрфурте начало поднимать голову Anfechtungen[30]30
Немецкое слово, которым Лютер называл свою депрессию и тревогу.
[Закрыть] – мрачное умонастроение, которое в будущем принесет столько печально известных страданий Лютеру-монаху. Уже тогда Лютер начал с тревогой спрашивать себя, какова будет его судьба в вечности: случись ему внезапно умереть – примет ли его Бог в любящие объятия или, что куда вероятнее, вонзят в него свои когти и потащат за собой в вечный огонь безобразные черти.
И снова повторю: стремясь представить себе, чем жили и как мыслили люди позднего Средневековья, необходимо отложить не только современные материалистические предрассудки, но и столь же анахронистическое представление, что в Боге можно видеть лишь неизменно любящую, доброжелательную фигуру. В дни Лютера Бога куда чаще представляли себе как вечного судию, чью святость мы почти беспрерывно оскорбляем своим поведением – и лишь при большом везении можем после смерти оказаться в чистилище, а не в аду. И даже в чистилище нам предстоят долгие болезненные испытания, в течение тысяч и даже миллионов лет – пока мы наконец не очистимся от греховности, пропитавшей нас насквозь. И кто знает, какие ему предстоят посмертные муки? Лютер был слишком умен, чтобы просто отмахиваться от этих вопросов – и слишком чувствителен, чтобы о них не тревожиться. Тревога эта не давала ему покоя, изнуряла и погружала в состояние, которое сам он называл Anfechtungen – в мрачное, парализующее уныние. У слова Anfechtung, в сущности, нет адекватного перевода. Корень у него тот же, что у глагола fechten, означающего «защищаться» или «вести поединок». Fecht, очевидно, родственен английскому «fight» – «сражаться». Итак, Anfechtungen Лютера – борьба с собственными мыслями и с дьяволом. Однако нам трудно в полной мере уразуметь, сколь ужасна была для него эта борьба.
Некое представление об этом могут иметь люди, страдающие депрессией. По описаниям самого Лютера, мы представляем себе какую-то черную дыру полнейшего отчаяния, расширяющуюся, поглощающую весь мир; все громче доносятся оттуда, перебивая друг друга, голоса злых духов, обвиняющих грешника в тысяче разных преступлений; все их обвинения справедливы – или, по крайней мере, похожи на правду; и выхода нет. Именно такие ощущения на протяжении веков толкали глубоко верующих людей к самоубийству. Это безнадежность, ставшая явью, или, по знаменитому выражению Мильтона, «видимая тьма»[31]31
John Milton, Paradise Lost, bk. I, line 63.
[Закрыть] – выражение, которое писатель Уильям Стайрон использовал как название пронзительного рассказа о собственной депрессии[32]32
William Styron, Darkness Visible: A Memoir of Madness (New York: Random House, 1990).
[Закрыть]. Можно вспомнить и слова, начертанные на вратах дантовского Ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»[33]33
Dante Alighieri, Inferno, in The Divine Comedy, trans. Henry F. Cary (New York: P. F. Collier & Son, 1909), canto 3, line 9.
[Закрыть]. Итак, Anfechtungen для Лютера представлял живую картину самого ада, кошмарного места, где ты полностью забыт Богом и безнадежности нет конца. Нет, быть может, все даже хуже! Быть может, это не живая картина ада, а сам ад, черное щупальце, которое тянется к Лютеру из-за края мира и рано или поздно обовьет его и утащит в шеол! Просто отмахнуться от такого Лютер не мог. Так или иначе, он должен был понять, что с ним происходит, и получить твердые, убедительные ответы. Брезжила ли уже эта идея на задворках его сознания или ей предстояло проклюнуться лишь через несколько лет – мы не знаем; но, несомненно, в какой-то момент его должна была поразить мысль, что, если эту загадку вообще возможно разгадать, ключи к ней следует искать в Библии. Однако изучать Библию у него не было возможности. Изучать приходилось юриспруденцию. Но едва ли можно сомневаться: Anfechtungen, эта глубокая и неутолимая душевная мука, после первых мучений и метаний должна была вызвать у него страстное, неутолимое желание разрешить эту проблему и раз и навсегда положить ей конец. Он верил, что это возможно. Возможно для того, кто верит. И если, читая следующие главы этой книги и изучая дальнейшую жизнь Лютера, мы спросим себя, что же давало ему силы пробовать снова и снова там, где прочие терпели неудачу, ответ будет: отчаяние. Лютер не признавал «успокоительных» ответов и не боялся погибнуть на костре. Костер был ему не так страшен, как Anfechtungen – несказанные мучения души, предвестие неизбежных адских мук. Он смело шел вперед, преисполненный решимости найти ответ на свой вопрос – или погибнуть в пути.
За год до начала юридических занятий, в 1504 году[34]34
Впрочем, возможно, этот случай произошел в 1503 году.
[Закрыть], когда Мартин отправился на Пасху домой в Мансфельд, с ним произошел несчастный случай: студенческая шпага (в те времена многие студенты ходили со шпагами) пропорола ногу, и очень неудачно, задев артерию. Началось кровотечение, явно угрожающее жизни, и спутник Лютера бросился в ближайший город за врачом. Лютер лежал один посреди поля, судорожно зажимая рану руками, чтобы остановить кровь, и гадал, доживет ли до вечера. Он прекрасно понимал, что может умереть прямо сейчас – и воззвал к Деве Марии, моля пощадить и сохранить ему жизнь. Наконец появился врач и зашил рану. Однако зашил, как выяснилось, плохо: той же ночью, когда Лютер лежал в постели, рана открылась, и он снова едва не истек кровью. И снова Лютер в страхе за свою жизнь воззвал к Деве Марии, моля о пощаде – и снова выжил; однако рана оказалась серьезной, и немало дней пришлось ему провести в постели, в размышлениях о том, какой опасности он едва избежал. Ранение позволило ему отдохнуть и хорошенько подумать о том, как дважды за одни сутки заглянул он в черный провал смерти[35]35
Впрочем, не все было так мрачно: во время выздоровления Лютер не только предавался тревожным размышлениям, но и научился играть на лютне.
[Закрыть].
Размышления Лютера о смерти в эти годы не могли не обостриться, когда умерли, один за другим, несколько человек, которых он знал. В апреле 1505 года, а затем несколько месяцев спустя чума – частая гостья в Германии того времени – унесла жизни двух молодых эрфуртских юристов. Двое молодых людей, выбравших тот же путь, что и сам Лютер, умерли скорой и безвременной смертью: глядя на это, нельзя было не задуматься о том, правильный ли он выбрал путь. Что, если и ему придется внезапно покинуть этот мир? Готов ли он к тому, что ждет впереди? Позднее Лютер рассказывал, что оба молодых юриста восклицали перед смертью: «Лучше бы я стал монахом!»[36]36
Brecht, His Road to Reformation, 45.
[Закрыть] Выходит, они понимали, что на кону стоит вечное спасение – и в кошмарном свете разверзшейся перед ними огненной пропасти ясно видели, что напрасно выбрали в жизни мирскую дорогу, и горько об этом жалели! Несомненно, Лютер был на заупокойных службах по обоим умершим. Если же и этих смертей было недостаточно – от чумы погибли еще двое, и куда более ему близкие: смерть унесла двоих его товарищей-студентов. Один из них, Иероним Бунтц, принимал участие в магистерских экзаменах Лютера.
В таких-то сомнениях в июне 1505 года Лютер возвращался домой, в Мансфельд. О чем именно он думал и на что надеялся в эти дни, нам узнать неоткуда. Быть может, просто хотел отдохнуть от занятий и от тягостных мыслей, не дававших ему покоя. Может быть, надеялся собраться с храбростью и объявить отцу, что сомневается в правильном выборе своего жизненного пути. А может быть, инициатором поездки выступил отец – возможно, он вызвал сына домой по какой-то причине, которой мы уже никогда не узнаем. Некоторые предполагают даже, что теперь, когда учеба Лютера подходила к концу, отец вознамерился женить его на подходящей девушке из Мансфельда, возможно, дочери какого-нибудь его делового партнера. Всего этого мы не знаем – но точно знаем одно: на обратном пути из Мансфельда в Эрфурт, на этой дороге в пятьдесят три мили длиной, с Лютером произошло то, что навсегда изменило его жизнь.
Глава вторая
Удар молнии
Неподалеку от деревни Штоттернхайм, в поле возвышается скромный на вид красный монолит – памятник тому, что произошло на этом месте во второй день июля 1505 года. В этот жаркий и влажный летний день Мартин Лютер, утомленный долгим путешествием, всего в шести милях от Эрфурта был застигнут внезапной и страшной грозой. Ехал он верхом, но, видимо, на этом месте спешился. С неба низвергались потоки воды, выл ветер, оглушительно гремел гром, молнии сверкали над головой – и Лютер затрепетал при мысли, что в любой миг может, как и многие другие, застигнутые бурей, мгновенно лишиться жизни. Смерть и ад предстали перед ним, реальные и ощутимые, как никогда – и молодой человек (Мартину был двадцать один год от роду) был глубоко потрясен этой мрачной перспективой. Буйство природы повергло его в ужас, самые мрачные признаки проклятия и вечных мук предстали перед ним – реальные, как бушующая гроза, но во много раз более страшные. Тревога и страх сделались невыносимы. Когда молния ударила в землю совсем рядом с ним, Лютер в ужасе повергся наземь и вскричал: «Hilf du, Sankt Anna!» – «Помоги мне, святая Анна!» А затем выкрикнул в ветер и в дождь слова, которым предстояло изменить и его жизнь, и судьбы всего мира – слова, которых никто, кроме него самого, не услышал: «Ich will ein Mönch werden!» – «Я стану монахом!» Таков был его обет: если святая Анна поможет ему – поможет пережить этот ужас, – он отплатит за ее великую милость, приняв святые обеты, навеки покинув мир и посвятив остаток своих земных дней Богу.
Лютер не погиб в тот день под Штоттернхаймом. Гроза миновала; он поднялся, пошатываясь, с мокрой земли – и побрел в Эрфурт, к своим занятиям. Однако того, что произошло, он забыть не мог. Он был серьезным и благочестивым молодым человеком; и он поклялся святой матери святой Матери Божьей – а следовательно, самому Богу, – что станет монахом. Значит, он должен стать монахом. Иного пути теперь нет.
Что за мысли проносились в его уме в тот последний час путешествия – за шесть миль, отделяющих его от Эрфурта и от прежней жизни, которую он только что обещал навеки покинуть? Радовался ли он происшедшему? Или страшился того, что совершил, понимая, что данная им клятва нерушима и неотменима? Быть может, искал какие-то лазейки, чтобы отозвать свое обещание? Этого мы никогда не узнаем. Известно нам вот что: вернувшись в университет, он рассказал о случившемся товарищам-студентам, и все они старались его отговорить. Но юноша был непоколебим. Чтобы упрочить свое решение, он даже продал свой «Corpus juris».
Однако самой трудной частью его задачи, несомненно, оставалось объяснение с отцом. Не приходилось сомневаться: отец будет глубоко разочарован и придет в ярость. Потрясенный, чувствуя себя преданным, он будет рвать и метать и сделает все, что в его силах, чтобы заставить сына передумать. Вспомнить только, как рвал жилы Ганс Лютер, чтобы дать сыну образование! И вот, в шаге от заветной цели – цели, важной не только для Мартина, но и для всей семьи, цели, ради которой отец его тяжело трудился и шел на жертвы, – Мартин вдруг, словно рассудок потеряв, от всего отказывается, все выбрасывает в выгребную яму и идет в монахи. В монахи! Что станет с отцом при таком известии? Задача эта ужасала Мартина, и он решил обойти ее кружным путем: просто поступить в монастырь, а отцу сообщить об этом уже задним числом, «по факту».
16 июля, ровно через две недели после штоттернхеймской грозы, Лютер пригласил друзей на грандиозный прощальный ужин. Даже там друзья продолжали отговаривать его от рокового шага. Но он поклялся – и должен был исполнить обет. «Сегодня вы видите меня в последний раз! – восклицал он с драматичностью, вполне понятной для молодого человека в таких обстоятельствах. – Не увидеть вам меня больше!» На следующий день ему предстояло отправиться в дорогу, которая уведет очень далеко от мира, предназначенного ему отцом, – да и вообще от мира сего. Но мог ли Лютер вообразить в этот решающий миг, что путь этот заведет в такие дебри, о которых тогда он и помыслить был не в силах? Он пойдет туда, куда не хочет идти; путь его станет для многих возвышением и падением. Он породит войны и революции, перекроит очертания стран и империй, окрасит будущее в невообразимые цвета. Но все это впереди – а сейчас Лютеру предстояло стать монахом.
На следующее утро в сопровождении нескольких друзей (и друзья эти даже сейчас уговаривали его передумать!) молодой человек явился к дверям Эрфуртской обители августинцев и объявил о своем желании принять святые обеты. Почему он выбрал именно августинцев, а не доминиканцев, францисканцев или бенедиктинцев, мы не знаем. Говорят, что августинцы в Эрфурте были известны строгим уставом – возможно, это его привлекло. Кроме того, славились они своей любовью к богословию – быть может, привлекательным показалось и это. Но все это лишь предположения. Свидетельства из первых рук у нас нет. Однако нам легко представить, как монастырский привратник спрашивает Лютера, зачем он пришел в монастырь, услышав ответ, говорит, что должен сообщить об этом настоятелю, и просит подождать. Затем, должно быть, выходит сам настоятель, Винанд фон Диденхофен, вводит молодого человека в монастырский храм, подробно расспрашивает о его намерениях и выслушивает его полную исповедь. Убедившись, что Лютер в здравом уме и намерения его серьезны, настоятель приглашает его остаться в монастырском доме для гостей, который стоит в Эрфурте и поныне[38]38
Это старейшее здание в современном Эрфурте, построенное в 1277 году.
[Закрыть].
На этой стадии Лютер стал так называемым послушником. От принятия монашества его отделял довольно продолжительный период ожидания, включавший в себя, среди прочего, частую и подробную исповедь. Однако через некоторое время этот «испытательный срок» окончился – и настал великий день. Лютера снова ввели в монастырский храм: на этот раз здесь собрались все монахи, бывшие сейчас в монастыре. Настал великий миг. Юноша, стоящий перед ними, совершал тот же шаг, что совершили когда-то и они сами: иные – недавно, другие – много лет назад. В этот день Лютер официально отрекся от мира за стенами монастыря – навеки, необратимо; так он исполнил обет, принесенный в июле близ Штоттернхайма, во время грозы.
Во время пострижения послушник Лютер склонялся перед настоятелем и простирался ниц перед алтарем на каменном полу монастыря, сохранившемся и по сей день. В нескольких шагах от молодого Лютера покоились кости Андреаса Захариаса – самого известного из здешних монахов, останки коего пользовались в монастыре особым почитанием. За сто лет до того на Констанцском Соборе именно Захариас особенно рьяно нападал на учение богемца Яна Гуса – и, как говорят, именно с его подачи и по его настоянию Гус был вскоре сожжен на костре. Более всего беспокоил Гуса институт папства: он настаивал, что христиане должны следовать не за тем или другим человеком, а за одним лишь Христом. Говорил он и о том, что на Евхаристии мирянам необходимо предлагать и хлеб, и вино – так же, как делал Иисус в Евангелиях, – и что предложение хлеба и вина только священникам создает между мирянами и клиром некое ложное разделение. Гус решительно выступал против такого отделения клира от мирян, говоря, что в Новом Завете для него не находится никаких оснований. Со временем и Лютер пойдет по стопам этого прославленного мученика – будет фактически повторять его учение; и поистине странна ирония судьбы: свою монашескую жизнь он начал с простирания ниц перед почитаемыми костями того самого человека, что зажег под Гусом огонь.
Настоятель Диденхофен спрашивал послушника Лютера, готов ли он в самом деле возложить на себя тяжелые монашеские обеты, и красноречиво описывал те лишения и испытания, что ждут его впереди. Все это Лютер слышал – и отвечал серьезно и торжественно: да, готов. На случай, если бы Лютер верил, что одним вступлением в монастырь уже достиг спасения, Диденхофен с величайшей серьезностью предупредил, что это не так: «Не всякий, кто вступил на этот путь, но лишь претерпевший до конца спасется»[39]39
Цит. по: Bainton, Here I Stand, 20.
[Закрыть]. Иными словами, двадцатидвухлетний монах стоял сейчас лишь у подножия великой семиярусной горы, которую ему теперь предстояло преодолеть[40]40
В «Божественной комедии» Данте чистилище изображено как «гора с семью ярусами». Так же звучит заглавие автобиографии Томаса Мертона, монаха-трапписта XX века.
[Закрыть].
Итак, теперь Лютеру предстояло всеми силами разума и души стремиться к спасению, неустанно исполнять все предписанные правила, не отступать от них ни на йоту… и потерпеть на этом пути поражение. В жажде прикоснуться к небесам будет он взбираться на Вавилонскую башню – и, великими трудами и усилиями достигнув вершины, убедится, что не приблизился к небу ни на шаг. Тогда он поймет: либо для человека вовсе нет пути к Богу – либо путь этот совсем не тот, какому научены он сам и тысячи его современников. Или спасение невозможно вовсе, или вся эта система – в том числе и грозный, пугающий Бог на ее вершине, – не что иное, как дьявольский обман. Все проще некуда. Но какие муки придется перенести Лютеру, чтобы прийти к этому простому выводу! В знаменитой биографии Лютера 1950 года «На том стою» Роланд Бейнтон пишет: «Значение монашества Лютера в том, что его великий мятеж против средневековой Церкви вырос из отчаянной попытки следовать предписанным ею путем»[41]41
Там же.
[Закрыть].
Год послушничества Мартин провел так же, как и все монахи в монастыре. Вместе с ними поднимался он по удару колокола в два часа ночи, осенял себя крестом и, торопливо накинув белую рясу и наплечник[42]42
Наплечник – монашеское одеяние без рукавов, свисающее с плеч. Также называется скапулярием, от латинского scapula – «плечо».
[Закрыть], спешил из кельи в часовню: там молился перед высоким алтарем и, заняв свое место на хорах, пел утреню – первый из семи «часов», которые служатся в монастырях по всему миру. Утреня состояла из антифонного (попеременного) воспевания гимнов и псалмов и длилась около сорока пяти минут. В конце утрени монахи возносили молитву «Salve, Regina» («Спаси нас, Владычица»), обращенную к Марии: «Спаси нас, Владычица, Мать милосердная, наша надежда, наше утешение. К тебе мы, изгнанные сыны Евы, возносим свои молитвы. К тебе обращаем воздыхания, влачась в этой долине слез. Будь нашей заступницей, сладчайшая Дева Мария, молись за нас, святая Матерь Божья». После «Salve Regina» монахи пели «Ave Maria» («Славься, Мария») и «Pater Noster» («Отче наш»), затем вставали и выходили из часовни[43]43
Там же, 21–22.
[Закрыть].
Одна из проблем, с которой, возможно, столкнулся Лютер, пускаясь в путь по этой натоптанной дороге, состояла в том, что Бог Отец и Сын Его Иисус воспринимались прежде всего как суровые судьи. Роль «утешителя» перешла к Марии – человеку, понимающему нас и наши испытания, нежной любящей матери, готовой защищать свое любимое дитя от злых и жестоких людей. Хотя христианское учение ясно гласит, что сам Иисус обладал полной мерой человеческой природы и, следовательно, может понять наши беды, страдания и искушения и сострадать им, – в реальности церковной жизни в ту эпоху эта сторона Иисуса по большей части не замечалась; Его представляли себе таким же далеким, холодным и страшным, как и Бога Отца. Лишь за Марией, человеческой матерью Иисуса, признавалась способность и готовность утешать нас в несчастьях и давать надежду. Считалось, что она способна заступиться за нас перед своим суровым и, быть может, равнодушным Сыном, найдя для него такие слова, какие может найти только мать. По той же причине верующие часто и с великим усердием обращались к святым: они люди – кому же, как не им, понять наши трудности? Святые казались верующим куда ближе, чем Иисус, – формально тоже человек, но на самом-то деле прежде всего Бог. Святые – так казалось католикам – добрее и терпеливее, более готовы поспешить к нам на помощь; быть может, и времени у них больше, чем у Бога, который правит огромной вселенной, – где уж ему интересоваться нами и нашими мелкими неприятностями! Разумеется, такой ход мысли – ересь чистой воды, ничем не лучше, чем назвать Бога дьяволом; но в то время верующие так не думали. Эту глубочайшую, неизмеримую по своим последствиям ошибку никто не замечал – а если и замечали, то предпочитали помалкивать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?