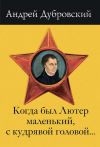Автор книги: Эрик Метаксас
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Лукас Кранах
Лукас фон Кранах появился на свет в городке Кронахе, от которого, разумеется, и получил свое имя. Именно Кранах собственноручно сделал скромного монаха по имени Мартин Лютер известным всему свету, по всей Европе распространив его многочисленные портреты. Как и в случае со Штаупицем и многими другими героями, без которых этой истории просто не случилось бы, в Виттенберг Кранах попал благодаря Фридриху Мудрому.
На соперничество со своим дядей Альбертом Храбрым – а позже, после смерти дяди в 1500 году, с кузеном, герцогом Георгом Бородатым, впоследствии ставшим заклятым врагом Лютера, – Фридрих никаких денег не жалел. Он решил украсить Виттенберг так, как подобает столице курфюршества – а эта задача, разумеется, требовала и первоклассной живописи. В апреле 1496 года, будучи в Нюрнберге, Фридрих познакомился там со сказочно талантливым Альбрехтом Дюрером, к тому времени уже открывшим собственную мастерскую: слава этого художника стремительно распространялась по Европе. Тогда-то Дюрер написал портрет Фридриха – и Фридрих был настолько впечатлен, что немедленно предложил гению новую, куда более амбициозную задачу: расписать восемь алтарных панелей, впоследствии получивших название «Полиптих семи скорбей». Через несколько лет, решив учредить при своем дворе должность герцогского художника, Фридрих спросил совета у многих друзей и знакомых, в том числе, разумеется, и у Дюрера. Его заверили, что ближе всего к Дюреру по мастерству стоит Кранах – и выбор курфюрста остановился на нем. Итак, в 1505 году Кранах, тогда тридцатитрехлетний холостяк, переехал в Виттенберг. Здесь он получил не только щедрое жалованье, не только все необходимое для работы, но и коня, и богатые апартаменты в замке курфюрста.
Однако то, чем ему предстояло отрабатывать эти щедрые дары, требует особого описания. Быть официальным придворным художником означало нечто гораздо большее, чем время от времени писать маслом шедевры – хотя Кранах занимался и этим, и иные его картины превозносили даже больше, чем прославленные запрестольные образа Маттиаса Грюневальда. Работа эта требовала обширных и разносторонних дарований – которыми Кранах несомненно обладал. Это легко заметить, если сопоставить его возвышенные запрестольные образы с позднейшими сатирическими гравюрами, созданными в соавторстве с Мартином Лютером – шокирующе вульгарными, изображающими пап и кардиналов в самых грязных местах и в самых непристойных положениях. Помимо своих художественных дарований, отличался Кранах и деловой хваткой – успешно руководил огромной мастерской, где трудились другие художники и мастера-ремесленники.
В 1508 году на имперском рейхстаге, желая почтить своего придворного художника, Фридрих оказал Кранаху величайшую честь – даровал ему дворянский герб, созданный специально для него, хоть мы и не знаем, кем именно. Герб изображал пару крылатых змеев в золотых коронах, каждый – с рубиновым кольцом во рту. В тогдашнем немецком фольклоре и короны, и кольца указывали на магическую силу; очевидно, Фридрих имел в виду, что в своем искусстве Кранах – истинный волшебник. Крылья змеев поднимаются вверх и как будто трепещут на ветру, словно языки пламени или лепестки цветов. Один змей извивается на желтом поле щита, второй – над щитом. Их разделяет голубой с золотом рыцарский шлем и несколько зеленых терновых колючек. Согласно Стивену Озменту, исследователю жизни и творчества Кранаха, даже «в мире новоизобретенных гербов щит Кранаха смотрится странно и загадочно»[67]67
Ozment, The Serpent and the Lamb, 70.
[Закрыть].
Кранах прославился скоростью работы, из-за этого получил латинское прозвище pictor celerrimus (быстрейший из художников), так что, возможно, крылатый змей передавал также идею быстроты. Кроме того, Кранах, по примеру гуманистов, часто пользовался греческой версией своей фамилии – Кронос, что по-гречески означало «время»; очевидно, это также было связано с быстротой. Понравился ли Кранаху преподнесенный ему в подарок герб – мы никогда не узнаем. Разумеется, особого выбора у него не было, да и сама возможность получить герб несомненно перевешивала любые сомнения по поводу его эстетической ценности. Так или иначе, Кранаху не оставалось ничего иного, кроме как принять этот герб и пользоваться им до конца дней. Дюрер первым начал подписывать свои работы знаменитым значком, в котором зашифровал свои инициалы – и Кранах в первые годы при дворе Фридриха делал то же самое, но с течением времени перешел к использованию в качестве подписи своего змеиного герба, так что можно предположить, что змеи ему понравились – или, по крайней мере, со временем он к ним привык. Во всяком случае, уже в 1514 году он гордо ставил этих змей почти повсюду.
Богатство и славу Кранаха в Виттенберге превосходили, пожалуй, лишь богатство и слава самого Фридриха. В 1512 году, через год после приезда в Виттенберг Лютера, Кранах решил, что апартаменты в замке курфюрста стали для него тесноваты. Он хотел жениться, обзавестись семьей, а для этого требовалось больше места. В том же году он женился на Барбаре Бренгбир из Готы, и та за семь лет родила ему пятерых детей. Желая подготовиться к расширению семейства, а также найти место для большой мастерской, пригодной для всех его разнообразных занятий, Кранах приобрел два просторных дома на главной улице Виттенберга. Один из них уже был самым впечатляющим особняком в городе; но Кранах начал его перестраивать – и трудился над ним больше пяти лет. Сохранились документы, свидетельствующие, что только в 1512 году Кранах закупил 11 500 кирпичей и 6 000 черепиц для кровли. В те пять лет, пока Кранах строил свой особняк – дом номер один по Шлоссштрассе[68]68
Дословно «Замковой улице», нем. – прим. пер.
[Закрыть], жил он вместе с семьей во втором доме, всего в паре сотен футов вниз по улице, также перестроенном и расширенном. Особняк, законченный в 1518 году, мог похвастаться восьмьюдесятью четырьмя комнатами – все с отоплением, что по тем временам было редкостью – и шестнадцатью кухнями. В 1523 году король Дании, не сумев установить у себя в стране Реформацию, принужден был бежать – и, приехав в Виттенберг, поселился в доме у Кранаха. Имелось у Кранаха в Виттенберге немало и другой недвижимости: многие дома и квартиры он сдавал внаем, и состояние его, как и влияние в городе, росли год от года[69]69
Там же, 90–92.
[Закрыть].
Любопытно, что, всеми силами прославляя Лютера и продвигая его идеи, Кранах при этом ухитрился остаться на дружеской ноге с архиепископом Альбрехтом Майнцским, на которого много работал, и с Римско-Католической Церковью в целом. Как видно, Кранах не просто знал, с какой стороны у бутерброда масло – в его случае, как гласит поговорка, масло было с двух сторон.
Реформа изнутри
Представление о Римско-Католической Церкви как о какой-то несокрушимой крепости из золота и мрамора, стоявшей твердо и нерушимо, пока 31 октября 1517 года Лютер не потряс ее здание ударами молота по дубовым дверям Schlosskirche, далеко от реальности – сразу в нескольких отношениях. Прежде всего неверна сама мысль, что Церковь была совершенно неспособна к переменам и противостояла любой критике. В ней было немало реформистских движений, каждое с собственной историей – однако ни один реформатор, разумеется, не закончил так, как Лютер, порвав с Церковью и основав собственную. Способы выражения критики или несогласия были различны. Конечно, при неудачном стечении обстоятельств неосторожная или чересчур смелая критика могла закончиться костром. Однако в Церкви времен Лютера существовали известные и влиятельные «диссиденты», близкие по взглядам к самому Лютеру, однако живущие вполне благополучно – например, Эразм Роттердамский или Рейхлин.
Рейхлин
Рейхлин был блестящим ученым-гуманистом, знатоком латыни, греческого и древнееврейского языков. Прославленный Меланхтон, о котором нам еще не раз придется вспомнить, приходился ему внучатым племянником. В 1478 году Рейхлин составил латинский словарь. Однако приверженность древнееврейским текстам однажды вовлекла его в жаркий спор и заставила даже предстать перед римской инквизицией.
Все началось с того, что некий Иоганн Пфефферкорн, иудей, обратившийся в христианство, обратился к императору Максимилиану с предложением конфисковать у евреев и сжечь все книги на древнееврейском. Он полагал, что существование этих книг – одна из главных причин, по которой евреи не обращаются, как он сам, в христианскую веру, и приводил в пример братьев-доминиканцев в Кельне, которые выискивали и уничтожали еврейские книги везде, где могли найти. Он даже попытался заручиться поддержкой Рейхлина. Поначалу тот вежливо отклонил его просьбу, предпочитая остаться в стороне от этого спора. Но затем, в 1510 году, сам император пригласил Рейхлина войти в комиссию для рассмотрения этого вопроса, и тут уж Рейхлину пришлось высказаться без обиняков. В конечном счете он оказался единственным членом комиссии, не согласившимся с тем, что еврейские книги следует изъять и предать огню. Пфефферкорн и кельнские богословы пришли в ярость и напали на Рейхлина за его взгляды.
Весь «казус Рейхлина» скоро приобрел черты борьбы нового гуманизма со старой схоластикой, и борьба вокруг вопроса о еврейских книгах стала делом чести для обеих сторон. Гуманисты, разумеется, ценили всякую литературу, особенно древнюю, так что мысль об уничтожении еврейских текстов была им отвратительна. А схоласты, как и Пфефферкорн, и доминиканцы, были вовсе не чужды антисемитизма. Однако позиция самого Рейхлина была отчасти сомнительной: он защищал не просто еврейские книги, а каббалу, в которой содержались не типично иудейские взгляды на Ветхий Завет, а своего рода иудейский мистицизм, граничащий с оккультными практиками, прямо запрещенными ветхозаветным Богом. Однако главное разногласие Рима и схоластов с Рейхлином состояло не в этом, да и сражение велось отнюдь не на чисто академическом уровне. Борьба сделалась «грязной» почти сразу, когда Пфефферкорн опубликовал памфлет, где прямо заявил, что Рейхлин подкуплен евреями. Рейхлин в ответ выпустил памфлет в свою защиту, а кельнские богословы сделали все, чтобы помешать его распространению. В конечном счете, они преуспели – памфлет Рейхлина был официально конфискован инквизицией.
В 1513 году конфликт дошел до того, что Рейхлина вызвали на суд инквизиции, где он отказался отречься от своего мнения. На этом дело не закончилось – в 1514 году дело Рейхлина рассматривалось уже в Риме. Лютер внимательно следил за ним с самого начала и явно занимал сторону Рейхлина. Услышав, что разбирательство перенесено в Рим, он обрадовался – и написал об этом Спалатину. Слишком уж очевидна была пристрастность кельнских богословов, особенно Ортуина Грация, высмеявшего Рейхлина в ядовито-саркастических стихах. Письмо Лютера к Спалатину датировано 5 августа – и полно энергии и юмора, столь характерных для писем Лютера к ближайшим друзьям:
Приветствую! До сих пор, ученейший Спалатин, я считал кельнского рифмоплета Ортуина просто ослом. Но теперь, как сам видишь, он сделался псом – да нет, волком в овечьей шкуре, если даже не свирепым крокодилом. Как взбеленился от того, что Рейхлин ткнул его носом в его ослиность (да позволено мне будет такое словоизобретение!). Думал Ортуин совлечь с себя ослиную шкуру и облачиться в величественную шкуру льва – а вместо этого претерпел невиданную метаморфозу: сделался то ли волком, то ли крокодилом. И поделом ему: не пытайся прыгнуть выше головы!
Дальше Лютер выражает свое удовлетворение тем, что дело наконец передали в Рим. Очевидно, пока он очень далек от тех взглядов на кардиналов и папу, которые начнет выражать всего несколько лет спустя:
Одно меня особенно радует – а именно то, что дело дошло до Рима и до Святого Престола, а не оставлено на усмотрение завистливых людишек из Кельна. В Риме – самые ученые кардиналы, и, несомненно, они отнесутся к делу Рейхлина более благосклонно, чем эти кельнские завистники, которые дальше грамматики не продвинулись[70]70
LW, 48:10.
[Закрыть].
Дело Рейхлина повлияло и на дело Лютера, когда в 1517 году он вступил в противостояние с Римом. Многие римские церковники увидели в Лютере просто «еще одного беспокойного немца с гуманистическими симпатиями». А в Германии из-за дела Рейхлина многие ощущали к Риму скепсис и даже враждебность. Сам Рейхлин не покинул Церковь, но нападения на него продолжались вплоть до конца 1517 года, когда Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «Девяносто пять тезисов». Свара вокруг Рейхлина поглотила весь кислород в европейском христианском мире на десятилетия вперед, и сам Рейхлин восклицал: «Слава богу, монахи нашли себе наконец кого-то еще и теперь оставят в покое меня!»[71]71
Lewis William Spitz, Luther and German Humanism (Aldershot, U.K.: Variorum, 1996), 85.
[Закрыть]
Эразм Роттердамский
История Эразма, его критики Церкви и проблем с Церковью куда обширнее и сложнее, чем у Рейхлина – как и история его нелегких отношений с Лютером. Поэтому нам стоит рассказать о нем поподробнее.
Дезидерий Эразм – или Эразм Роттердамский (под этим именем он приобрел известность), родившийся в Голландии в 1466 году, был титанической фигурой своего времени. Прославленный как «князь гуманистов», а в более близкие к нам времена – как один из основателей христианского гуманизма, в своей деятельности он более кого-либо иного воплощал гуманистический призыв «ad fontes!» – то есть «назад к первоисточникам!»[72]72
Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity (New York: Harper & Brothers, 1952), 661.
[Закрыть] Основным текстом Библии была в то время латинская Вульгата; и именно Эразм изменил это положение вещей, восстановив оригинальный греческий текст Нового Завета I века н. э. Открыл он для западного читателя и оригинальные труды грекоязычных отцов Церкви. Любовь его к оригинальным греческим текстам была неописуема:
Ибо где по-латыни у нас лишь ручейки и грязные лужицы, там по-гречески – чистые источники и реки, текущие золотом. Совершеннейшим безумием кажется мне хотя бы мизинцем касаться той ветви богословия, что трактует о Божественных тайнах, не овладев вначале греческим языком[73]73
Цит. по: Carlos Eire, Reformations: The Early Modern World, 1450–1660 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2016), 65.
[Закрыть].
Эразм был независимым ученым, однако питал глубокую преданность Церкви. В двадцать пять лет он был поставлен в священники, и с 1510 до 1515 года преподавал в Куинз-колледже в Кембридже. Греческий он выучил самостоятельно – и в 1516 году опубликовал свое издание грекоязычного Нового Завета с посвящением папе Льву X, быть может, сделанным ради безопасности. Через несколько лет в Вартбурге Лютер будет пользоваться греческим Новым Заветом Эразма, работая над собственным переводом Нового Завета на немецкий. Однако сейчас Эразм особенно важен для нашей истории тем, что, тоже критикуя Церковь, он, однако, сумел удержаться на грани, которую перешагнул Лютер. Эразм был очень популярным писателем – но старался смягчать свою острую критику Церкви, в том числе используя юмор.
В 1504 году Эразм опубликовал книгу, посвященную суровой критике религиозного благочестия своего времени. Называлась она «Энхиридион, или Руководство для воина-христианина». Книга обрела огромную популярность и разошлась мгновенно. Критика Эразма била в основном по религиозному формализму и обрядоверию. Бездумно совершать положенные обряды, писал Эразм, не значит поклоняться Богу. Это фальшивая религиозность – еще хуже, чем никакой. В 1511 году Эразм выпустил еще более популярную «Похвалу глупости». Здесь он высмеивал многочисленные суеверия, присущие римско-католической практике – например преувеличенное почитание святых, доходившее до настоящего поклонения им. В своих писаниях Эразм указывал на многие пороки Церкви, на которые чуть позже будет негодовать Лютер – например аморальность клириков или законнический подход к религии, который он отмечал у многих монахов. Подобно Рейхлину, Эразм поднимал на щит гуманизм, с его желанием докопаться до сути вещей, и противопоставлял его схоластике. Однако при всем этом Эразму как-то удавалось сохранять позицию верного христианина, защищающего истинное церковное учение от искажений. В 1514 году он даже выпустил сатиру, мишенью которой стал сам папа, под заглавием «Изгнание Юлия с небес», – но и это ему каким-то образом сошло с рук. Эразм сурово критиковал бум вокруг реликвий, в том числе явно поддельных. Забавнее всего, на его взгляд, вышло с бесчисленными фрагментами «Истинного Креста»: «Если все эти щепки собрать вместе, – писал он, – ими можно было бы нагрузить целый корабль»[74]74
Цит. по: там же, 112.
[Закрыть].
Как видим, у Эразма и Лютера было много общего – однако со временем пути их резко разошлись. Прежде всего, дуализм духа и тела, столь привлекательный для Эразма, Лютер считал величайшей ошибкой в понимании благодати и корнем многих других ошибок. Другое различие состояло в том, что Лютер, ясно сознавая проблемы Церкви, не считал, однако, что их можно решить «напрямую». Даже в своих тезисах об индульгенциях он писал, что не только сами индульгенции нуждаются в отмене, но и богословские ошибки, лежащие в основе практики индульгенций – в исправлении. Большая часть «Девяноста пяти тезисов» посвящена именно богословским проблемам, вызывающим подобные извращения в церковной практике. Эразм никогда не обращался напрямую к богословию, не пытался вскрывать богословские проблемы, лежащие в основе подмеченных им заблуждений и пороков, – Лютер же, как ученый экзегет, всегда стремился докопаться до корней: стоит исправить фундамент, полагал он, и следом исправится выстроенное на нем здание.
Однако все они – Эразм, Рейхлин, а позднее и Лютер – искренне надеялись достучаться до Рима и обратить его внимание на те пороки и искажения, что ясно видели сами. Если бы их идеями заинтересовался папа!.. Беда в том, что папы того времени не просто не интересовались исправлением пороков – ярким воплощением и источником этих пороков были они сами. Поэтому, прежде чем перейти к битве Лютера со Святым Престолом, нам стоит не только вкратце описать других известных писателей того времени, споривших с Церковью, но и коснуться того, что представлял собой сам Святой Престол. Мы уже видели Рим с точки зрения Лютера, побывавшего там в 1510–1511 годах; однако взгляд молодого монаха, чужого в этом огромном городе, едва ли способен дать полное представление о том, что творилось в эти годы в цитадели папства.
Рим
В 1513 году, в тот же год, когда Лютер начал читать библейские лекции, на престол Святого Петра взошел бывший Джованни ди Лоренцо де Медичи. Само папство в эти годы было воплощением порока; сравнивать любого из печального известных шести пап того периода – долгий ряд убийц, развратников и растлителей, от Сикста IV до Льва X – с каким-либо из более поздних пап – все равно, что Медузу Горгону с деревенской старухой. Папы и папство в те времена представляли собой вполне светскую власть, духовное и церковное измерение которой оставалось лишь дополнением – и порой ненужным и утомительным дополнением – к фундаментальной земной реальности. Пап интересовала прежде всего земная власть; а историк Барбара Тачмен в своей книге «Марш глупости» верно отмечает, что «сам процесс получения власти включает в себя средства, унижающие и ожесточающие искателя, так что, достигнув желаемого, он обнаруживает, что получил власть ценой утраты добродетели или нравственной цели своих действий»[75]75
Tuchman, March of Folly, 112.
[Закрыть]. В годы, когда Лютер опубликовал свои «Девяносто пять тезисов» – и далее, во время рейхстага в Вормсе, – папский престол занимал Лев X, чья история больше напоминает рассказы барона Мюнхгаузена, чем папские хроники.
Урожденный Джованни ди Лоренцо де Медичи, мальчик, которому в дальнейшем предстояло стать Львом X, еще в самом раннем возрасте был посвящен Церкви; однако в те времена это означало совсем не то, что мы могли бы представить сейчас. Маленького Джованни постригли в монахи[76]76
Традиционно монахам в знак посвящения Богу выбривали или выстригали кружок волос на макушке – тонзуру. Этот обычай связан с преданием, согласно которому нескольких апостолов римские императоры приказали с целью унижения обрить наголо.
[Закрыть] в семь лет – а год спустя, благодаря ловкости и настойчивости его отца, он уже стал архиепископом. Восьмилетний архиепископ – звучит, конечно, смешно; однако это показывает нам, до какой степени церковная власть в то время смешивалась со светской. Восьмилетний принц или герцог никого бы не удивил – а церковные титулы, как видим, воспринимались как полные аналоги титулов светских, аристократических. Дальше – больше: в тринадцать лет юный Джованни сделался кардиналом. В виде некоей уступки нормативному представлению о том, каким должен быть кардинал, эту должность он получил in pectore (буквально – «во чреве», то есть тайно). Лишь три года спустя, в зрелом и умудренном шестнадцатилетнем возрасте, тайное стало явным, и Джованни, юный принц Церкви, впервые появился на публике в красном кардинальском одеянии и широкополой шляпе.
А в нежном возрасте тридцати семи лет он стал папой. Услыхав о смерти своего предшественника Юлия II, Джованни незамедлительно отправился в Рим. Однако всю дорогу преследовал его мучительный и не слишком почетный недуг – свищ прямой кишки. Когда Джованни прибыл на конклав – собрание, эксклюзивность и секретность которого не знает себе равных в мире, – в виде исключения, ради его высокого положения и уважения, питаемого к нему всеми присутствующими, ему разрешили взять с собой на конклав личного врача. Уже в этом относительно молодом возрасте будущий Лев X был близорук, отличался огромным весом и едва ходил из-за подагры. Как мы уже знаем, именно его конклав решил обуть в легендарные «башмаки рыбака». Но тут всплыла неожиданная проблема: оказывается, избранный папа не был даже священником! В погоне за титулами поставить в священники малолетнего кардинала как-то позабыли. Так что, прежде чем надеть папскую мантию, Джованни пришлось пройти рукоположение, затем стать епископом – и лишь затем официально принять звание папы и имя «Лев X».
Изучая жизнь Льва X и других пап этого периода, не знаешь, с кем их сравнивать – с римскими императорами или азиатскими деспотами. От своих более порочных собратьев папа Лев X отличался относительной безобидностью; злодеяния его не привлекали – зато не было предела его любви к роскоши и шумным развлечениям. Одна яркая история поможет нам понять, с чем имел дело Лютер, когда боролся с Римом, – хотя сам Лютер, к счастью для него, об этой истории не слыхал. Произошла она в 1514 году. Лютер в этот период своей жизни поднимался в четыре часа утра, шел читать лекции о Псалтири, а затем трудился до вечера, бесчисленными способами стараясь приблизиться к Богу и к ближнему. А в восьмистах милях к югу от Виттенберга папу Льва X занимала совсем иная забота: тщательно, словно военную кампанию, планировал и продумывал он жестокую шутку над психически больным.
Жертвой его спектакля стал Джакомо Барабалло, папский приближенный, любитель шуток, каламбуров и остроумных стихов. Как многие по тогдашней флорентийской моде, носил он и церковный титул, ровным счетом ничего не значащий. В то время Барабалло был аббатом Гаэтанским; самого себя он объявил «архипоэтом» и немало развлекал своими стихами Льва, большого любителя и ценителя юмора, пока каким-то печальным случаем не свихнулся («он был хорошим царедворцем, пока не сошел с ума», пишет о нем современник) и не превратился из шутника в мишень насмешек и розыгрышей. Барабалло искренне уверовал, что его поэтический дар выше, чем у великого Петрарки; и Лев решил, что такое преувеличенное мнение его приближенного о себе – отличный повод позабавиться самому, позабавить своих друзей, а заодно и весь Рим.
Итак, однажды Лев объявил, что в день святых покровителей семьи Медичи в Риме пройдет невиданный праздник, именуемый «Космалии», и кульминацией этого празднества станет «бурлескная коронация» Барабалло как архипоэта[77]77
Bedini, Pope’s Elephant, 92.
[Закрыть]. Огромная и пышная триумфальная процессия начнет свой путь от Апостольского дворца на площади Святого Петра, где с 1450 года – с самой постройки этого дворца – обитали папы. Весь Рим с нетерпением ждал праздника: то, что предстоит жестокий розыгрыш, понимали все и в Риме, и, кажется, далеко за его пределами – все, кроме самого Барабалло. Напрасно родные умоляли его в этом не участвовать, старались убедить, что его поэтическому гению подобает более величественная церемония – он только отмахивался, уверенный, что все они просто ему завидуют. Лев X лично распланировал каждую мельчайшую деталь этого спектакля – с таким тщанием, словно в этом и состояла главная задача наместника Христова. Именно он предложил провезти Барабалло по Риму верхом на слоне – слоне по имени Ганно, экзотическом подарке от короля Португалии. Этого слона ребячливый понтифик обожал больше жизни – и пришел в восторг от мысли, что в розыгрыше примет участие его огромный толстокожий друг.
Согласно тайному плану, Ганно должен был пронести Барабалло на спине всю дорогу до Тибра, а затем собственно в Рим по дороге Понте Сант-Анджело; а тысячи зрителей, собравшись на обочинах, должны были приветствовать величайшего поэта всех времен и народов, издавая притворные крики восторга и покатываясь от непритворного хохота. Ma come buffa![78]78
«Как забавно!», ит. – прим. пер.
[Закрыть]
Любитель втягивать в свои шутовские предприятия всех вокруг, саму «коронацию» великого поэта Лев поручил кардиналу Маттеусу Лангу, суровому немцу, бывшему в то время епископом Гуркским. Чувством юмора Ланг не обладал – и явно считал участие в этом исполинском фарсе ниже своего достоинства; однако от предложения, исходящего из уст папы, трудно отказаться. Лангу предстояло торжественно увенчать бедного безумца шутовской высокой шапкой. В день церемонии римская знать, в веселом нетерпении собравшаяся на «праздник», с самого утра покатывалась со смеху – а Барабалло лучился гордостью: наконец-то его дар оценили по заслугам! В шутовском головном уборе, сияя дурацкой улыбкой, под торжественные звуки рогов и труб направился он к своему огромному «коню». Барабалло приблизился к слону, которого ему предстояло оседлать – и со всех сторон раздались восторженные крики. Немолодому и плотному человеку не так-то легко забраться на спину слону; но после нескольких неуклюжих попыток, сопровождаемых приглушенным хихиканьем зрителей, всадник сумел взгромоздиться в седло – точнее, на высокий резной трон, установленный у животного на спине. Ему вручили лавровую ветвь, и процессия двинулась в путь. Ганно и его седоку предстоял неблизкий путь к реке. Расстояние от дворца до моста составляло три тысячи ярдов, дорога была запружена людьми, что расступались при приближении слона; «и медленно, нетвердыми шагами»[79]79
Аллюзия на: Milton, Paradise Lost, bk. 12, line 648.
[Закрыть] Барабалло на слоне двигался к своей цели.
Однако у самого берега Тибра беднягу-поэта и его экзотического «коня» постигла нежданная беда. Шум и крики толпы, вместе с неудержимым громовым смехом, как видно, перепугали бедное животное. Пронзительный вой рожков, рев труб и грохот барабанов – все это оказалось для Ганно слишком. Подойдя к самому Адрианову мосту, он вдруг встал как вкопанный. Напрасно мавр-погонщик, сидевший у него на шее, колол слона острием своей палки и подгонял криками на чужом языке, к вящему удовольствию толпы. Восторгу зрителей не было предела; даже сам Лев, колыхаясь всем своим обширным корпусом, вышел из замка Сант-Анджело, откуда наблюдал за потехой в подзорную трубу. Ганно не желал идти вперед, погонщик орал, толпа уже выла и рыдала; и, наконец, должно быть, решив, что с него хватит, слон взбрыкнул – и сбросил в прибрежную грязь и золоченый трон, и седока. Барабалло перепугался и вымазался в грязи с головы до ног, но остался цел и невредим; дрожащий, грязный, поднялся он на ноги и бросился бежать как безумный – прочь от хохочущей толпы и от своего недолгого триумфа.
А что же стало с Ганно, самым экзотическим обитателем Рима с тех пор, как волчица на берегах Тибра выкармливала своим молоком Ромула и Рема? Увы, в начале лета 1516 года слон захворал, и папские медики не смогли ни определить природу болезни, ни найти лечение. Врачи делали для него все что могли, и сам Лев не отходил от стойла своего любимца. Но Ганно не вставал с одра болезни, и даже любимая забава – обливание посетителей водой – больше его не радовала. Один врач предложил: если уж все остальное не подействовало – попробуем дать мощное слабительное, вдруг да поможет? Мысль интересная; однако, пытаясь понять, как воплотить ее на практике, врачи только чесали в затылках – никогда им еще не приходилось промывать такой огромный желудок! Наконец решено было дать слону редкое, несравненное слабительное – смесь, в состав которой входила немалая доля чистого золота. В самом деле, сундуки Ватикана ломятся от золота верующих – и какое еще ему найти употребление, если не это? Но не помогло и сказочно дорогое лекарство: Ганно испустил дух и был погребен с великими почестями под Кортиле дель Бельведере. Лев X, пораженный потерей друга, сам написал ему длинную эпитафию в стихах и нанял не кого иного, как Рафаэля, чтобы тот – разумеется, тоже на деньги верующих – написал мемориальный портрет Ганно, увы, до нас не дошедший. Впрочем, еще один портрет папского слона дошел до наших дней и хранится сейчас в Оксфорде, в Музее Эшмола.

«Великий поэт» Барабалло едет через Рим на ручном слоне папы Льва. Слона по имени Ганно подарил папе португальский король. К несчастью, вскоре после этой церемонии Ганно умер, хоть его и лечили мощным слабительным, в состав которого входило чистое золото
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?