Текст книги "Пробы демиурга"
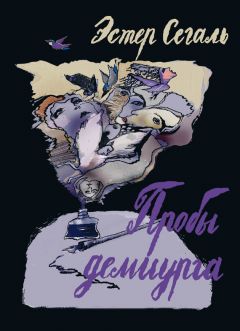
Автор книги: Эстер Сегаль
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
19. Возвращение
Писатель открыл глаза. За окном никакой ночи не было и в помине. Одет писатель был по-вчерашнему, а на подоконнике на корточках сидел Декарт, немного пьяный, но решительно готовящийся десантировать. Писатель облобызал его напоследок, а потом помахал ему рукой, как совсем недавно перед этим – дрозду.
Бордоское приятным теплом разливалось по жилам и придавало храбрости.
Компьютер, неприученный к долгому невниманию хозяина, уже давно заждался.
Писатель вознес пальцы над клавишами, но потом опустил их и долго пялился в пустой экран. Ровно столько пялился, сколько должно было бы потребоваться времени на составление искомого алгоритма на тему «Думать светло!», в который он уже теперь ни капельки не верил.
Высидев положенный срок, он вспомнил о своих идиллических мечтах о помощи всем и каждому. Жителям Колумбии и Камбоджи. Несчастным американским неграм и их еще более несчастным африканским собратьям. Комару, зажатому в смертельные тиски росянки, и узнику, доживающему свои последние часы в камере смертников. Депрессивному больному, не желающему вообще ничего, и наркоману в ломке, желающему лишь одного, но с настоящей страстью. Старшекласснице, тайно разродившейся этой ночью и бросающей своего ребенка в мусорный бак, и деловой женщине за сорок, в очередной раз пережившей разочарование в борьбе против бесплодия.
Писатель мрачно усмехнулся.
И хотя не было у него ни сил, ни настроения, но родителям-то все ж таки нужно было позвонить. И по сценарию требовалось, и по совести. Он взялся за трубку и пошел по накатанной:
– Алло, мам? А это я… Почему похудел?.. Ну, перестань… Как ты можешь слышать по телефону, что я похудел?.. Голос голодный?.. Уверяю тебя, ты заблуждаешься – я ем за двоих… Чего бояться? Ожирения? Холестерина?.. Мам, я честно, в порядке. Лучше расскажи, как вы там поживаете… Что с отцом? Почему болеет? А, за сборную Италии болеет… И ты болеешь? Тоже за Италию? Понятно… А что с деньгами?.. Нет, мне присылать не надо, я думал, наоборот, вам послать… Пенсия щедрая? А такое бывает?.. Я – нет… Говорю же, я – нет… Не женюсь… Я же вам обещал, что без вас не женюсь… И не собираюсь… Почему руки дрожат? Как ты это слышишь? Трубка по уху стучит?.. Ну да, есть немного… Чуть-чуть вина, хорошего французского… Нет, не один, с приятелем… Да не вожусь я с плохой компанией… Да-да, очень приличный человек, философ… Как зовут? Рене… Да, француз… Да, так пролетом… Из Европы… Книжки – хорошо, скоро новую напишу, вам пришлю… И старые не поняла?.. Ну, эта должна быть лучше… Ну, все, мам, привет отцу… А когда полуфинал? Ну, так я тебе обещаю, что сборная Италии выиграет… Откуда знаю? Какая разница? Вот увидишь, что будет именно так… Все, будьте здоровы… Целую… Пока-пока…
Писатель бросил трубку и помрачнел еще больше.
Впрочем, предаваться долгим размышлениям по этому поводу не стал: пора было идти в спальню переодеваться.
Но не успел он даже открыть дверцу гардероба, как его внимание было привлечено давно уже ожидаемым им шевелением на балконе напротив.
Писатель подошел поближе и обнаружил, что патлатый молодой человек приделывает веревочную петлю к балконной перекладине. При этом он явно нервничал, руки его дрожали, и узел никак не хотел затягиваться как следует.
– Ну вот! – сам себе сказал писатель. – Что и требовалось доказать!
Он глубокомысленно взглянул на молодого человека и тот вдруг уронил веревку. Затем выпрямился, рассеянно огляделся вокруг и вниз и с недоумением прошептал чуть слышно (но не для писателя, конечно, ибо в его ушах этот шепот раздавался как гром):
– Чего это я сюда пришел? Покурить, что ли? Но где же сигареты?
Он удивленно взглянул на свои руки, но они были пусты.
И тут взгляд его упал на кустик герани, кое-как воткнутый в горшок и явно вопиющий о поливе.
– Ну, конечно! – молодой человек красноречиво хлопнул самого себя по лбу. – Я же герань хотел полить. Вот неврастеник!
И тут же, схватив небольшую пластиковую леечку, стоявшую на полочке, он начал самозабвенно реанимировать чахлый цветок. И даже засвистел при этом что-то, кажется, из Бизе.
Да, определенно из Бизе. Свист был довольно фальшивым, но писателю все же удалось распознать знаменитую арию: «У любви, как у пташки, крылья…»
Дойдя до припева, молодой человек перешел со свиста к голосу и довольно пошло прогнусавил: «Любооооовь! Лю-бооооовь!». А потом добавил с философским цинизмом:
– И чего это некоторые с ума сходят от любви! Тоже мне!
Пожал плечами, бросил лейку и скрылся в недрах своей квартиры № 8.
Чем занять продолжение дня, писатель не знал.
Вернее, знал, что его надо занять «ничем». Только почему-то за последнее время он совершенно разучился это делать.
– Телевизор, что ли посмотреть?
Это было смешно, но действенно.
Тем более что по включенному писателем наугад каналу показывали футбол. Полуфинал. Сборная Италии против сборной Аргентины. Писатель вспомнил о данном родителям обещании. Надо было выполнять.
И надо сказать, что издеваться над маленькими человечками в спортивных трусах оказалось прикольно. Это, конечно же, были реальные живые люди, лишь уменьшенные трансляцией. Но все же они напоминали гомункулов, запертых в стеклянной колбе кинескопа и всецело отданных на произвол алхимика.
Сейчас таким алхимиком был он. И мрачно, с какой-то даже злобою, колдовал над мячом, над футбольным полем, над рефери, болельщиками и итальянцами и заставлял несчастных аргентинцев безостановочно промазывать.
– Гол! – надрывали голоса комментаторы и зрители. – Гол! Еще гол!
Болельщики хватались за сердце, доставали из карманов прихваченные на всякий случай таблетки, падали без сознания, задыхались, срывали глотки до хрипоты.
– Небывалый матч! – заходился голос за кадром. – 12:0, 13:0, 14:0. Нет, это невозможно! Ущипните меня, я сошел с ума!
Писателю быстро надоело, а настроение его ухудшилось еще больше.
– Вот так и весь мир, как это футбольное поле, – думал он. – Игра на потеху жалкой толпы, в которой каждый – сам игрок, созданный на чью-то потеху. Они только думают, что подчиняются правилам. Они подчиняются диктатуре случая или такого урода, как я. А я урод!
Последние пары бордоского выветрились из его организма окончательно. Но этого его не смутило, и он быстро надумал себе коньяк.
– И ведь подумать только, – продолжил он, залпом заглотив целый стакан и не закусывая, – они ведь верят, что их жизнь имеет смысл, значение, пользу. Но вот приходит к власти какой-нибудь Навуходоноссор или Гитлер и на фиг стирает эти жизни. Эти миллионы жизней маленьких человечков, гомункулов.
Он выдул еще стакан.
– Но ирония заключается в том, что и Навуходоноссор и Гитлер тоже гомункулы. И тоже об этом не догадываются, пока не приходится им сойти с ума или стреляться в подземном бункере. Да и тогда не догадываются.
Он выпил еще.
– А я вот догадался. Я творец. Но и я – гомункул. Гомункул в колбе собственного бессилия. И это смешнее всего.
Он икнул.
– И, наверное, было бы правильным покончить сейчас со всем этим.
Опять икнул.
– Не станет верховного гомункула, не станет и мелких.
Икнул очень громко.
– И закончится эта бредовая игра!
– Игра закончена, – поддакнул телекомментатор. – Невероятный результат: 17:0 в пользу сборной Италии.
Писатель мрачно выслушал и ответил телекомментатору еще более зычной икотой.
– Родители, должно быть, довольны! – промолвил он. – Зато кто-то из болельщиков Аргентины, наверняка, скончался от сердечного приступа. Ну и наплевать! На-пле-вать!
Он икнул.
Потом повалился на бок и еще раз медленно, как будто нараспев повторив свое «На-пле-е-е-е-вать!», заснул.
Сон бережно окутал его своим шелком. Остановил икоту, приглушил несносное гудение телевизора, расслабил напряженное тело и оставил валяться на салонном диване.
Совершенно безобразно пьяного, совершенно безобразно отчаявшегося творца нового мира.
20. Отчаянье
Он проспал весь вечер и всю ночь беспробудно, а мир в это время вертелся своим чередом сам по себе.
Когда же наступило утро, оно оказалось еще более скверным, чем предыдущее. Он это сразу понял. На этот раз из утра произрастала слякоть настоящей депрессии.
Он оглядел свою несвежую одежду, потер виски, еще гудящие от принятых натощак бордоского и коньяка, вспомнил все события вчерашнего (он же одновременно и позавчерашний) дня, и единственное, чего ему после все этого захотелось, так это выругаться. Но даже ругательство не вылетело из его рта, но только характерный аромат застоявшейся отрыжки.
Вставать не хотелось. И все-таки он заставил себя подняться с дивана. Не сразу, с некоторой внутренней борьбой, с уговорами на раз-два-три, но заставил.
Вяло спустил с дивана ноги и еле нащупал шлепанцы, сброшенные вчера кое-как по причине алкогольного дурмана. Затем встал и, не потянувшись, отправился в совмещенный санузел.
Там он надолго не задержался. Исполнил свои надобности, без особого старания и внимания почистил зубы, провел гребнем по волосам.
Стало чуть лучше. По крайней мере, привкус отрыжки пропал. Теперь надо было влить в себя кофе и впихнуть что-нибудь посущественнее, типа бутерброда.
И хотя он прекрасно знал, что может организовать это все по-быстрому и в лучшем качестве, не прибегая к действиям, а одною лишь силой мысли, его почему-то от мысли об этой силе (даже тут не обошелся без игры слов!) сразу начало подташнивать.
– Нет уж, дудки! – огрызнулся он в пространство. – Довольно с меня этих фокусов! Бутерброд буду делать руками! Вот этими самыми!
И выставив руки вперед, словно приступая к дрессировке хищного зверя, он ринулся на кухню.
По пути, пробегая мимо компьютера, который, как и прежде, находился на воображаемом пересечении салона и кухни (на воображаемом, потому что, как известно, на самом деле никаких особых линий там не проходило и, вероятно, сторонний наблюдатель, окажись он внезапно тут, поделил бы окружившее его пространство иначе), писатель погрозил ему пальцем.
Компьютер, правда, никак не отреагировал, ибо еще спал. То есть находился в режиме, когда для того, чтобы он ожил под чуткими пальцами и осветился приветственной улыбкой единомышленника, достаточно нажать всего на пару кнопок.
Только вот писатель его больше единомышленником не считал. Наоборот, считал его врагом, змеей, притаившейся в собственном его ботинке и не пожалеющей, в случае его невинной попытки обуться, коварно расстаться с порцией смертельного яда.
Если честно, компьютеру было за что мстить своему господину, ибо писать писатель больше не намеревался. Никогда.
Его тошнило от собственных сюжетов. От того, что он уже успел написать и издать, и от того, что еще смутным облаком клубилось где-то в недрах его сознания и готовилось излиться тем, что сейчас ему представлялось не больше и не меньше как зловонным потоком словесного хлама.
Его подташнивало и физически, и он вдруг с отвращением взглянул на почти уже готовый бутерброд, который все это время как заведенные готовили его руки. Те самые руки, которые он пять минут назад противопоставил ненавистной и тлетворной силе собственной мысли.
Но есть было надо, да и чайник как раз закипел, оглашая кухню своим привычным уютным свистом.
Но писателю, которого сегодня все вводило в глубокую меланхолию, на этот раз знакомый звук вовсе не показался уютным и умиротворяющим, как обычно. Напротив, для него голос запыхавшегося чайника оказался сигналом, пробуждающим оголтелую мизантропию.
Ему представилось, как в миллионах кухонь разнообразных квартирок, квартир, вилл, особняков и поместий устраивают утреннюю перекличку миллионы чайников: стальных, пластмассовых, никелированных, стеклянных, всех цветов и всевозможных форм, самых дешевых и дизайнерских, навороченных, пол-литровых и двухлитровых, пищащих особой чайниковой колоратурой и гудящих сочным бурлящим басом.
Они – эти чайники – жалкие поделки не менее жалких людишек. Но именно они – реальные хозяева бытия.
Это не мы сознательным волевым усилием наполняем их свежей водой из крана, фильтра или бутылки. Это они гипнотизируют нас и в своей алчности безжалостно пробуждают в нас заранее запрограммированный волевой импульс.
Без них, серых кардиналов человеческих будней, трансформаторов, переплавляющих утра в дни, заправочных станций наших душ и наших выделительных систем – давно уже невозможно нормальное функционирование ни одного человеческого индивида, ни одной мало-мальски пристойной особи.
Эти отродья созданной человеками новой механической популяции, эти вырожденцы истинного прогресса держат нас в своей власти, а потом великодушно передают под опеку других хищных своих собратьев: электробритв, тостеров, микроволновых печей, компьютеров, турникетов метро, фотокамер и прочих и прочих чудовищ.
И вот ужас – невозможно не признать, что в повадках всей этой закабалившей нас грозной своры гораздо больше логики, чем в наших, человеческих повадках!
Совершенно очевидно, что будет с чайником, если заполнить его водой и нажать на кнопку.
Каждому идиоту ясно, как отреагирует компьютер на нажатие той или иной клавиши.
Ребенок, и тот безо всякого сомнения будет ждать, когда щелкнувший фотоаппарат отрыгнет ему не птичку, а его же изображение.
Но наши поступки, поступки мнимых хозяев своей вонючей планеты, не-пред-ска-зу-е-мы!
Они лишены всякого конечного смысла.
Они суетны и бездарны.
Они пошлы и откровенно вредны.
Они безвкусны и бездумны.
Они грубы и отвратительны.
Они…
Писатель задыхался в своем припадке.
Он, который всю жизнь уважал людей и старался все делать так, чтобы и они отвечали ему взаимностью…
Он, который был готов безотлагательно придти на помощь человеку, собаке или раненому дрозду…
Он, который когда-то глупо мечтал своими смехотворными (тут он расхохотался) строками сослужить службу человечеству, заставить ничтожных (он расхохотался еще пуще) людишек смеяться, плакать и становиться чище и лучше…
Писателя просто душила, разрывала изнутри слепая неистовая ненависть. Она брызгала из его глаз жгучими, как кислота, слезами. Она щипала носоглотку, изжогою терзала пищевод. Она торжествовала в нем и отплясывала бесстыдную пляску победы. И под ее острыми каблуками корячилась охрипшая от собственных бессильных никому не слышных криков писательская совесть.
В два присеста, а еще точнее, в три укуса писатель покончил с не менее ненавистным, чем все человечество, неудавшимся бутербродом, залил его недоразмешанным кофе и затих.
Ему больше ничего не хотелось.
Ему больше ни о чем не мечталось.
Ему больше ничего не моглось.
И пусть даже под самым его окном кричат беспомощные жертвы грабежа или насилия. Пусть окропляют его порог слезами и кровью. Пусть, извиваясь от голодных спазмов и брызгая слюной, умоляют о подаянии. Он ни за что и никогда не подаст никому ни руки, ни хлеба.
Пусть все оно горит огнем!
Пусть пропадает пропадом!
Он не выбирал этот мир.
Его не выбирал этот мир.
И пусть его все и навсегда оставят в покое.
Он отжил свое. Сначала отмечтал, теперь вот отненавидел. И будет!
– Будет тебе! – возмутился было давно уже не приходивший голос разума.
– Заткнись! – сказал ему писатель.
А потом бросился в постель, засунул голову под подушку и решил использовать проклятую силу мысли для одной лишь цели – приказал своему организму заснуть и не просыпаться как минимум три дня. И безо всяких сновидений.
– Безо всяких, я сказа-а-а-а-а…
21. Мертвый город
Он спал ровно три дня.
А когда проснулся, то был оглушен тишиной.
В голове его было тихо-тихо, как будто все воспоминания, все переживания и все мысли если и не умерли, то, по крайней мере, онемели.
Но еще более странным показалось писателю то глобальное онемение Вселенной, которое сразу донеслось до него с улицы.
Сначала он поразмыслил немного на эту тему и сам поразился тому факту, что тишину, оказывается, еще как можно услышать.
Потом, заинтригованный непонятным происхождением тишины, решил поглядеть в окно.
И тут же, поддаваясь и без того свойственной ему, а нынешним утром активной как никогда рефлексии, отметил про себя с отеческим пафосом заботливого доктора, что в том состоянии полного безразличия к человечеству, в котором он засыпал, наметился сдвиг. Раз в окно поглядеть захотелось, значит, желания еще не совсем покинули его изнуренное испытаниями последних дней существо.
Надо ли говорить, что он тут же сел в постели, спустил с дивана ноги, нащупал шлепанцы, затем встал, слегка потянулся и отправился в совмещенный санузел.
Там он, как обычно, надолго не задержался. Исполнил свои надобности, без особого старания и внимания почистил зубы, провел гребнем по волосам.
И опять поразился странному контрасту между порождаемыми его личными действиями звуками и абсолютным отсутствием звуков, которые вообще-то явно должны были в этот час порождаться иными жителями планеты.
Не слышалось утреннего пения птиц.
Не рычали машины.
Не гавкали собаки.
Не хлюпал слив соседского санузла.
Нигде не звонил телефон.
Не хлопала дверь подъезда.
Не шуршал и не скрипел тяжелыми дверями небезызвестный лифт.
Не смеялись дети.
Не делились новостями радио– и теледикторы.
Не гремели магнитофоны.
Не гудели клаксоны.
Не кашляли старики.
Не скрябала асфальт метла дворника.
Не мяукали коты.
Не стрекотала швейная машинка живущей этажом выше соседки-портнихи.
Не раздавалось вообще ровным счетом ничего.
Писатель нервно поежился.
Ему вдруг представилось, что он оглох. Но еле слышное собственное дыхание и шарканье собственных шлепанцев его в этом тут же переубедили.
На несколько секунд он все-таки погрузился мыслью в перипетии судеб глухих людей и очень им посочувствовал. И опять же, некий психоаналитик в собственном мозгу констатировал тут же еще один позитивный факт, свидетельствующий о преодолении писателем кризиса ненависти. Если сочувствовал людям (пусть и потому только, что они глухие), значит ненависть отступила.
Впрочем, долго предаваться этим размышлениям он себе не позволил, потому что тишина уже была такой густой и тяжелой, что под ее давящим на уши гнетом невозможно было даже полноценно дышать. И писатель не медля больше ни мгновения, осуществил-таки задуманное: подошел к окну и выглянул на улицу.
То, что он там увидел, поразило его глаза не меньше, чем немота окружающего мира – его уши.
Улица была совершенно пуста.
То есть совершенно, совершенно пуста.
Пусть сверху, пусть с четвертого этажа, но сразу стало ясно, что…
Не слышалось утреннего пения птиц, потому что их нигде не было.
Не рычали машины, потому что они вовсе и не двигались по шоссе, а брошенные тут и там, казались насильственно воткнутыми в маковый пирог земли цветными неуместными монпансье.
Не гавкали собаки, потому что, похоже, они все вымерли. Не то их потравили, не то вывезли в питомники.
Не хлопала дверь подъезда, потому что никто не входил и не выходил.
Не смеялись дети, потому что они уже, наверное, стали стариками.
А старики (включая тех, в которых превратились дети) не кашляли, так как, скорее всего, все дружно впали в детство и теперь, вероятно, ходили под себя в гериатрических клиниках где-нибудь за городом.
И даже коты не мяукали, хотя куда могли подеваться эти живучие твари, даже писателю в голову не приходило.
Все это было очень страшно. Так что писатель даже пожалел, что проснулся. И что засыпал, он пожалел. Ведь, вероятно, именно во время его длительного сна на планету напали злобные инопланетные создания и всех забрали в плен.
Или усыпили.
Или еще того хуже. Но это он уже даже ни выговорить, ни представить себе не посмел.
В любом случае, не время было бездействовать, а надо было мчаться вниз и искать зацепку к разгадке этой внезапной, невероятной, непостижимой, несносной пустоты. Он помчался.
Шлепанцы, правда, переодел.
Снизу опустевший город казался еще более зловещим, чем из окна.
Если с четвертого этажа все и так всегда казалось не совсем реальным и происходящее на улице можно было ошибочно принять за некий театр миниатюр в миниатюре, то ступая по этой самой улице, уже никак нельзя было поддаться самообману, отмахнуться от данного момента и заклеймить его словом «бред».
– Куда же все подевались? – изумился писатель. И тотчас вспомнил, как совсем недавно задавал уже подобный вопрос, правда, в отношении лишь одного пропавшего субъекта – несчастного юноши с дивана.
А вспомнив об этом, он уже не мог больше отвязаться от навязчивой мысли, что, должно быть, как и в прошлый раз, в новом таинственном исчезновении виновен он сам и никто другой.
– Но я же вроде больше ничего не менял и никак не экспериментировал! – жалобно затянул арию самооправдания писатель.
А внешний вид пустого города мрачно продолжал настаивать на своем.
И вдруг в зловещей тишине писателю явно послышались осмысленные сочетания звуков. Тишина, конечно, была гробовая. Но вместе с тем она и вопила: «Ты, ты, ты, ты…»
Кто «ты» и почему «ты», писателю и самому было слишком хорошо понятно.
А потому он что есть сил зажал уши и бросился бежать.
А пустые дома и магазины, пустые автомобили и велосипеды, набитые, а потому еще более ярко свидетельствующие о всеобщем опустошении, кое-как брошенные продуктовые сумки, деловые портфели и детские ранцы, пустынные улицы и сухие горлышки кем-то еще совсем недавно опустошенных бутылок – проносились мимо со скоростью его бега и указывали на него гневными перстами своих частных страданий.
И все повторяли: «Ты, ты, ты, ты…»
Писатель развернулся и помчался домой.
И страшно было ему слышать быстрый топот собственных ботинок. И быстрые удары собственного пульса. И быстрые хлопки ветра о взмокшую спину.
Потому что, оказывается, нет ничего более страшного для человека, чем слышать и видеть одного только себя.
Дома он не успокоился и продолжал метаться.
И не с кем было посоветоваться и некому задать вопрос.
– А интернет-то хоть действует? – с затаенной надеждой спросил писатель у невидимого системного администратора опустошенного мира.
Ответ он получил мгновенно, заглянув в компьютер, на котором поклялся больше ничего никогда не писать. Интернет действовал. И клятву свою писателю пришлось нарушить.
А чтобы интернет не сыграл с ним ту же злую шутку, что и в случае с дроздом, писатель тут же дал другую клятву: остановить свою активную, воздействующую на мир мысль и задействовать одну лишь мысль пассивную, воспринимающую.
Затем он ввел в окне поиска несколько ключевых словосочетаний, вроде: «город опустошен», «все исчезли», «все погибли», «глобальная катастрофа».
В одном из открывшихся в результате этого поиска окон обнаружился текст, который однажды уже сослужил писателю не то добрую, не то провокативную службу.
Это было Пятикнижие. Но если раньше писатель концентрировал свое внимание лишь на начале первой его главы, то теперь на экране компьютера появилась та же глава, но в виде самого конечного ее фрагмента. И гласил он следующее:
«И увидел Г-сподь, что велико зло человека на земле, и что вся склонность мыслей сердца его только зло во всякое время. И пожалел Г-сподь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Г-сподь: истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до гадов и до птиц небесных, ибо Я раскаялся, что создал их».
Писатель отпрянул в ужасе, ибо его осенило.
– Я, я, точно я. Это же я кричал в своем припадке бешенства, что поступки людей лишены всякого конечного смысла. Что они суетны и бездарны. Что они пошлы и откровенно вредны. Что они безвкусны и бездумны. Что они грубы и отвратительны. И что я их всех ненавижу. Я – демиург – невольно покарал их.
Он заплакал. Ему стало жаль того мира, который он совсем еще недавно так люто ненавидел. И который он, как напалмом, выжег своею ненавистью.
Его надо было восстанавливать, ибо пустой город был невыносим. Как невыносима вообще пустота как таковая для всякого, кто может и умеет творить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































