Текст книги "Мария Кюри"
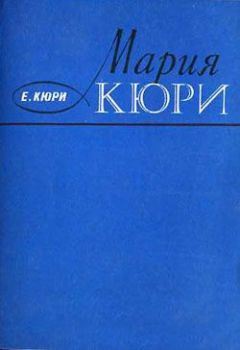
Автор книги: Ева Кюри
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
«Милый Пьер, я спала довольно хорошо и встала сравнительно спокойной. Но едва прошло каких-нибудь четверть часа, и я опять готова выть как дикий зверь».
14 мая:
«Миленький Пьер, мне бы хотелось сказать тебе, что расцвел альпийский ракитник и начинают цвести глицинии, ирисы, боярышник – все это порадовало бы тебя.
Хочу сказать также и о том, что меня назначили на твою кафедру и что нашлись идиоты, которые меня поздравили.
Хочу сказать тебе, что мне уже не любы ни солнце, ни цветы – их вид причиняет мне страдание, я лучше чувствую себя в пасмурную погоду, такую, какая была в день твоей смерти, и если я не возненавидела ясную погоду, то лишь потоку, что она нужна детям».
22 мая:
«Работаю в лаборатории целыми днями – единственное, что я в состоянии делать. Там мне лучше, чем где-либо. Я не представляю, что могло бы порадовать меня лично, кроме, может быть, научной работы, да и то нет; ведь если бы я в ней преуспела, мне было бы невыносимо, что ты этого не знаешь».
10 июня:
«Все мрачно. Житейские заботы не дают мне даже времени спокойно думать о моем Пьере».
* * *
Жак Кюри и Юзеф Склодовский уехали из Парижа. Вскоре и Броня должна ехать к мужу в их Закопанский санаторий. В один из последних вечеров, оставшихся у двух сестер, чтобы побыть вместе, Мари тащит Броню к себе в спальню и, несмотря на летнюю жару, разжигает в камине поленья. Запирает дверь на ключ. Удивленная Броня вопросительно всматривается в лицо Мари. Оно еще бледнее, бескровнее, чем обычно. Не говоря ни слова, Мари вытаскивает из шкафа завернутый в непромокаемую бумагу объемистый жесткий узел, потом садится к огню и делает знак сестре сесть рядом. Еще раньше она положила на камин большие ножницы.
– Броня, – говорит она шепотом, – ты должна мне помочь.
Не спеша Мари разрезает бечевку, снимает бумагу. Пламя золотит ее дрожащие руки. Показывается сверток, старательно обернутый простыней. С минуту Мари колеблется, потом развертывает белую материю, и Броня едва удерживается от крика ужаса: в простыне лежит отвратительная куча смятой одежды, белья вперемешку с засохшей грязью и запекшейся кровью. Уже много дней Мари хранила у себя предметы одежды, в которую был одет Пьер в тот день, когда фура наехала на него на улице Дофины.
Вдова Пьера берет ножницы и начинает разрезать на Куски темный пиджак. Бросает их один за другим в огонь, смотрит, как они морщатся, дымятся, загораются и исчезают. Но вдруг она останавливается, тщетно борется со слезами, застилающими ее усталые глаза. В полусклеившихся складках ткани показываются кусочки какой-то влажной, липкой массы: последние частицы мозга, в котором несколько недель тому назад рождались благородные мысли и гениальные идеи.
Мари смотрит застывшим взглядом на жалкие останки, касается их рукой, с отчаянием целует, но Броня вырывает у нее одежду, отнимает ножницы, сама принимается резать все на куски и бросать в огонь. Делает это молча, без единого слова. Наконец, все закончено. Бумага, простыня, полотенце, которым обе сестры вытирали руки, становятся добычей пламени.
– Я не могла бы перенести, чтобы чужие, равнодушные руки коснулись всего этого, – наконец произносит Мари сдавленным голосом. Затем, подойдя к Броне, спрашивает:
– Теперь скажи, как мне жить. Я чувствую, что должна жить, но как это сделать? Как мне быть?
И тут же, сокрушенная ужасным припадком рыданий, слез, икоты, Мари падает на грудь Брони, которая поддерживает ее, старается утешить, в конце концов раздевает и укладывает в постель это совсем обессиленное существо.
На следующий день Мари вновь становится тем холодным автоматом, который топчется на месте с 19 апреля. Все тот же автомат целует Броню, когда та садится в поезд, отходящий в Польшу. Еще долго будет ее преследовать образ Мари в траурной вуали, стоящей неподвижно на перроне.
Нечто вроде «нормальной жизни» водворяется во флигеле, где все до такой степени насыщено памятью о Пьере, что в определенные вечера при звонке парадной двери у Мари на четверть секунды возникает безумная мысль, не была ли катастрофа только дурным сном и не войдет ли сейчас Пьер. Юные и старые лица, окружающие Мари, выражают ожидание чего-то. От нее ждут планов, предложений на будущее. Эта тридцативосьмилетняя измученная горем женщина оказалась теперь главой семьи.
И она принимает несколько решений: остаться на все лето в Париже, чтобы работать в лаборатории и подготовить курс физики, который ей придется начать в ноябре. Ее курс должен быть достоин курса, читанного Пьером Кюри. Мари собирает все его тетради, книги, сводит вместе заметки, оставшиеся после ученого.
В течение этих мрачных для нее каникул дети резвятся на чистом воздухе. Ева в Сен-Реми-де-Шеврез у своего деда, Ирен на морском берегу с другой сестрой Мари – Элей Шалай, приехавшей помочь сестре и провести лето во Франции. Осенью, чувствуя себя не в силах оставаться на бульваре Келлермана, Мари начинает подыскивать новую квартиру. Ей хочется обосноваться в Со, где жил Пьер, когда она с ним встретилась и где он покоится теперь.
Когда встал вопрос о переезде, доктор Кюри, может быть, впервые оробев, сказал своей невестке:
– Мари, теперь, когда нет Пьера, у вас нет никакой причины жить со стариком. Я вполне могу оставить вас и жить один или у старшего сына. Решайте!
– Нет, решайте вы!.. – говорит Мари. – Ваш отъезд огорчит меня. Но вы должны сами решить, что для вас лучше…
Голос ее звучит тоскливо. Неужели ей предстоит утратить и этого друга, этого верного товарища ее жизни? Будет естественно, если доктор Кюри предпочтет жить у Жака, а не оставаться с ней – иностранкой, полькой. Но тотчас слышится желанный ей ответ:
– Мари, для меня лучше остаться с вами, и навсегда.
Он добавляет: «Если вы согласны» – фразу, проникнутую скрытым волнением, в котором ему не хочется признаться. И, быстро повернувшись, уходит в сад, куда его зовут радостные крики Ирен.
Вдова, семидесятилетний старик, девочка и малышка – вот теперешний состав семьи Кюри.
* * *
«Мадам Кюри, вдова известного ученого, назначенная профессором на кафедру, которую занимал ее муж в Сорбонне, прочтет свою первую лекцию 5 ноября 1906 года в половине второго пополудни…
В этой вводной лекции мадам Кюри изложит теорию ионизации газов и рассмотрит вопрос о радиоактивности.
Мадам Кюри будет читать лекции в лекционном амфитеатре. В нем около ста двадцати мест, из них большую часть займут студенты. Публике и представителям печати, тоже имеющим некоторые права, придется делить между собой самое большее двадцать мест! Ввиду этого события – единственного в истории Сорбонны – нельзя ли изменить существующие правила и предоставить мадам Кюри, только для первой лекции, большой амфитеатр?»
Эти отрывки из тогдашних газет отражают тот интерес и го нетерпение, с которыми Париж ждал первого публичного появления «знаменитой вдовы». Репортеры, светские люди, хорошенькие женщины, артисты, осаждающие секретариат факультета естествознания и негодующие на то, что им не дали пригласительных билетов, руководствовались вовсе не сочувствием и не стремлением к образованию. Им было очень мало дела до «теории ионизации газов», и страдание Мари в этот жестокий для нее день представлялось их любопытству только как новая пикантность. Даже у скорби бывают свои снобы!
Первый раз в Сорбонне будет выступать женщина, одновременно и талантливый ученый, и безутешная вдова. Вот что влечет любителей премьер, непременное общество «больших дней».
В полдень, когда Мари еще стоит у могилы на кладбище в Со и разговаривает шепотом с тем, кому она наследует сегодня, толпа уже до отказа заполнила маленький ступенчатый амфитеатр факультета естествознания и растянулась до площади Сорбонны. В самой аудитории перемешались полные невежды с крупными учеными, близкие друзья Мари с чужими. В самое незавидное положение попали настоящие студенты, которые пришли слушать лекцию, записывать, а должны цепляться за свои скамейки, чтобы их не вытеснили посторонние.
Час двадцать пять минут. Рокот голосов нарастает. Все шепчутся, перекидываются вопросами, вытягивают шеи, чтобы ничего не упустить при входе Мари в амфитеатр. У всех одна мысль: с чего начнет новый профессор, единственная женщина, когда-либо допущенная Сорбонной в среду своих ученых? Станет ли она благодарить министра просвещения, благодарить университет? Будет ли говорить о Пьере Кюри? Разумеется, да: обычай требует произнести хвалебную речь в адрес предшественника. Но в данном случае предшественник – муж, товарищ по работе. Какое «казусное» положение! Минута животрепещущая, единственная в своем роде…
Половина второго. Дверь в глубине аудитории отворяется, и под шквал аплодисментов мадам Кюри подходит к кафедре. Она делает кивок головой – этот сухой жест должен означать приветствие. Мари стоит, крепко сжав руками край длинного стола, уставленного приборами, и ждет конца оваций, Они сразу обрываются: перед этой бледной женщиной, которая пытается придать своему лицу соответствующее выражение, какое-то неведомое волнующее чувство заставляет умолкнуть эту толпу, пришедшую полюбоваться зрелищем.
Глядя прямо перед собой, Мари произносит:
«Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой за последние десять лет, невольно поражаешься тем сдвигом, какой произошел в наших понятиях об электричестве и о материи…»
Мадам Кюри начала свой курс точно с той фразы, на которой его оставил Пьер Кюри.
Что трогательного могут заключать в себе эти холодные слова: «Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой…») Но слезы навертываются на глаза и текут по лицам.
Тем же ровным, почти монотонным голосом ученая доводит до конца сегодняшнюю лекцию. Говорит о новых теориях природы электричества, о ядерном распаде, о радиоактивных элементах. Не понижая тона, она доводит до конца сухое изложение темы и уходит в маленькую дверь так же быстро, как вошла.
Часть третья
Одна
Нас удивляла Мари в ту пору, когда благодаря поддержке такого талантливого ученого, как ее муж, ей удавалось одновременно и вести дом, и выполнять серьезную научную работу. Нам казалось, что более трудной жизни и большего напряжения сил нельзя себе представить, но все это оказалось пустяком по сравнению с тем, что ждало ее впереди. Обязанности «вдовы Кюри» испугали бы человека даже крепкого, мужественного, счастливого.
Она должна и воспитывать маленьких детей, и зарабатывать на жизнь, и с блеском носить звание профессора. Она должна, уже не имея могучей научной опоры в лице Пьера Кюри, продолжать работы, начатые совместно с ним, сама давать все указания, советы ассистентам и студентам и, наконец, осуществить важную миссию: создать лабораторию, достойную обманутых надежд Пьера, такую, где молодые исследователи смогут развивать новую науку о радиоактивности.
* * *
Первой заботой Мари было создание нормальных условий жизни для своих дочерей и свекра. В Со на Железнодорожной улице она снимает дом № 6. Дом неказистый, но его красит уютный сад. Доктор Кюри занимает в доме отдельное крыло. Ирен, к своей радости, получает во владение клочок земли, на котором имеет право сажать что ей угодно. Ева под надзором гувернантки разыскивает в густой траве лужайки любимую черепаху и бегает по узеньким песчаным дорожкам то за черной, то за тигровой кошкой.
За все это мадам Кюри расплачивается лишней тратой сил: получасом езды поездом до лаборатории. Каждое утро можно видеть, как она идет на станцию красивым быстрым шагом, точно стараясь неутомимым ходом наверстать опоздание куда-то. Эта женщина в глубоком трауре неизменно садится в один и тот же поезд, в одно и то же отделение второго класса и вскоре становится знакомою фигурой для пассажиров на этой линии.
Мари редко успевает вернуться к завтраку в Со. Она вновь заводит знакомство с молочными Латинского квартала, куда захаживала в былые времена, как и теперь, одна, но молодая, преисполненная какой-то неосознанной надежды. Или же, расхаживая взад и вперед по лаборатории, она закусывает хлебцем, фруктами.
По вечерам, иногда очень поздно, Мари опять садится в поезд и возвращается к себе, в светящийся огнями дом. Зимой она первым делом обследует большую печь в передней, подбрасывает угля и регулирует тягу. В ее голове прочно засела мысль, что никто в мире, кроме нее, не способен хорошо развести огонь, и правда, она умеет артистически, как химик, распределить бумагу, щепки, положить сверху уголь или дрова. Когда печь начинает как следует гудеть, Мари ложится на диван и отдыхает от изнурительного дня.
Она слишком скрытна, чтобы показывать свое горе, никогда не плачет на людях, не хочет быть предметом жалости и утешений. Никому не поверяет ни своих приступов отчаяния, ни страшных кошмаров, которые мучают ее по ночам. Но близкие с тревогой замечают ее потухший взгляд, все время устремленный куда-то в пустоту, ее руки с признаками тика: нервные, воспаленные ожогами радия пальцы беспрестанно трутся друг о друга.
Бывают моменты, когда физические силы вдруг изменяют ей. Одно из первых моих детских воспоминаний – это образ матери в ту минуту, когда она, потеряв сознание, упала на пол в столовой, ее бледность, неподвижность.
Мари – своей подруге детства Казе, 12 декабря 1906 года:
«Дорогая Казя,
я не могла принять рекомендованного тобой К. В тот день, когда он заходил, мне очень нездоровилось, что бывает со мной часто, а кроме того, мне предстояло на следующий день много ходить по делам. Мой свекор-врач запретил мне принимать кого-либо, зная, что разговоры меня сильно утомляют.
А в остальном, что тебе сказать? Моя жизнь до такой степени разбита, что уже больше не устроится. Думаю, что так и будет впредь, и я не стану пытаться жить по-другому. Я хочу как можно лучше воспитать моих дочерей, но они не могут пробудить во мне жизнь. Обе они славные, милые и довольно хорошенькие. Я прилагаю все усилия к тому, чтобы они выросли крепкими, здоровыми. Глядя на младшую, я думаю, что они обе станут совсем взрослыми только лет через двадцать. Сомневаюсь, чтобы я дожила до этого времени, так как жизнь моя утомительна, да и горе подтачивает силы и здоровье.
В денежном отношении я не испытываю затруднений: я зарабатываю достаточно, чтобы воспитывать детей, хотя, конечно, мое материальное положение гораздо скромнее, чем было при жизни мужа».
В эти скорбные для Мари годы два человека становятся ее помощниками. Это Мария Каменская, свояченица Юзефа Склодовского, которая по настоянию Брони приняла на себя обязанности гувернантки и домоправительницы в семье Кюри. Ее присутствие частично внесло в жизнь Мари тот польский дух, которого недоставало ей вдали от родины. Впоследствии, когда пани Каменская по состоянию здоровья будет вынуждена вернуться в Варшаву, другие гувернантки-польки, хотя и не такие надежные и не такие очаровательные, как она, заменят ее при Еве и Ирен.
Другим и самым ценным союзником Мари был доктор Кюри. Смерть Пьера стала и для него тяжким испытанием. Но старик черпает, в своем строгом рационализме известную долю мужества, на что Мари оказалась неспособна. Он не признает бесплодных сожалений и поклонения могилам. После погребения он ни разу не ходил на кладбище. Раз от Пьера не осталось ничего, старик не хочет мучить себя призраком.
Его стоическая безмятежность действует благотворно на Мари. В присутствии свекра, считающего нужным вести нормальный образ жизни, говорить, смеяться, ей стыдно за свою тупость, вызванную горем. И она старается придать лицу выражение спокойствия.
Общество доктора Кюри, приятное для Мари, было отрадой и для ее дочерей. Не будь этого старика с голубыми глазами, детство девочек заглохло бы в атмосфере траурного настроения. При матери, вечно отсутствующей, занятой в лаборатории, название которой прожужжало им все уши, старик является для девочек товарищем в их играх и наставником гораздо больше, чем мать. Ева была слишком мала, чтобы между ним и ею возникла настоящая близость, но он становится незаменимым другом Ирен, медлительного и замкнутого ребенка, так похожего характером на его погибшего сына.
Он не только преподает Ирен начальные сведения по естественной истории, ботанике, передает ей свое восхищение Виктором Гюго, пишет ей летом письма, разумные, поучительные и забавные, в которых отражается и его насмешливое остроумие, и изящный стиль, но и дает всему ее умственному развитию определенное направление. Духовная уравновешенность Ирен Жолио-Кюри, ее отвращение к унынию, ее непререкаемая любовь к реальному, ее антиклерикализм, даже ее политические симпатии пришли прямым путем от ее деда по отцу.
Мадам Кюри окружает этого замечательного старика теплой, нежной заботой. В 1909 году, заболев воспалением легких, он пролежал в постели целый год, и Мари проводит все свободные минуты у изголовья трудного, нетерпеливого больного, стараясь его развлечь.
25 февраля 1910 года он умирает. На оголенном зимой промерзшем кладбище в Со Мари требует от могильщиков выполнить необычную для них работу – вынуть из могилы гроб Пьера. На дно могилы ставят гроб доктора Кюри, а на него опускают гроб Пьера. Не желая расставаться с мужем после своей смерти, Мари велит оставить место для себя и долго, бесстрашно смотрит в эту пустоту.
* * *
Теперь воспитание Ирен и Евы перешло в руки самой Мари. О воспитании детей у нее были свои установившиеся представления, которые и проводились менявшимися гувернантками более или менее удачно.
Каждый день начинается часом умственной и ручной работы, которую Мари старается делать привлекательной. Она ревностно следит за каждым пробуждением способностей у дочерей и заносит в свою серую тетрадь успехи Ирен в арифметике или раннее проявление музыкальности у Евы.
Как только кончаются занятия на данный день, девочек отправляют гулять. В любую погоду они совершают прогулки и выполняют физические упражнения. В саду, у себя в Со, Мари велит построить портик, где вешают трапецию, кольца и канат для лазания. Поупражнявшись дома, обе девочки станут рьяными ученицами гимнастической школы, где завоюют первые призы в упражнениях на снарядах.
Их руки, все части тела постоянно укрепляются. Девочки работают в саду, готовят еду, шьют. Мари, как бы ни устала, сопровождает их в прогулках на велосипедах. Летом она вместе с ними погружается в морские волны и следит за их успехами в плавании.
Мари нельзя надолго покидать Париж, и Ирен с Евой проводят большую часть летних каникул под наблюдением Эли Шалай. Вместе со своими двоюродными сестрами они резвятся в каком-нибудь малолюдном месте на побережье Ла-Манша или Атлантического океана. В 1911 году первое путешествие в Польшу, где Броня устраивает их у себя в Закопанском санатории. Девочки учатся ездить верхом, уходят на несколько дней в горы, останавливаются в домиках гуралей. С рюкзаком за плечами, в подбитых гвоздями ботинках Мари шествует впереди по горным тропам.
Она не позволяет дочерям заниматься акробатикой, выполнять рискованные упражнения, но хочет развить в них смелость. Она не терпит, чтобы Ирен и Ева боялись темноты, чтобы они во время грозы прятали головы под подушки, чтобы они боялись воров или заразных болезней. Когда-то эти страхи были знакомы самой Мари: она избавит от них своих дочерей. Даже воспоминание о несчастном случае с Пьером не сделало ее боязливой воспитательницей. Девочки в раннем возрасте, одиннадцати-двенадцати лет, выходят из дому одни. А вскоре они станут и путешествовать без провожатых.
Здоровый дух не менее близок сердцу Мари. Она всячески старается предохранить дочерей от тоскливых мыслей, от чрезмерной чувствительности. Она приняла своеобразное решение: никогда нФ говорить осиротевшим детям об их отце. В подобном решении сказалось то, что она просто физически не могла затрагивать эту тему. До конца своей жизни Мари с громадным трудом произносит слова «Пьер» или «Пьер Кюри», «твой отец» или «мой муж» и в разговорах прибегает к невероятным ухищрениям, стараясь обойти определенные островки своих воспоминаний. Она не мыслит свое молчание о муже преступным в отношении детей. По ее мнению, лучше не вызывать в них, да и в самой себе, волнующих благородных чувств, чем создавать вокруг детей трагическую атмосферу.
Не создавая у себя в доме культа погибшего ученого, она не развивала и культа мученицы Польши.
Мари хочется, чтобы Ирен и Ева выучились польскому языку, чтобы они знали и любили ее родину. Но решительно делает из них француженок. Ах! Только бы они не чувствовали мучительного раздвоения между двумя отечествами.
Девочек не крестили и не воспитывали в благочестии. Мари сознавала свою неспособность преподать им догмы, в которые сама уже не верит. В особенности она не хочет для них той боли, какую сама перенесла, потеряв веру. Тут не было никакого антирелигиозного убеждения: Мари отличалась полной терпимостью; и не один раз будет говорить своим детям, что, если у них явится потребность в какой-нибудь религии, она предоставит им полную свободу. Ее радует, что девочки не знают ни скудного детства, ни трудного отрочества, ни убогой юности, какие выпали на ее долю. Несколько раз ей представлялся случай обеспечить Ирен и Еву крупным состоянием. Мари не сделала этого. Став вдовой, ей надо было решить вопрос о применении этого грамма радия, который Пьер и она добыли своими руками и который является ее собственностью. Вопреки мнению доктора Кюри и нескольких членов семейного совета, она решает подарить лаборатории эту драгоценную частицу радия, стоящую свыше миллиона франков золотом.
По ее понятию, если быть бедным неприятно, то быть очень богатым и ненужно, и обидно для других. То, что ее дочерям придется самим зарабатывать себе на жизнь, представляется ей и здоровым, и естественным.
В тщательно разработанной Мари программе воспитания своих дочерей есть один пробел, а именно воспитание в узком смысле слова, я имею в виду обучение хорошим манерам. В семье, носящей траур, бывают гостями– только самые близкие друзья: Андре Дебьерн, Перрены, Шаванны… Кроме этих любящих и всепрощающих друзей Ирен и Ева не видят никого. Ирен при встрече с чужими впадает в панику и упорно отказывается произносить «добрый день». Окончательно отделаться от этой привычки ей не удастся никогда.
Улыбаться, быть милыми, ездить в гости, принимать у себя, говорить комплименты, вести себя согласно этикету – все это неведомо Ирен и Еве. Лет через десять – двадцать они поймут, что у общественной жизни есть свои требования, свои законы, что говорить «добрый день, мадам» – увы! – необходимо…
Когда Ирен получила свидетельство о законченном начальном образовании и достигла возраста, необходимого для поступления в коллеж, Мари решила дать дочери образование выше обычных устаревших форм.
Эту неутомимую труженицу преследует мысль о переутомлении, на которое обречены ее дети. Ей кажется варварством запирать молодые существа в плохо вентилируемые классы, отнимать у них время на бесчисленные и бесплодные часы «сидения» в школе, когда их возраст требует движения, беготни. Она пишет своей сестре Эле:
«…Иной раз у меня создается впечатление, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы».
Ей хочется, чтобы Ирен училась очень немного, но очень хорошо. Она раздумывает, советуется с друзьями – профессорами Сорбонны и такими же главами семьи, как и она. По ее почину рождается проект своего рода образовательного кооператива, где крупные ученые применят к своим детям новые методы образования.
Для десятка мальчиков и девочек открывается эра, полная возбуждающего интереса и занимательности, когда эти ребята ходят каждый день только на один урок, который им дает кто-нибудь из лучших знатоков предмета. Утром в определенный день они завладевают лабораторией в Сорбонне, где Жан Перрен преподает им химию. На следующий день маленький отряд отправляется в Фонтене-де-Роз: урок математики у Поля Ланжевена. Мадам Перрен, мадам Шаванн, профессор Мутон, скульптор Магру преподают литературу, историю, иностранные языки, естественную историю, моделирование, рисование. И, наконец, в одном из помещений Школы физики по четвергам во второй половине дня сама мадам Кюри преподает им курс физики, самый элементарный.
Ее ученики, а из них некоторые станут потом известными учеными, сохранят восторженную память об этих увлекательных уроках, об ее дружеском, милом обращении. Благодаря ей физические явления, описанные в учебниках отвлеченно, скучно, иллюстрируются живым, наглядным образом.
Шарики от велосипедных подшипников обмакивают в чернила, затем бросают на наклонную плоскость, и таким образом наглядно проверяется закон падения тел. Маятник записывает свои периодические колебания на закопченном листе бумаги. Термометр, сделанный и разделенный на градусы самими учениками, действует, к великой гордости ребят, не хуже термометров установленного образца.
Мари внушает им свою любовь к науке и влечение к труду. Передает свои методы работы. Обладая виртуозной способностью считать в уме, она заставляет своих питомцев упражняться в устном счете: «Надо добиваться делать это, никогда не ошибаясь», «залог успеха – не торопиться». Если кто-нибудь из ее учеников конструирует электрическую батарею и при этом мусорит на столе, Мари, вся вспыхнув от негодования, накидывается: «Не говори мне, что уберешь потом! Нельзя захламлять стол, когда собираешь прибор или ставишь опыт!»
Время от времени Мари давала своим любознательным ребятишкам урок простого здравого смысла.
– Как вы поступите, чтобы сохранить жидкость теплой в этом сосуде? – спрашивает Мари.
Сейчас же Франсис Перрен, Жан Ланжевен, Изабелла Шаванн, Ирен Кюри – лучшие ученики этого курса физики – предлагают различные варианты: окутать сосуд шерстью, изолировать его способами сложными… и неосуществимыми.
Мари улыбается и говорит:
– Что касается меня, то я прежде всего накрыла б его крышкой.
На этом совете домашней хозяйки и закончился урок в тот четверг.
Дверь отворяется, служанка вносит гору хлебных рожков, плиток шоколада, апельсинов для коллективной закуски.
Следя за каждым шагом Мари Кюри, газеты весело подсмеиваются над допуском (на весьма ограниченное время и под строгим наблюдением) сыновей и дочерей ученых в научные лаборатории:
«Это маленькое общество, едва умеющее читать и писать, – пишет один обозреватель, – имеет полное право пользоваться приборами, конструировать аппаратуру, проводить химические опыты… Сорбонна и дом на улице Кювье пока не взорвались, но надежда на это еще не потеряна!»
Через два года наступил конец коллективному обучению. Родители слишком перегружены собственной работой, чтобы уделять время этой затее. Детям предстоит сдача экзамена на степень бакалавра, поэтому они должны пройти установленную программу обучения. Мари выбрала для старшей дочери частную школу – Коллеж Севинье, где количество уроков значительно сокращено. В этом превосходном учебном заведении Ирен и закончит свое среднее образование, а позже здесь будет учиться Ева.
* * *
Оказались ли плодотворными эти трогательные попытки' Мари дать свободу развитию индивидуальных способностей дочерей с детства? И да, и нет. «Коллективное обучение» дало старшей дочери за счет общего гуманитарного образования высокую научную культуру, какой она не получила бы ни в одной средней школе. А нравственное воспитание? Было бы прекрасно, если бы оно могло изменить в корне природу человека, но я не думаю, чтобы благодаря нашей матери мы стали много лучше. Тем не менее некоторые достоинства укоренились в напрочно: любовь к труду в тысячу раз больше у моей сестры, чем у меня; определенное равнодушие к деньгам; инстинкт независимости, дававший нам обеим уверенность, что при любых обстоятельствах мы сумеем без посторонней помощи выйти из затруднительного положения.
Борьба с плохим настроением, успешная у Ирен, плохо удается мне. Несмотря на старания моей матери, пытавшейся помочь мне в этом, в годы моей юности я не была счастливой. Только в одном отношении Мари одержала полную победу: ее дочери обязаны ей хорошим здоровьем, физическим развитием, любовью к спорту. Вот все лучшее, чего достигла в нашем воспитании эта высокоинтеллигентная и великодушная женщина,
* * *
Не без опасения я попыталась определить те принципы, которыми руководствовалась Мари в своих первоначальных отношениях с нами. Я боюсь, что они создадут представление о ней, как о человеке методичном, сухом, педантичном. На самом деле она была совсем другой. Женщина, желавшая сделать нас неуязвимыми, сама по своей нежности, утонченности была слишком предрасположена к страданию. Та, что отучала нас быть ласковыми, несомненно, хотела бы, не признаваясь себе в этом, чтобы мы еще больше целовали и ласкали ее. Желая сделать нас «бесчувственными», Мари вся сжималась от огорчения при малейшем признаке равнодушия к ней самой. Она никогда не испытывала нашу «бесчувственность» наказаниями за шалости. «Классические» наказания в виде невинного шлепка, стояния в углу, лишения сладкого у нас не применялись. Не бывало также ни домашних сцен, ни криков: наша мать не терпела повышенного тона ни в радости, ни в гневе. Как-то раз Ирен надерзила, тогда Мари решила преподать ей урок – не разговаривала с ней в течение двух дней. И для нее, и для Ирен все это время стало тяжким испытанием, но из них двоих наказанной казалась Мари: расстроенная, она как потерянная бродила по дому и страдала больше, чем ее дочь.
Как и многие дети, мы, несомненно, были эгоистами и мало обращали внимания на оттенки чувств. Тем не менее мы замечали и обаяние, и сдержанную нежность, и скрытую любовь той, которую мы, начиная с первых наших строчек к ней, забрызганных кляксами, во всех наших коротеньких глупых письмах, хранившихся у Мари до самой смерти в пачке, перевязанной кондитерской ленточкой, называли «дорогой», «милой», «дорогой и милой» или чаще всего «милой Мэ».
Милая, очень милая Мэ, почти неслышная, говорившая с нами чуть ли не робко, не стремившаяся внушать ни страха, ни обожания к себе. Милая Мэ, которая в течение длинной череды годов нисколько не стремилась открыть нам, что она не обычная мать семейства, как прочие, и не обычный профессор, целиком погруженный в работу, а исключительное существо здесь, на земле.
Никогда Мари Кюри не старалась возбудить в нас чувство гордости ее научными успехами, ее славой. Да разве могло это прийти ей в голову, когда она при всей своей чудесной научной карьере являлась олицетворением сомнения в себе, самоотречения и скромности?
Мари Кюри – своей племяннице Ганне Шалай, 6 января 1913 года:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































