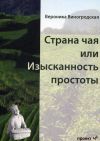Текст книги "На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной"

Автор книги: Евгения Федорова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
«Логика абсурда»
Оставь надежду всяк сюда входящий.
Последний стих надписи над воротами в ад
Первое, что поражает на Лубянке, – гробовая тишина. Здание – как под воду опущенное, из-за стен не доносится ни звука, ни вздоха, ни кашля, ни шагов. Как будто и нет никого, как будто только ты одна.
Невозможно задать вопрос, невозможно получить ответ. Всякий вопрос пресекается таинственным и каким-то символическим «Тс-с-с-ссс!», которому невольно подчиняешься. Звенящая в ушах тишина нарушается раз или два в сутки странными звуками, доносящимися из глубины дворика-колодца, в который выходят окна камер. Эти странные звуки, которые так напугали меня в первую ночь…
Из приемной, где мы расстались с Марусей, меня повели куда-то длинными пустыми коридорами и не менее пустынными двориками. Оказалось, печатать пальцы и фотографироваться. В профиль, анфас. Все деловито и молча. Потом – в камеру. Мой рюкзак, мой милый Сельвинский, мои часы – увы, все было отобрано, о чем я расписалась в толстой книге.
Моя первая камера, огромная и мрачная, выкрашенная в коричневую краску, помещалась внизу, на первом этаже. Там можно было поставить по крайней мере восемь коек. Но стояла только одна – моя. И один привинченный к полу столик. И одна табуретка. И один железный бачок – для мусора, вероятно, решила я.
Два узких, но высоких окна были забраны сплошными глухими щитами, так что только сверху виднелась узкая полосочка неба. На койке были матрас и белье, тоненькая, но все же подушка. Бока у меня болели после деревянных вагонных полок, я с удовольствием растянулась на койке и почти сразу заснула.
Проснулась не то поздно вечером, не то рано утром. Определить оказалось трудно, за окнами было темно.
Проснулась от странных звуков во дворе под моими окнами. Это были шаги. Четкий военный шаг множества ног. Потом – слова команды. Что за слова – не разобрать, но – команда. И – раз, два! Сухой короткий стук!
Сердце у меня остановилось. Расстреливают! Тут, под моими окнами, Боже мой! Никто не кричит, не протестует, не молит.
Опять команда, опять печатают шаг. Так близко. Рядом. Так просто. Господи, как страшно!
Потом я догадалась: конечно же, это была всего лишь смена караула, а вовсе не расстрел! Но тогда, в ту первую ночь, как все это было страшно!
В моей двери был глазок – кругленькая дырочка, и я видела, как время от времени над ней с той стороны поднималась крышка, и к глазку приникал человеческий глаз. Сначала было как-то неловко, неудобно. Но потом привыкла. Ко всему привыкаешь. И даже приятно было знать, что все-таки ты не одна, что там, за дверью, тоже человеческое существо, хоть и безмолвное.
Утром отворяется дверь и молча ставятся половая щетка и совочек. Я догадываюсь, что надо вымести камеру. Но что же тут мести? Никакого мусора нет. Но я все-таки старательно мету, собираю горсточку пыли на совок, ссыпаю в бачок. Дверь снова открывается, совок и щетка забираются протянутой рукой.
– Пожалуйте на оправку!
Это означало – в уборную, в которой был такой же «глазок», как и в камере. Но я все равно радуюсь – человеческий голос!
Перед дверью конвойный давал кусочек бумажки.
Однажды совсем молоденький конвоир вдруг шепнул мне на ухо:
– Барышня, вы бы бачок захватили.
– Что? Какой бачок? – не поняла я.
– Тссс… – испугался конвоир (я, очевидно, спросила слишком громко) и, покраснев, добавил чуть слышно: – Да мне что… Ведь вам же нехорошо…
Тут только я догадалась, каково назначение бачка. «Оправка» происходила только утром и вечером, но мне и в голову не приходило, что можно воспользоваться этим бачком. Потом, путешествуя этапом по тюрьмам, мне довелось испытать весь ужас жизни в переполненных камерах с одной «парашей» на всех.
Дверь камеры снова открывается, и мне на стол кладут 11 папирос. Молча. Не спрашивая, курю ли я. И почему – 11?! Тут все загадочно и таинственно. Но раз дали папиросы, почему не закурить? Я же курила раньше. Если курить по одной в час – вот и 11 часов! Стучусь в дверь:
– А спички?
В ответ часовой достает из кармана спички и зажигает одну. И все молча, как немой. Дает мне прикурить. Спичек, значит, арестантам давать нельзя. Потом еще раз открывается дверь. Часовой входит, идет к окну и открывает форточку (как будто я сама не могу этого сделать!). Но через час он ее закроет. Проветривает помещение. Так положено. Тут-то, в камере, где никого нет, он уж, наверное, скажет мне, который час.
– Который час? – совсем шепотом спрашиваю я.
– Тсс!
И все же даже в стены Лубянки прорывается человечность. Открывается дверь:
– Кто здесь на «ф»?
В камере я одна, кто же еще может быть на «ф»?
– Инициалы?
– Федорова Евгения Николаевна.
– Соберитесь с вещами!
С вещами?! Да какие у меня вещи, кроме одного-единственного кожаного пальто! С вещами! Наконец-то! Боже мой, домой! А как же допрос? Ведь еще не вызывали? Ну да потом, из дома вызовут! А почему ночью?
Я спешу, одеваюсь как попало, не могу попасть в рукав пальто, а он смотрит в глазок, видит эту спешку, волнение, понимает безумную надежду. И вдруг не выдержал – пожалел. Открывается дверь, и чуть слышным шепотом часовой говорит:
– Эта камера велика для вас, барышня. В другую камеру пойдете.
Все плывет перед глазами – стол, койка, дверь. Вот как! Значит, не домой, просто в другую камеру… Я прихожу в себя. Мы идем коридором, потом поднимаемся по лестнице. Еще поднимаемся – и вдруг выходим на какой-то внутренний балкон, который идет, как хоры, по всем четырем стенам большого квадратного зала. Сверху – стеклянный потолок, вдоль хоров двери с глазками и номерами. На каждой стороне по часовому.
Одну из дверей часовой отворяет для меня. Я получила маленькую, подходящую для меня одной камеру. Все здесь новенькое, все блестит. Нежно-зеленая высокая панель, белые стены, паркетный пол, блестящая решетка, которой забран радиатор. Из него приятно тянет теплом. Ведь уже сентябрь – в Москве осень.
Если бы перенести эту комнатку туда, на нашу Скаковую, пристроить к нашим двум – очень бы неплохо получилось. Нам так не хватает лишней комнаты для детей. Окно маленькое, хотя тоже со щитком, но гораздо светлее, потому что это не на первом этаже, а на каком-то высоком. Вот и голубь прилетел и сел на щиток. Почему-то всегда около тюрьмы – голуби. Недаром и Ярошенко нарисовал их под окном с решеткой, помните?
Вот я и день живу в новой камере, и два живу, и три. А на допрос меня все не вызывают – чего же так спешили с моим арестом? Время тянется невыносимо медленно. Новые страхи – дикие, нелепые – выползают, как серые тени, из углов. Забыли?! Что, если меня просто забыли? Перепутали бумаги, потеряли, и теперь неизвестно, сколько я буду так сидеть. Может быть, месяц? Вон, Маруся в Ростове четыре сидела! Я холодею от страха. Что же будет с мамой? Столько времени нет от меня писем. А потом придет чемодан из Красной Поляны. Она с ума сойдет! И я сойду или уже схожу?! Я бросаюсь к двери, стучу, кричу:
– Почему меня не вызывают на допрос? Узнайте, сейчас же узнайте, почему меня не вызывают на допрос? Вы слышите, слышите?
За дверью полное безмолвие, как обычно, и я в отчаянии бросаюсь на койку. Но через некоторое время дверь вдруг открывается, и мне протягивают лист бумаги, чернила и ручку:
– Напишите заявление!
Я хватаю бумагу и пишу – не заявление – заклинание, страстную мольбу: вызовите меня, вызовите! Я не могу больше, я с ума схожу!
Но и на другой день меня не вызывают. В один из дней вскоре после переезда, поздно вечером, когда я уже спала или, во всяком случае, лежала, дверь открылась, и тихий бесстрастный голос сказал:
– Соберитесь на прогулку.
На прогулку! Какое счастье! Правда, жаль, что уже темно, но все-таки, может быть, я кого-нибудь увижу, что-то спрошу.
Вот мы идем по балкону, спускаемся по внутренней лестнице квадратного зала. Лестница покрыта ковром.
По бокам стоят часовые – как неживые, не шелохнутся. Все помещение залито ярким светом. Тишина. Мы выходим из зала на лестничную клетку. Конвоир нажимает кнопку, открывается лифт. Мы едем в лифте, но что за странность, как будто мы едем не вниз, а вверх? Я уже не спрашиваю, привыкла, что спрашивать бесполезно.
Приехали, выходим. Передо мной открывается узенькая дверка, вроде калитки. Меня запускают во дворик. Он совершенно пустой – кроме меня никого нет. Я – на крыше Лубянки, в маленьком дворике, обнесенном высокими железными стенами. Яркие звезды над головой, доносящиеся снизу звуки. Такие знакомые, привычные уличные звуки.
Вот на площади скрежещет, заворачивая на круг, трамвай (тогда еще были трамваи и клумба посреди Лубянской площади, где стоял Дзержинский). Вот кондуктор трезвонит изо всех сил – это кто-то перебегает дорогу под носом трамвая; вот свистит милиционер. А теперь бьют часы на Спасской башне, и я наконец узнаю, который час. Раз, два, три – не сбиться бы! – десять, одиннадцать.
Одиннадцать часов вечера, и я гуляю на крыше Лубянки. Топот ног и шум голосов внизу сливаются в неясный гул, как морской прибой.
Господи! Если сейчас на трамвай, на «восьмерку» – через 20 минут будешь дома – с мамой, с ребятами. Несколько улиц отделяет их от меня. Это же чудовищно, это же противоестественно! Как смеют меня силой удерживать здесь! Запереть на замок, как животное, как собаку! Как они смеют, за что? Что я им сделала?
И снова идут дни за днями, и снова я пишу страстные послания – кому их передают?..
«Это чудовищно, – пишу я. – Вы еще не знаете, виновна ли я, а уже наказываете так, как наказывают убийц или Бог знает каких преступников. Я сижу в одиночном заключении, одна, без книг. Каждый день – как год. Я с ума схожу, а ведь я не совершала никаких преступлений! Моя мать тоже сходит с ума от беспокойства – это же бесчеловечно!»
Нет, мои заявления все-таки куда-то передаются.
Однажды открывается дверь, и мне дают чистый лист бумаги, ручку и чернила:
– Выпишите книги.
Книги! Боже мой, какое счастье! Я спасена, я не сойду с ума!
– Сколько?
– Тсс-с-с-сс!
Ну ладно, выпишу побольше, кто знает, что у них там есть! И я начинаю писать помельче, чтобы поместилось побольше. Пишу все, что приходит на память, начиная от «Войны и мира» и «Саги о Форсайтах» до Есенина и Блока. Тороплюсь, (как бы не отобрали бумагу!). Ромен Роллан, Сервантес, Золя, Флобер, Вальтер Скотт, Марк Твен, Джек Лондон. И еще, и еще, скорей, пока лист не записан кругом. Уж что-нибудь из этого, наверное, найдется!
Проходят день, два, а книг все нет. И ко мне подступает отчаяние, опять я ни о чем не могу думать, только жду и жду – когда же?! Выкуриваю, теперь уже с наслаждением, все свои 11 папирос до обеда, хотя каждый день даю себе слово растянуть их до вечера. Я чувствую, что больше не могу, просто не могу. Остается лечь и умереть.
Но вот в один прекрасный день скрежещет мой проклятый замок, дверь открывается, и входит человек, нагруженный книгами. Он несет их осторожно, на вытянутых руках, придерживая стопку подбородком. Нет, не стопку – целую башню книг!
Первый раз за все время я заревела. Заплакала от счастья. Я готова была перецеловать каждый корешок, каждую страницу!
Дрожащими руками я перебирала их, узнавала, как старых, добрых, испытанных друзей. Я буду читать, перечитывать свое любимое, и остановившееся время, и звенящая тишина – все уйдет. А в следующий раз попробую выписать еще и журналы – «Новый мир», «Иностранную литературу».
Кстати, интересно, когда будет этот «следующий раз»? И будет ли вообще? При том неограниченном времени, которое у меня имелось для чтения, даже такая пирамида из книг не была слишком велика. Как оказалось, их меняли приблизительно каждые дней десять. Забирали, а следующие приносили через два дня. И это были тяжелые, несчастные два дня. Тянулись они просто бесконечно!
Какая прекрасная была у них библиотека! Теперь, когда я знаю, что творилось на Лубянке в 37-м, когда людям было вовсе не до книг, когда они могли молить лишь об одном – чтобы их оставили в покое, когда с ужасом ждали момента вызова на допрос, – теперь мне по-детски наивными, пустыми кажутся мои страхи, мое неистовое нетерпение. Но тогда все испытываемое мной казалось почти невозможным пределом страданий. Правда, долго пользоваться лубянской библиотекой мне не пришлось – вскоре после начала допросов в моем деле произошел совершенно неожиданный и фантастический поворот, после чего следствие мое пошло быстрым и бодрым темпом и окончилось меньше чем через два месяца.
Ночью открылась дверь, и меня спросили, кто здесь на «ф».
– Инициалы?
– Федорова Евгения Николаевна.
– Собирайтесь на допрос!
Наконец-то! Сердце бешено колотится. Я спешу одеться, мои лыжные штаны сползают – из них выдернули резинку, еще когда меня обыскивали «до нитки», перед тем как отвести в камеру. Когда я спросила обыскивавшую меня женщину: «Как же я буду без резинки?» – она ответила односложно: «Не положено».
Мы идем по бесконечному пустому коридору. Мой страж позади, я – впереди, руки назад. Заворачиваем, и снова бесконечный коридор. Все двери закрыты, везде тишина и безмолвие. Но вот конвоир говорит негромко: «Приставить ногу». Я останавливаюсь у двери, он стучит.
– Войдите!
Он пропускает меня вперед. Кивком головы следователь отпускает конвоира. Впрочем, это не следователь, а следовательница. Женщина примерно моих лет, может быть, даже немного моложе. Очень хорошенькая. Короткие волосы уложены в изящную прическу. Правильные черты лица. Нежная ухоженная кожа. Выразительные темные глаза. Губы ярко накрашены, но это ей идет. Правда, сейчас ее портит выражение какой-то брезгливости, какого-то досадного раздражения. Она чуть морщит свой хорошенький носик и с неприязнью роняет:
– Садитесь, Федорова.
Я сажусь на стул напротив нее. Нас разделяет стол. Она берет бумагу – протокол допроса – и начинает заполнять: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения…
Наконец все графы заполнены, и она довольно долго с нескрываемой неприязнью и брезгливостью смотрит на меня с таким выражением, словно ей предстоит копаться в грязном белье. Но работа есть работа, и она приступает:
– Вы знаете, за что арестованы, Федорова?
– Нет, не знаю, я уверена, что это чистое недоразумение, и я прошу, товарищ следователь, разобраться как можно скорее, у меня мать, дети, и на работе никого… – не очень связно, волнуясь и спеша, объясняю я.
– Я вам не товарищ! – резко прерывает меня следовательница. – Это у вас там, в подвале, товарищи! А я вам не товарищ!
Я обалдеваю. В каком подвале? Я же не сижу в «подвале» – моя камера высоко. И какие «товарищи», когда я сижу в одиночке? Или она не знает?!
Позже я узнаю, что она – «гражданин следователь». Все, кто не «зекá», – граждане.
– Так за что же вы арестованы, Федорова?
Ах, если бы я знала, за что! Я ждала, что это мне скажет следователь, а она спрашивает у меня! Ведь я сама себе тысячу раз задавала этот вопрос. Сама придумывала всевозможные небылицы, но ничего подходящего так и не придумала. Разговоры с Юрой Ефимовым? («Вот за такие разговоры они и были арестованы».) Нет, не может быть. Наши беседы были совершенно «домашними», скорее уж «философскими», но никак не «политическими». И кроме того, у нас же не было никакой «группы», никакой компании – все наши разговоры мы вели только вдвоем, между собой. Нет, не может быть.
Разве что «Артек»?..
– Может быть, это из-за истории с «Артеком», – неуверенно говорю я и пытаюсь рассказать ей, как все это было.
В ожидании вызова на допрос я вспоминала эту историю снова и снова во всех подробностях и теперь готова была рассказать ее следовательнице. «Артек» в те годы был уже не просто известным детским оздоровительным лагерем на Южном берегу Крыма, а символом «заботы» советской власти о детях, правда, не обо всех, а только о «лучших из лучших».
Я уже была начинающей детской писательницей и журналисткой. Несколько книжек для детей имелось в моем «багаже», и редакторы сулили мне «будущее». Может быть, так оно и случилось бы, не приди мне в голову шальная мысль написать книгу об «Артеке». Начинающей писательнице ничего не стоило получить в ЦК комсомола бумажку в «Артек» с просьбой принять меня и «создать условия», ведь каждая книга о нем – лишняя пропаганда достижений социалистического строя!
Приехала я в «Артек» весной 1934 года с моим пятилетним сынишкой Славкой и двоюродным братом Юрой Соловьевым, с которым была очень дружна (тоже будущим героем моего «дела»). Юра тогда нигде не работал и готовился к поступлению в МЭИТ. В «Артеке» меня встретили без особого энтузиазма. Предложили место в общежитии, от которого я отказалась, попросив взамен палатку. Мы с Юркой поставили ее у самого подножия Аю-Дага, на высоком скалистом берегу с кусочком каменистого пляжа.
Старшим пионервожатым – лицом в лагере, гораздо более значительным, чем директор, – в тот год в «Артеке» был некто Саша Буланов, представитель ЦК комсомола. Как потом я узнала, он сам собирался писать книгу об «Артеке», и навязавшийся «конкурент» был ему, конечно, ни к чему.
Если бы я узнала об этом раньше, возможно, у меня хватило бы ума не оставаться в «Артеке». Но к тому времени, когда мне стало это известно, я уже обжилась, уезжать не хотелось, и я решила, что даже если с книжкой ничего и не выйдет – как-никак «соперник» из ЦК комсомола, – все равно пожить тут, под крылом Аю-Дага, в собственной палатке, в терпентиновой роще куда как хорошо!
И вот однажды – событие. В «Артек» приезжает сам Молотов! В его честь на стадионе вспыхнуло разом четыре пионерских костра, и весь «Артек» продефилировал перед трибунами, показывая чудеса массовой гимнастики с обручами, цветами и факелами. Затем был дан грандиозный концерт. Молотов остался доволен. Он поднялся со своего места, и сразу воцарилась мертвая тишина.
– Пионеры и пионерки! – начал Молотов, чуть заикаясь и растягивая слова. Далее он поведал детям, какое у них радостное и счастливое детство и какое безрадостное и несчастное оно было у него самого при проклятом царизме.
Позже, когда все отряды были выстроены на линейку к вечернему спуску флага, на специально сколоченную трибунку посреди аллеи магнолий снова поднялся Молотов. Тут ему на шею под восторженный рев детей был торжественно повязан пионерский галстук и преподнесен фотоальбом «Жизнь “Артека”».
Молотов в свою очередь подарил ребятам велосипед (!), – услужливо подкаченный Сашей Булановым к самой трибунке (я по своей критиканской въедливости подумала: «Интересно, кто же удостоится чести первым прокатиться на молотовском велосипеде? Лучший из лучших? Скорее всего, это будет просто экспонат музея – ведь один велосипед на 2000 ребят вроде бы маловато»).
Тут произошла заминка. Как-то надо было закончить церемонию. Один из отрядов проскандировал:
– Ска-жи-те-нам-еще-что-ни-будь!
– Пионеры и пионерки, – снова начал Молотов, – укрепляйте ваше здоровье, ваши мускулы. Если каждый из вас прибавит хотя бы одно кило – это уже хорошо. Веселитесь, разучивайте новые песни и пляски. Если каждый из вас привезет в свой отряд хотя бы одну новую песню – это тоже хорошо.
Я запомнила эту «речь» от начала до конца, ибо именно она послужила началом разоблачения моей «антисоветской сущности». На другой день, когда я шла с судками за обедом, навстречу мне попался Саша Буланов.
– Сегодня после отбоя собрание, ты знаешь? – деловито спросил он.
– Нет. А о чем будет собрание?
– Будем прорабатывать новые установки товарища Молотова.
– Новые установки? – искренне удивилась я. – Когда же Молотов успел дать новые установки? И какие?
Саша смотрел на меня с не менее искренним удивлением:
– Ты что, на вечерней линейке не была, что ли?
– Была.
– Так не слышала, что ли?
– Того, что говорил Молотов? Слышала. Чтобы дети нагуливали килограммы и веселились. Ну и что? «Артек» десять лет существует для того, чтобы дети здесь поправлялись, пели, играли и не скучали – разве это «новые установки»?
На Сашином лице отразилась целая гамма чувств: удивление, недоумение, недоверие, подозрение и, наконец, просто страх.
– Ну, знаешь! – развел он руками, решительно повернулся и быстро пошел прочь.
На собрание я не пошла. Хотя пойти бы следовало. И уж во всяком случае нужно было припомнить один стишок, который я знала в раннем детстве:
Птичка ходит весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя впереди
Никаких последствий…
Следующим событием было прибытие в «Артек» юных «героев» – 200 ребятишек, которые изобличили своих родителей в краже колхозного добра, 200 маленьких «Павликов Морозовых»! Родителей героев отправили в тюрьму, а детей в награду за бдительность – в «Артек».
Их встречали с музыкой, и они гордо продефилировали по магнолиевой аллее между двумя рядами выстроенных отрядов.
Среди героев был мальчик Проня. Не помню его фамилию, но хорошо помню его портрет в «Пионерской правде». Это был паренек лет 13–14, довольно рослый для своего возраста, но нескладный и длинноногий, как все подростки, с лицом полуидиота. Полуоткрытый рот, сопливый нос, часто мигающие сонные глаза. Соломенные волосы торчали в разные стороны. Мальчик донес на свою мать, которая потихоньку собирала колоски на колхозном поле, чтобы как-то кормить семью. Колоски после жатвы должны были собирать пионеры и сдавать в колхозную житницу.
Мать посадили, а «героя»-сына премировали поездкой в «Артек». По дороге Проня сочинил стихи. Они были о том, как он, Проня, выследил свою мать, а затем донес на нее. Стихи были плохие, без всякого размера, с корявыми рифмами.
На первом же пионерском костре Проня их прочитал, а дети хлопали ему и скандировали: «Будем, как Проня!» На втором костре повторилось то же самое, потом – на третьем. И не было отряда, который не пригласил бы Проню на свой отрядный костер и не устроил бы оваций молодому «поэту».
Пионеры поехали на катере в Суук-Су (там был дом отдыха ВЦИКа), в гости, и там Проня тоже читал свое произведение. Взрослые дяди не кричали: «Будем, как Проня!», но усердно хлопали в ладоши и кричали «Браво!».
Чтение стихов о том, как сын предал собственную мать, и ажиотаж вокруг этого были аморальны и антипедагогичны. Я это понимала, а комсомольцы-пионервожатые, Саша Буланов в том числе, не понимали. Я все-таки была постарше, имела ли я право промолчать? Кроме того, я была писательницей, да еще к тому же детской, и своим долгом считала вмешаться.
Я вспомнила об одном удмуртском колхозе, куда попала, собирая материал для детской краеведческой книги. Молчаливые люди бросали на меня недобрые взгляды. Они принимали меня за «начальство» и угрюмо гадали, чего еще ему понадобилось. По-русски почти никто из них не говорил и не понимал.
В центре, в партийном комитете мне пожаловались, что работать в Удмуртии крайне трудно: народ тупой, невежественный, противится советскому режиму, особенно в деревне. С колхозами до сих пор неблагополучно. Мне рассказали, что наряду с правлением колхозов в деревнях зачастую продолжают существовать подпольные сходки стариков – советы старейшин, «кенеш» по-удмуртски.
Они всячески вредят государству, заставляя колхоз давать неверные сводки в район, преуменьшая надои молока и количество снесенных колхозными курами яиц. Велят зарывать в землю зерно – в общем, кенеши занимаются вредительской деятельностью. Ни аресты, ни высылки не помогают.
Тогда я ничего не написала. Я видела озлобленных, голодных, нищих людей и не сочла возможным судить, кто прав, а кто виноват. Но теперь я вспомнила об Удмуртии и решила, что это как раз прекрасный материал, чтобы дать «урок» «Артеку». Я написала рассказ. Он так и назывался – «Кенеш».
Маленький удмуртский мальчонка Гараська стал моим героем. У Гараськи было сложное положение: его отец был председателем колхоза, а дед – старейшим в кенеше. По ночам за плотно закрытыми ставнями собирались старики и толковали о том, куда припрятать зерно, каких телят прирезать и показать в сводке как павших.
Отец пытался слабо протестовать, но в конце концов соглашался и писал так, как велели старики. Гараська слушал, лежа на печи, и ужасался всем этим делам. Он даже попытался образумить отца. Поздней ночью, крепко прижавшись к широкой отцовской спине, мальчик горячо шептал ему в ухо:
– Бать, а бать, ты зачем так? Зачем их слушаешь? Нехорошо ведь…
Отец, и сам измученный своим безволием, сам не знавший, «куда податься» и на чьей стороне правда, в раздражении отколотил сына:
– Не лезь не в свое дело! Вздумали яйца курицу учить!
Мальчик долго колебался: он представлял себе, как вся деревня узнает, что его отец – вор, а он, Гараська, – сын вора! В школе его задразнят, никто не захочет играть с ним, сыном вора! А батька? Ведь он же хороший, добрый. Это все старики, он их боится, а сам – хороший и мамку жалеет. И Гараську не со зла побил, он обиды на него не держит.
А если батьку за кенеш в тюрьму посадят? Мальчик потерял сон, уроки не шли ему на ум, и огорченная Мария Васильевна ставила двойки прежде такому прилежному и хорошему ученику.
– Почему ты стал так плохо учиться, Гарась? – спрашивала она.
Вконец измученный, мальчик пришел к учительнице и все ей рассказал.
– Ну успокойся, перестань, – ласково гладила его по голове учительница. – Ты хорошо сделал, что рассказал мне. В колхозе все должно быть по-честному, по правде. Тогда и жизнь будет хорошая.
Но мальчик рыдал и не мог остановиться.
– Успокойся, с твоим отцом ничего не случится, ему разъяснят, он поймет, а кенеш разгонят. Все будет хорошо.
Старая учительница напоила Гараську сладким горячим чаем и оставила у себя ночевать. Наутро, прикрыв разметавшегося во сне мальчика лоскутным одеялом, тихонько вышла из дома и пошла в район. Это был ее долг, так она его понимала.
Когда она возвращалась домой, то увидела у реки толпу народа. Безжизненное тело Гараськи лежало на берегу. Над ним причитала мать. Испуганные ребятишки, школьные товарищи Гараськи, жались по сторонам и перешептывались: «Утоп Гараська… Утоп…»
Рассказ этот я прочла на первом же пионерском костре, куда меня пригласили. Ребята слушали внимательно, девочки вытирали покрасневшие глаза, а мальчики притихли.
– Видите, как трудно совершить подвиг? – сказала я.
Дети молчали.
На другой день, проходя лагерным парком, я заметила, что все пионервожатые, завидев меня, быстренько сворачивают в боковые аллейки. Не приходила к нам в гости и влюбленная в Юрку пионервожатая Ниночка. Это было странно. Так прошел день, другой. На третий Ниночка прибежала взволнованная, красная, со слезами на глазах. Запинаясь, она спросила:
– Вы до сих пор ничего не знаете?
Оказалось, что уже три дня как издан приказ о моем немедленном изгнании из «Артека», только никто не решался сказать мне о нем. Не сказали и на следующий день.
Наконец я сама отправилась в контору и напрямик спросила у директора: правда ли, что есть приказ?
Приказ был. Размашистым и твердым почерком в толстой книге приказов было написано, что в связи с антисоветским выступлением на пионерском костре писательнице Федоровой предлагается немедленно покинуть «Артек».
– Но позвольте, – возмутилась я. – «Кенеш» – вовсе не антисоветский рассказ! Я только показала настоящую глубину и сложность детского подвига, совершенного во имя утверждения социальной системы.
Директор молчал, как-то неопределенно поводя плечом. Наконец он сказал:
– Ведь вам известно, что политическое руководство лагерем возложено на пионервожатых. Их коллектив возглавляет Саша Буланов. Я в это не вмешиваюсь.
Тут внезапно появился и сам Саша Буланов. Я стала требовать, чтобы раньше, чем уеду, было назначено собрание пионервожатых, где я прочту свой рассказ и разъясню, как я его понимаю, если они не поймут. Пусть обсудят.
После долгих споров и увещеваний это собрание было назначено. Вожатые молча садились за стол, не глядя на меня, листали журналы или что-то записывали. Наверное, всем было не по себе и хотелось спать, но, привычные к дисциплине, они не роптали и терпеливо ждали Сашу Буланова.
Наконец явился и он. Подчеркнуто сухим и деловитым тоном объявил, что на повестке дня стоит всего лишь один вопрос: обсуждение антисоветского выступления писательницы Федоровой.
– Прежде чем называть мой рассказ «антисоветским выступлением», я хотела бы, чтобы товарищи ознакомились с его содержанием, – так я начала защиту «Кенеша».
На выступление мне было дано 15 минут. Все же я решила читать весь рассказ, считая, что невозможно говорить и судить о том, чего никто не читал. Как можно скорее (чуть ли не скороговоркой) я прочла рассказ. Но как только начала говорить о его смысле, Саша меня прервал – мое время истекло – и наступило время для «прений».
Однако никаких прений не было. Каждый выступавший слово в слово повторял то, что сказал предыдущий:
– Классовый враг, антисоветская пропаганда, вредительская деятельность, под маской писательницы пролезшая…
О рассказе словно забыли, будто и не было его вовсе. Предметом обсуждения стал не рассказ, а я – моя антисоветская психология и вредительская деятельность.
Я ушам своим не верила. Слова о моей контрреволюционной деятельности повторялись с большим азартом и ненавистью, и я с ужасом видела, что все они, эта молодежь, сама еще едва вышедшая из детского возраста, действительно искренне верит, что перед ней страшный классовый враг, которого вовремя успели разоблачить. Достаточно было того, что им на него указало «руководство», – уж оно-то не ошибается!
Они забыли про сон, про усталость, оживились, глаза их заблестели. Хотя никто не мог сказать ничего другого, кроме того, что им сообщил Саша Буланов, они щеголяли друг перед другом гневом и запальчивостью.
Я поняла, что говорить что бы то ни было бесполезно. Слова как горох отскочат от «железного занавеса», не только отгородившего нашу страну от других стран мира, но и сердца и разум этих людей от нормальных человеческих мыслей и представлений.
Я забрала свой «Кенеш» и побрела к Аю-Дагу. Луна уже поднялась высоко над морем, и ливанские кедры в артекском парке отбрасывали четкие сине-черные тени.
Мы уехали на другой день. Я тогда была членом групкома писателей и принесла туда свой злосчастный рассказ, просила прочитать и дать на него рецензию: вдруг у меня и вправду «мозги набекрень» и рассказ можно толковать как «антисоветский»?
Рассказ попал к писателю Малышкину, одному из первых советских писателей-коммунистов. Его повесть «Люди из захолустья» была довольно широко известна в 1920-х годах.
Через некоторое время я получила рецензию. К моей великой радости, она была положительной.
«Классовая борьба – не конфетка, Федорова совершенно права, – писал Малышкин, – нечего сюсюкать с детьми и “играть” в классовую борьбу. Что тяжело – то тяжело, надо уметь смотреть правде в глаза»…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?