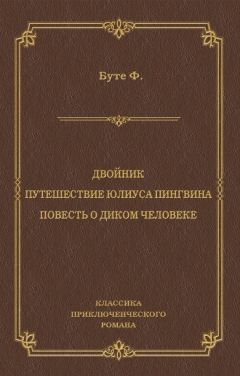
Автор книги: Фредерик Буте
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
13 июня, в тот день, когда должна была быть произведена опись, громадная толпа народа теснилась у дома № 3 на набережной Пей Чернила. Усиленный полицейский наряд стоял, опоясывая дом, ворота и двери которого были из осторожности заперты еще накануне с вечера. В начале третьего часа приехали лица, долженствующие проникнуть в квартиру. Их было восемь: господин Боров, сенатор, командир ордена Почетного легиона, бывший министр общественных работ, директор общества покровительства животных и в этом звании – ответственный владелец дома; он был во фраке с орденской лентой в петлице и украшенный всеми своими иностранными орденами; господин директор Клетка, вице-президент комитета общественной гигиены (его товарищ, господин Кус, по болезни отсутствовал); господин Баклан, судебный пристав, который должен был произвести опись, и его клерк, господин комиссар полиции Шиповник в сопровождении двух околоточных надзирателей, Андреаса и Урода; наконец, слесарь Нарыв, который в свое время обшивал железом дверь и которому было теперь поручено ее выломать. К этим официальным лицам присоединился еще журналист Варнава Кувшин, еще с вечера находившийся в комнате привратницы и получивший особое разрешение присоединиться к этой группе, чем его выделили из числа его собратьев по перу, как соотечественников, так и иностранцев, в числе ста пятидесяти восьми, путем упорных и усиленных просьб добившихся лишь позволения занять всю лестницу до десятой ступени пятого этажа включительно. Они отомстили тем, что делали фотографические снимки всех действующих лиц. Мадам Армандина Трость, привратница дома, присоединилась к этой группе благодаря своему неодолимому любопытству и протекции господина комиссара полиции Шиповника. Следует отметить отсутствие потерпевшего начальника отделения господина Вьюна. Он не захотел принять участия в этом предприятии, опасаясь, что не будет в силах сдержать ярость, которую неминуемо должен испытать человек с его положением при встрече с этой «скотиной», своим ненавистным врагом.
Когда группа этих столь различных по своему положению людей заняла площадку пятого этажа и господин Баклан, слегка позеленев в лице, постучал тростью в дверь, наступило мертвое молчание и трепетное ожидание. Ответа не последовало. Тогда выступил вперед господин комиссар полиции Шиповник, и когда он произнес торжественные слова: «Именем закона!» – наступило еще более мертвое молчание и еще более трепетное ожидание. Но ответа все-таки не последовало. Воззвание во имя закона было несколько раз повторено, но осталось без ответа. Тогда господин комиссар полиции Шиповник приказал слесарю Нарыву приступить к делу. Тот пробормотал сквозь зубы: «Я ее собственноручно ковал. А высадить ее… того… держи карман!» – и принялся за работу, не обнаружив, однако, при этом особого рвения. После бесплодной и довольно небрежной работы в продолжение трех четвертей часа он решительно и с явным удовольствием объявил, что ни он, ни другой слесарь не одолеет этой двери голыми руками и что, по его мнению, слонам не под силу ее выворотить, так как за ней толстая решетка. «Впрочем, это очень понятно! – прибавил он не без гордости. – Я ее собственноручно ковал! Работа важная!»
Тогда твердой и величественной поступью выступил вперед господин Боров и обратился к этой упорной двери с речью, в которой он говорил о справедливости законов и о милосердии судей, о гнусности открытого сопротивления и о нравственном удовлетворении при получении ордена Почетного легиона, о радостях семейной жизни, о счастье жить на свободе и в мире со всеми людьми. Он говорил красноречиво и трогательно, и многие плакали от умиления, слушая его. Но дверь не тронулась его словами и не открылась. Тогда раздосадованный этим упрямством господин Боров переменил тон. Он заговорил о силе правительства, поддержанного громадным большинством, о численности действующей армии, о пушках, о жандармах; он помянул про тюрьмы и жесткую солому, устилающую их; он подробно остановился на каторге, на большом проценте смертности на каторжных работах и на необходимости применения строгих мер. Он был страшен и внушителен, и многие дрожали от страха, слушая его. Но дверь не задрожала и не открылась.
– Прекрасно, – с величавым достоинством объявил господин Боров, – я пришел сюда, надеясь, что мой авторитет сломит это безумное сопротивление. Я вижу, что ошибся. Во мне умерла всякая снисходительность и остался только общественный деятель, обязанный поддерживать уважение к закону, и я исполню свой долг. Мы не ожидали встретить такое упорное сопротивление и потому не захватили орудий, необходимых для того, чтобы его сломить; время уже позднее, и мы удалимся, но вернемся завтра и добьемся своего.
Тогда дверь открылась. Она очень тихо приоткрылась правой своей половинкой; в узкую щель можно было видеть только полную тьму. Дверь не поддалась сильному натиску, которым хотели ее открыть совсем. Произошло некоторое замешательство: никто не изъявил желания войти. Но когда репортер английской газеты «Беспроволочный телеграф» закричал с лестницы, что желает войти немедленно и совершенно один, все двинулись вперед.
Было ровно двадцать минуть пятого. На дворе стояла чудная погода, и птички весело щебетали.
Первым вошел околоточный надзиратель Андреас, затем комиссар Шиповник, затем господин Клетка, за ними журналист Варнава Кувшин, господин сенатор Боров, привратница, Нарыв и, восьмым и последним, судебный пристав Баклан. С клерком внезапно сделалось дурно, и он был принужден поспешно удалиться на нижний этаж дома. Околоточному надзирателю Уроду было предписано стоять на площадке с четырнадцатью полицейскими и охранять дверь, лестницу и журналистов.
Итак, все вошли, а околоточный надзиратель Урод остался на площадке перед дверью; но дверь внезапно с треском захлопнулась перед самым его носом, и за ней исчезли все вошедшие в нее.
Из-за нее не слышно было ни крика, ни движения. Околоточный надзиратель Урод постучал сначала робко, затем сильнее, наконец по его приказанию двое полицейских осыпали дверь ударами своих шашек, но ответа не последовало; ничего не было видно, ничего не было слышно; вошедшие в дверь не показались, и дверь осталась запертой. Эта группа столь различных по своему положению граждан, от министра до слесаря включительно, исчезла и перестала существовать для внешнего мира. Люди, присутствовавшие при этом непонятном исчезновении, убедившись в том, что оно было бесповоротно, поняли, что мир подвергается какой-то новой эволюции, что настали новые времена, в которые возможны были подобные феномены.
Наконец журналисты, стряхнув с себя оцепенение, сковавшее их члены, и оторвав от двери неподвижно устремленные на нее глаза, сошли вниз, чтобы сообщить сенсационную новость толпе и разнести ее по всему земному шару. Впрочем, некоторые из них остались на лестнице и расположились биваком на ступеньках. Околоточный надзиратель Урод послал одного полицейского доложить о случившемся господину начальнику полиции, а сам остался караулить дверь и, честно исполняя свой долг, не подпускал к ней журналистов, впрочем, не изъявлявших ни малейшего желания к ней приблизиться.
Записная книжка господина Баклана
(Мы приводим целиком записки г. Баклана, присоединяя к ним примечания, которыми постараемся восстановить в памяти читателей происшествия внешнего мира, породившие или явившиеся следствием трагедии, происходившей внутри дома.)
Вторник, 14 июня 19…
Пишу эти строки я, судебный пристав Баклан. Они представляют правдивый рассказ всего того, что произошло с нами во владениях Дикого Человека со вчерашнего дня, 13 июня, когда мы в них вступили.
Я занимаюсь этим трудом, чтобы немного развлечься и забыть хоть на минуту ужасы моего положения, а главным образом для того, чтобы весь мир узнал, если эта рукопись не будет погребена вместе со мной в какой-нибудь ужасной катастрофе, какая судьба нас здесь постигла.
Прежде всего объявляю, что я питаю самую пламенную надежду на то, что вся нация восстанет как один человек, чтобы нас освободить, если найдут нас еще в живых, и чтобы отомстить за нас, если наша жизнь будет пресечена безвременной и ужасной гибелью. Надеюсь, что мои читатели не поставят мне в вину неудовлетворительную, быть может, литературную форму, в которую выльются эти записки, набросанные на клочке бумаги в промежутках между спазмами ужасающих умственных и нравственных страданий. Знайте же, что я пишу, будучи весь перевязан веревкой, кроме рук, и вишу за пряжку моих брюк на крюке под потолком девственного леса, если можно так выразиться. В левой руке у меня моя записная книжка, в правой – карандаш. Каждому станет ясно, что подобное положение неблагоприятно для умственного труда. К тому же ум мой мутится при воспоминании об ужасах, совершившихся на моих глазах, и от мук, которым меня подвергает удав, не говоря уж об опасностях, ежеминутно угрожающих нам.
Возвращаюсь к моему рассказу. Буду вести его с той минуты, как мы вошли в эту злополучную квартиру.
Всем известны факты, вследствие которых мы с моими товарищами по несчастью (ни один из них не избежал этого несчастья, кроме моего клерка Сидуана, сошедшего вниз под предлогом внезапного нездоровья, которое мне кажется вымышленным) собрались 13 июня 19… на площадке пятого этажа дома № 3, на набережной Пей Чернила. Мы должны были во что бы то ни стало проникнуть в квартиру именующего себя господином Дюбуа, у которого по иску господина Вьюна, начальника отделения, я должен был совершить опись. Нас было восемь человек – восемь почтенных человек общества, стоящих на различных ступенях общественной лестницы. Среди нас был господин доктор Клетка, вице-президент комитета общественной гигиены, а выше всех нас по положению стоял глубокоуважаемый господин Боров, бывший министр и известный сенатор. Когда я думаю о том, что над такими выдающимися деятелями, над такими высокоуважаемыми людьми, над официальными лицами, облеченными властью, дающей им особый высокий простор, совершилось и продолжает совершаться самое чудовищное насилие, – я недоумеваю, как наши сограждане собственными руками не разнесли уже по камням этот дом, и, право, если бы я не боялся богохульства, то усомнился бы даже в самом Провидении! Однако вернемся к нашему повествованию.
Все знают, как безрезультатны были мои удары в проклятую дверь этой ненавистной квартиры и как были бесплодны воззвания господина комиссара полиции Шиповника. После двух красноречивых речей господина сенатора Борова одна половина двери открылась; мы в этом усмотрели внимание, оказанное такому выдающемуся общественному деятелю, и признак робкого повиновения, а это оказалось самым низким и подлым предательством. Итак, дверь открылась – скорее, только приотворилась – и мы вошли гуськом. Я по своей скромности вошел восьмым и последним. За мной дверь захлопнулась с громким и зловещим шумом, послышалось какое-то сатанинское хихиканье, и не успели мы очнуться, как вдруг вокруг нас обвилось что-то, что, охватив нас поперек туловища, с невероятной силой привлекло нас друг к другу. Я инстинктивно ухватился за это нечто, стягивающее нас, и ощутил что-то толстое, круглое, холодное и чешуйчатое. Я открыл рот, чтобы крикнуть; он мгновенно наполнился какой-то мягкой и липкой массой. Поднявшиеся было крики, стоны и проклятия были также мгновенно заглушены подобным же недостойным образом. Борода господина комиссара полиции Шиповника забилась мне в ухо, под мои ребра вонзилась ручка зонта господина доктора Клетки, а полные бока привратницы Армандины Трость давили мне живот. Я задыхался, стягивающее меня вервие разрезало меня надвое, и я потерял сознание…
Когда я пришел в себя, день склонялся к вечеру. Мое изумление было беспредельно, так как я очутился на воздухе. Все мое тело, за исключением рук, было перевязано полосами материи, оторванными от фалд моего собственного сюртука, и я висел за пряжку моих брюк на крюке, очевидно предназначенном для люстры и ввинченном в какую-то плоскость, в которой я с трудом распознал потолок. Но, о боже, в каком он был виде!
Окружающая меня обстановка наполняла меня ужасом и недоумением, и я подумал, что с ума схожу или брежу, пока не вспомнил об инцидентах, вызвавших жалобу господина Вьюна. Самое необычное зрелище окружало меня и продолжает окружать и теперь, пока я пишу эти строки, и будет окружать меня, но до каких пор, о Создатель! Наконец-то я понял, в чем дело. Жилец этой квартиры, именующий себя господином Дюбуа, он же Дикий Человек, изобразил из нанятого им помещения девственный ли лес Луизианы, индийские ли джунгли, африканскую ли бруссу, австралийские ли бюиссоны – что именно, я не могу в точности определить, так как я человек мирный и религиозный, враг всяких хищных зверей и дальних путешествий.
В этом помещении, предназначенном служить приютом для добродетельного и мирного существования какой-нибудь почтенной семьи, все перегородки уничтожены, и из всех комнат составилось одно неправильной формы пространство. Пол покрыт толстым слоем земли, и на ней растут густая трава и множество растений всевозможных величин и пород. Призывая на помощь свои слабые познания в ботанике, я различил между ними, кроме общеизвестных деревьев, каковы слива, вишня, абрикосовое дерево, яблоня, лавр, апельсины, еще кокосовое дерево, магнолию, баобаб, тамаринд, бинионию, агаву, кедр и другие; все они покрыты зреющими плодами. Гиганты экваториальных лесов, ветви которых изгибаются под потолком и образуют густой свод, обвиты лианами и другими вьющимися растениями, на которых там и сям рдеют яркие венчики цветов. Под этим зеленым куполом пышно расцветают громадные папоротники, дыни, колючие кактусы, азалии, камелии, целые кусты диких роз и множество других неизвестных мне растений. По правой руке от меня из скалы вытекает источник воды, а сзади меня, в глубине помещения, где находится огород, бьет небольшой фонтан, производя музыкальные прозрачные звуки, и образует журчащий ручеек, весь заросший тростником. Теперь мне понятно, откуда берется вонючая тина, появившаяся у господина Вьюна, и я только удивляюсь тому, как процесс просачивания ее еще больше не попортил дома. А по условиям контракта эту квартиру должен был занимать почтенный и порядочный отец семейства!
В этом лесу живет масса зверей, большей частью хищных, разгуливающих на полной свободе. Ниже я остановлюсь подробно на них и на самом хозяине леса, Диком Человеке.
Все окна, кроме застекленного балкона, загорожены до половины их высоты; оставлены только две форточки в верхней их части для проветривания комнат; балкон, сверху донизу обвитый гирляндами вьющихся растений, всегда открыт настежь, так что в квартире стоит постоянный сквозняк, может быть, весьма полезный для вентиляции комнат, но который может стать роковым для людей с такой слабой грудью, как у меня. Я вишу почти на середине всей площади квартиры; золоченые, грязные и заросшие зеленью карнизы вокруг крюка указывают на то, что я занимаю место люстры в гостиной… Люстра! Не бред ли это? Люстра среди самой дикой природы, люстра там, где летают птицы, жужжат и жалят насекомые, где растения уже начинают обвивать меня, где вода шумно плещет под напором брюха гиппопотама! Я забыл сказать, что одна из комнат, самая большая, вся обитая металлическими листами и обращенная в бассейн, отдана в распоряжение одного экземпляра этих толстокожих, довольно еще молодого и очень любящего плавать. Ручеек, изливаясь в бассейн, постоянно пополняет его, а раковина кухни, то есть того помещения, которое было когда-то кухней, вбирает в себя излишек воды. Этот бассейн глубок и тинист, богат водяными растениями, весь зарос тростником и кишит разными водяными животными: крысами, змеями, котиками, черепахами, не говоря уж о саламандрах, тритонах, червях и всевозможных паразитах. Направо от меня находится дверь, ведущая из гостиной (гостиной!) в переднюю единственную комнату в квартире, оставшуюся нетронутой, где и совершилось наше пленение. Верхняя часть двери отпилена наподобие того, как это делается в хлевах, в целях вентиляции. В таком-то месте мы и живем со вчерашнего дня, если это ужасное существование можно назвать жизнью!
Теперь я перейду к самой отвратительной части моего рассказа, именно к описанию населения квартиры и участи, постигшей каждого из нас – несчастных узников, находящихся во власти безыменных чудовищ, грубых, дерзких, лишенных всякого чувства деликатности, зато одаренных жестокой изобретательностью. Позвольте подчеркнуть одно очень важное обстоятельство! Принимая во внимание чудовищность поступков Дикого Человека и отсутствие в нем всякого страха ответственности за них, само собой является предположение, что он – сумасшедший человек. Отрешитесь раз навсегда от этой мысли! Дикий Человек – не сумасшедший, объявляю это громогласно, во всеуслышание. Чтобы в этом убедиться, достаточно только взглянуть на него и поговорить с ним; одного его присутствия достаточно для того, чтобы сразу понять, что он вполне владеет своим рассудком и обладает ясным и страшным умом.
Он не сумасшедший, он только беспощаден, смягчить его нет возможности, и перед ним lasciate ogni speranza. Конечно, некоторые из нас с первых же минут нашего пленения умоляли его возвратить нам свободу, обращаясь к нему с мольбами, которые тронули бы рыкающего тигра, проливали перед ним слезы, которые смягчили бы скалу, – напрасно!
Дикий Человек, не проронив ни единого слова, простер руку и показал нам прибитую к стволу баобаба дощечку, подобную той, какая была найдена у господина Вьюна. На ней каленым железом были выжжены слова: «Воспрещается говорить! В случае ослушания будете накормлены тиной». Несмотря на это, господин Боров настаивал, грозя справедливыми репрессалиями столь жестоко оскорбленного в наших лицах общества; тогда Дикий Человек сделал жест рукой, и по его мановению одно из подвластных ему животных вдруг влепило в открытый рот почтенного сенатора ком липкой, зеленоватой, вонючей грязи. Тут-то я понял, чем заглушили наши крики в момент нашего пленения…
Возвращаюсь к своему рассказу. Дикий Человек, повторяю, не сумасшедший, я вижу его сейчас сквозь листву. Он сидит неподалеку от меня на берегу ручья; он очень худ и мускулист, носит бороду и имеет всегда саркастический, спокойный вид; курит трубку, одет очень просто, редко говорит, иногда читает книги. У его ног лежит его любимая коза. Это очень молоденькая, хорошенькая, нежная и капризная козочка, она не отходит от него ни на шаг, и он, по-видимому подобно Робинзону, питает к ней необычайную нежность.
В состав этого зверинца входят следующие животные.
1. Три или четыре существа, имеющие неопределенный человеческий облик. Иногда они ходят на двух, иногда на четырех ногах или, скорее, на четырех руках. Они черны, волосисты, шершавы, бородаты и немы и обладают изумительной силой и ловкостью. Они всей душой преданы Дикому Человеку и питают к нему необыкновенную любовь и уважение. Один из них называется Зефирином, другой как-то вроде Венцеслава; имени остальных я еще не знаю. Может быть, это негры, а еще вероятнее – гориллы.
2. Громадный злой и порочный павиан. Это самое отвратительное существо, которое я когда-либо видел.
3. Большая рыжая медведица, скрывающая под добродушной наружностью наклонность к самым жестоким шуткам.
4. Медведь-муравьед по имени Самуил Кларк, огромное волосатое животное с большими когтями, длинным хвостом и противным языком, похожим на черного червя.
5. Гиппопотам, о котором я уже упоминал, редко вылезающий из своего бассейна.
6. Беспрерывно скачущий безумный кенгуру, причиняющий мне невероятные страдания и возбуждающий во мне ужаснейшую тошноту своей манерой делать внезапные прыжки через всю комнату, нарочно задевая меня по пути и тем раскачивая меня; очевидно, это его забавляет.
7. Коза, называющаяся Анжелой.
8. Боа-констриктор, составляющий мое личное несчастье, о котором я говорю ниже.
9. Броненосец вроде маленькой свиньи без лап, который иногда спазматически вылезает из углубления в скале и тотчас же опять исчезает в нем.
10. Коршун-ягнятник, отвратительное чудовище с бельмом на светло-голубом глазу и с лысой, облезлой шеей.
Кроме этих главных животных есть еще целый ряд второстепенных домашних животных, как кролики, куры, голуби и т. д., и диких, каковы фламинго, колибри, ящерицы, всевозможные насекомые, из которых я назову только жужжащих и злобных москитов, носящихся целыми тучами по воздуху и делающих нашу жизнь еще более невыносимой. Упомяну также и о крылатых светляках, сияющих, как звезды во тьме. Они, по крайней мере, красивы и безвредны.
Эта кишащая, живая, крикливая и шумная компания живет в лесу на полной свободе, исполняя свои потребности и предаваясь совершенно открыто своим страстям, не обращая на нас ни малейшего внимания… скорее, уделяя нам, увы, слишком много своего внимания, так как мы служим для них предметом забавы.
Каждый из нас отдан в распоряжение одного из этих чудовищ, которое берет его на свое попечение и заботится о том, чтобы увеличить, насколько возможно, томление и страдания этого мучительного плена.
Я лично забавляю собой удава. Это змееобразное животное не причиняет мне особого зла, но с первой же минуты, как он увидел меня, воспылал ко мне страстной привязанностью и не может расстаться со мной ни на одну минуту. Он все время обвивает какую-нибудь часть моего тела, и его прикосновение, тяжесть, все его существо мне несказанно противны. Когда я его отталкиваю, он кротко и упорно, как бы упрекая меня в неблагодарности, еще плотнее обвивается вокруг меня и смотрит на меня томным и маслянистым взглядом, от которого у меня голова кругом идет, и я не смею бороться с ним, потому что страшно его боюсь.
Ужаснее всех участь, которая постигла господина сенатора Борова. Он стоит неподалеку от меня, в брюках и сорочке, без жилета и без шляпы, привязанный к стволу баобаба; им специально занимается павиан, который, кажется, поставил себе целью жизни превратить жизнь господина сенатора в поток жгучего стыда и страданий, подвергая его таким утонченным, гнусным, жестоким и сатанинским мукам, что я не в силах ни одной секунды остановиться на них мысленно. Вообразите, что это чудовище не постеснялось отнять у своей жертвы ленту ордена Почетного легиона и украсить себя ею, надев ее на себя шиворот-навыворот; в настоящую минуту он сидит, развалившись на туловище господина Борова, курит его же сигару и забавляется тем, что извлекает из живота господина сенатора ряд музыкальных звуков, неистово барабаня по нем двумя костями.
Не могу удержаться от слез при виде этого зрелища и при мысли о том, что богатый и почтенный человек, сенатор, бывший министр, имевший все шансы вскоре снова получить министерский портфель, подвергается подобному унижению от низкого животного. Когда я подумаю о том, что это происходит на глазах и с согласия другого человека, гражданина, который был управляем тем же самым лицом, которому он теперь позволяет наносить смертельное оскорбление, меня душит бессильная злоба, и хотя я по натуре религиозен и мягкосердечен, но испытываю сильнейшее желание собственными ногтями вырвать из орбит глаза Дикого Человека…
Судьба господина Кувшина не менее жестока. Сегодня утром, на заре, один из рабов-горилл подвел его к Дикому Человеку. Тот держал в руках номер газеты «Среди бела дня» от 12 июня, содержащий столь нашумевшую статью. Он ее развернул и с саркастической улыбкой подал господину Кувшину, у которого зуб на зуб не попадал от страха.
– Ешь! – приказал Дикий Человек голосом, не допускающим возражения.
Господин Кувшин с выражением смертельной тоски во взоре послушно взял газету и съел все ее восемь страниц. С тех пор он, кажется, очень болен; им завладел кенгуру; он бешено скачет по комнатам и, делая громадные прыжки, волочит за собой за волосы господина Кувшина.
Господином доктором Клеткой, вице-президентом комитета общественной гигиены, занялся муравьед. Это грубое животное, лишенное всякой изобретательности, ограничилось тем, что вырыло большую яму в земле и так глубоко закопало в нее свою жертву, что над землей виднеется только его плешивая голова. Иногда на нее садится коршун, принимая ее за яйцо.
Участь господина Шиповника сравнительно легка. Рыжая медведица довольствуется тем, что водит его на привязи на его собственном шарфе и заставляет его два раза в день тщательно вылавливать ее блох.
Ничего не могу сказать про слесаря Нарыва, так как я его еще не видел. Я с ужасом думаю о судьбе, которая, по всей вероятности, постигла этого несчастного пролетария, очевидно, заподозренного Диким Человеком в измене за его попытку выломать дверь и жизнь которого не ограждена, подобно нашей, величием нашего общественного положения, с которым Дикий Человек, по моему твердому убеждению, не может не считаться и что единственно и мешает ему умертвить нас.
О привратнице Армандине Трость я не хочу и не могу говорить… Эта несчастная женщина навеки лишена своей чести. Все по очереди похитили ее у нее самыми разнообразными способами – не допытывайтесь подробностей… я краснею, пока пишу эти строки.
Мне еще остается отметить, в каком грустном положении находится околоточный надзиратель Андреас. Он погружен в бассейн в наказание за отчаянное сопротивление, оказанное им в момент своего пленения. Он выстрелил три раза из револьвера в раба-гориллу Венцеслава, однако пуля убила только одну морскую свинку, и Андреас, обладающий значительной физической силой, был вмиг скручен своим противником, мускульная сила которого феноменальна. Его связали и посадили в басеейн, где он и мокнет под надзором гиппопотама Жако.
Мы питаемся почти сырым мясом (нам объяснили, что жара так велика, что никто не желает заняться приготовлением нашего обеда) и сырыми же яйцами. Сегодня утром мне позволили пощипать салат. Тех из нас, у кого руки связаны, два раза в день кормят приставленные к ним чудовища, меня же кормит Зефирин. С помощью длинного шеста он сует мне в рот эту ужасную пищу. Господи, разве такое питание годится для человека с расстроенным пищеварением?! Мы пьем какую-то желтовато-зеленоватую воду…
Прерываю свой рассказ. Уже поздно, солнце садится, и я устал от долгого писания, но все-таки должен воздать хвалу Создателю за то, что Он сызмала вселил в меня любовь к литературе, благодаря которой я могу отвлечься немного от своих многообразных страданий. Я буду продолжать этот дневник все время, пока будет длиться наше заключение, – надеюсь, что оно будет кратковременно. Моя записная книжка довольно объемистая и совершенно новая… В настоящее время эти страницы доставляют мне большое утешение, и надеюсь, что впоследствии, когда я их опубликую, они принесут мне громадную славу.
Среда, 15 июня
Удивляюсь, как у меня еще хватает силы писать. Сегодня с утра нам грозит самая ужасная, бесчеловечная, безумная опасность. Право, нашим освободителям, принимающим для достижения своей цели самые кроткие меры, следовало бы взвесить посерьезнее свои решения и подумать о тех страшных последствиях, которые их поступки могут иметь для нас, несчастных жертв.
Не знаю, кому пришла мысль наложить запрещение на провизию, которою мы питаемся. Этот человек оказался нашим злейшим врагом. Он превратил наше и без того незавидное положение в нравственную раскаленную жаровню, на которой мы корчимся в несказанных мучениях. Весь вчерашний вечер с лестницы доносился какой-то неясный шум, заронивший в нас надежды, но вскоре он прекратился, не дав, очевидно, никаких результатов[5]5
Неясный шум, о котором упоминает Баклан, было гудение и страшные удары парового тарана, которым безуспешно пытались взломать дверь. Это была, как известно, первая попытка, предпринятая для освобождения пленников, пленение и судьба которых повергли весь мир в неописуемый ужас. Неудача этой попытки побудила господина министра внутренних дел попробовать пригрозить Дикому Человеку голодом, несмотря на оппозицию поставщиков провизии, которые, подстрекаемые членами крайней левой (лидер оппозиции, Ганглюн, произнес по этому случаю знаменитую речь), выразили протест против «стеснения свободного труда», как они называли распоряжение господина министра. Ужасные последствия, которые эта мера чуть было не повлекла за собой (см. ниже), вызвали падение министерства. На его место у кормила стало министерство, известное под названием «воинственного», потому что во главе его стоял господин военный министр Цепкий, предпринимавший самые энергичные меры для освобождения пленников.
[Закрыть].
Сегодня утром, когда настало время принимать провизию в отверстие, дежурный негр-горилла Зефирин, по обыкновению, отворил сначала решетку и маленькое оконце наверху, на левой стороне наружной двери, и вставил в него трубу. Вскоре этот инструмент произвел необычайную музыку. Кто-то пропел арию: «Отопрись, злополучная дверь!» – возвестившую осторожному чудовищу, что надвигается какая-то опасность. Не открывая большого отверстия, он вынул трубу из оконца, приник к нему глазом и посмотрел, что делается снаружи. Тогда подошел какой-то неизвестный человек и торжественным голосом объявил что-то именем закона; я не мог расслышать всей его речи, но все-таки мне удалось схватить главную ее суть, заключающуюся в том, что поставка провизии будет прекращена до тех пор, пока пленные не будут освобождены. Мое сердце затрепетало от радости, но раздался какой-то глухой звук, и речь смолкла. Оказывается, Зефирин просунул через оконце наверху налево свой увесистый кулак и ударил им посланника правительства[6]6
Тот, кого ударил Зефирин, был почтенный господин Дрюиб, помощник шефа жандармов. Этот талантливый администратор упал мертвый, жертвой своего долга, под страшным ударом, размозжившим ему череп и разметавшим во все стороны его мозги. Известие об этом гнусном убийстве привело весь мир в неописуемое волнение. Несчастной жертве были устроены великолепные похороны, на которых присутствовало все население города.
[Закрыть]. Затем он хладнокровно и аккуратно затворил оконце и решетку, а через две минуты надо мной стоял Дикий Человек, хмурый и с трубкой в зубах. Я ждал, что будет дальше: не заинтересовался ли Дикий Человек моими литературными занятиями и не отнимет ли он у меня мою записную книжку? Пожалуй, его покоробят те немного резкие выражения, которые, помимо моей воли, вырвались у меня по его адресу под влиянием дурного расположения духа… С моего чела падали на землю крупные капли пота. Дикий Человек спокойно отстранился, чтобы они не капали на него, и вынул трубку изо рта.
– Баклан, пиши! – скомандовал он мне.
Я весь похолодел от ужаса. Невозмутимое спокойствие его властного голоса, казалось мне, предвещало нам новые, еще более ужасные страдания.
Готовясь писать, я поднял руку, в которой держал карандаш. Я обязан повиноваться Дикому Человеку, так как все-таки он – хозяин здесь, и, может быть, не нам судить о его действиях; может быть, в них кроются какие-нибудь высокогуманные и филантропические мысли, созревшие в его бесспорно выдающемся уме…
Дикий Человек соизволил продиктовать мне следующее:
– «Ультиматум. Если с завтрашнего же дня…» Проставь число, – сказал мне Дикий Человек, и я повиновался, – «16 июня 19… не будет снято запрещение, наложенное на провизию, которая должна быть доставлена в положенные часы, то мы начнем есть пленников…» – Я задрожал всем телом, карандаш чуть не выпал из моих рук, но Дикий Человек гипнотизировал меня своим взглядом, и я продолжал писать. – «Первым будет съеден…»
Дикий Человек обвел всех нас испытующим взглядом.
– Как фамилия этого толстяка? – спросил он, указывая на господина комиссара, слушавшего его с разинутым ртом.
– Шиповник, – ответил я.
Дикий Человек продолжал:
– «Первым будет съеден господин Шиповник, так как он молод и в меру жирен. Затем Андреас – он уже вымачивается; потом сенатор Боров…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































