Текст книги "Под конвоем заботы"
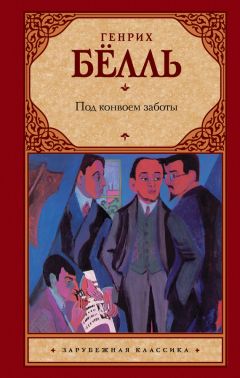
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было, Хельмсфельд ныл, у Бройеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне – разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком, и не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блёмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают, они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю закатить пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как не бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка наведываться в гости – к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беерецам на кофе – и снова увидит Блорр, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться – но где? где? – от вездесущего надзора. Уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает, наверно, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным, у нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязаньем, а может, и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский, а вязать – уж что-что, а это она умеет, лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте, не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить – переводы отец обеспечит, – только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии.
В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла: значит, смеркается. При мысли, что уже сегодня, очень скоро придется покинуть Блорр, ей вдруг стало больно, слезы сами покатились по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла, полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы – все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом: возьмешь у Хермансов лошадь, оседлаешь и – айда по полям и лесам.
Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить – ей ведь нужна охрана, кто-то должен ехать рядом, значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения – взять и отправиться вечером на концерт, особенно когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена, или на выставку, помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее «согласовывать» и, стало быть, испрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться.
Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный, крестьянин Херманс так про него и сказал: «Больно уж въедливый», а все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны, и, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки, сколько людей в здешних лесах – и взрослые крестьяне, и детишки – подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разнесло, она пылко – может, чересчур пылко? – заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она, он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блорр ей уже не в радость: гулять – под конвоем, за молоком – под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу Богоматери, – под конвоем, помолиться Деве Марии – под конвоем, поболтать с крестьянами о Боге и о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве – все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны Бройер – ведь это прямое следствие мер безопасности; теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно, Шублер тоже ищет работу – и тоже безрезультатно. Бройер подал на развод, дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился, дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь именно потому, что пустует, с удвоенной строгостью, приезжающих покупателей подвергают проверке, разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блорр превратили в «полицейский участок», поговаривали даже о создании некоей инициативной группы «потерпевших от безопасности», к коей группе уже присоединились Клоберы, – по слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много.
А она тосковала по Хуберту, она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда в Тольмсховен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность, в крайнем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей – внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль: собрать всех этих людей в знак благодарности, можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр, тогда она сможет наконец поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уж потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Кольшрёдеру. С братом, Рольфом, поговорить, наверно, не мешает, хотя проку от этого мало; Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, «первого Хольгера, того, который от Вероники, – это я еще могу понять, это семь лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это после ноября семьдесят четвертого – нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует! И вообще – поджигать автомобили, бросаться камнями – что это такое, в конце концов?!» Рольф подойдет к делу с «практической стороны», он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком, умом, чисто абстрактно, он, наверно, поймет, что «прелюбодеяние» должно ее мучить, но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не «прелюбодеяние», зато, мол, по отношению к Хельге – да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще поймет, но душой – нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет, он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, «потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость – новая жизнь!» – и скорее всего посоветует ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте – да где же, где? – начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились, вот только ее смущают и настораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает «проводить системный анализ», – звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет (а вдруг?). Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой и в церковь будет ходить – даже целое стадо похотливых кольшрёдеров ее не остановит. И Хуберт такой же, для них это серьезно, очень серьезно, совсем не забава, не банальный «романчик на стороне», Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и «буржуазный промискуитет». Катарина, наверно, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть – «прелюбодеяние». Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала – позор для него страшнее любого скандала, – милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах.
С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит, да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти пятьдесят лет прошло. Отец, конечно, отнесется «с пониманием», но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он никогда не любил и только обрадуется, что «наконец-то мы избавились от этого типа», он будет к ней добр, ее милый папа, предложит переехать с Кит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботится, он будет очень ласков – и не сможет ей помочь, когда Эрвин «без всяких церемоний» начнет борьбу за Кит, что-что, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца: что это человек «не их круга», «какой-то полицейский». Разумеется, он скоро женится снова, для престижа, для «Пчелиного улья» ему совершенно необходима «спутница жизни» – красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая (что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей?), и, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией – а фантазия у нее есть, на этот счет и монахини и Рольф были одного мнения, – чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в «Листке». Тут уж ничего не поделаешь, нужно будет, как Рольф, «просто отсидеться». «Это как взрыв в старом клозете: дерьмо летит во все стороны, кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться».
Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером – нет, она больше не может, ни дня. Встречать его, когда он – счастливый глава семьи в ожидании потомства – возвращается домой, есть с ним за одним столом; моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, «потому что тебе тоже есть что показать сверху без». Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и средь бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет».
Может, с Блюм поговорить? С добросердечной незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого шестьдесят бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти «дурацкие новомодные порошки», а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством; с толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым узлом и расхаживает в юбках по последней моде тридцатых годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой – сигарета торчком, глубокие, жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут, в Блорре, бомбили и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится. А уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок, и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну «своего суженого» и которую «ни к кому другому не тянуло, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, я ведь уже ребенка ждала от моего Конрада, и нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка; Днепропетровск – я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там у кого следует, что нам в этом Днепропетровске понадобилось, на что этот Днепропетровск моему Конраду сдался, – вот у меня и случился выкидыш, а я так хотела ребеночка, пусть даже без мужа». Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается, а может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это «вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете», хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожны, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышагивал за ними следом; может, она что-то приметила – взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна, или когда Хуберт украдкой – ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка! – целовал ее в прихожей, либо в те мгновенья, когда он обнимал ее в углу, за дверью и она вверялась ему всецело? Блюм-то, уж конечно, давно знает, что между ней и Эрвином только нелады и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только «другие женщины», но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец; эта Блюм отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться, она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью, она и на небе предстанет перед очами Всевышнего со своей суровой жалобой: «Днепропетровск – что нам там понадобилось?»
Прочь, прочь отсюда, скорей бы приехала Кэте, она заберет Кит и уедет, сегодня же, пока он не вернулся домой, не надо будет больше запирать дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на «своем праве», пытается к ней вломиться, – наверно, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом.
В Тольмсховене Хуберт будет рядом, они, наверно, смогут поговорить или даже поцеловаться, а то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью, он стоял на посту на террасе, она его впустила – в тот день Кит была у родителей, заснула, и ее оставили ночевать; а она не могла заснуть, сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций, но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды старый Кортшеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку, и для создания декоративного эффекта «индустриального пейзажа», но это именно подсветка, а не освещение, освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, «сколько всякой дряни они втихую спускают ночью». За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады, а сердце билось и билось, как – как что? Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в десять он должен сменить Цурмака, а было уже половина одиннадцатого, и последняя полоска летнего заката меркла на горизонте, чуть в стороне от нелепо ярких фасадов. Но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха, получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью, – и вот он появился, целеустремленный, решительный, в этой его решимости было что-то мальчишеское, она даже невольно улыбнулась – он шел напрямик, мимо маленького заросшего кувшинками пруда, по склону, сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз, вот его рука ухватилась за ручку, и вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился, «вас я не видел, – признался он позже, – меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял, то есть, наверно, надо сказать, чувствовал, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете»; но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то по-хозяйски, отчего ей стало немножко не по себе, он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую, ведь прежде, в углу за дверью, он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег к ней, пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой «пост», а она сварила кофе, они смогли поговорить, он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация, они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты». Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказывал о себе, как ему было тоскливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле – делать что-то руками, и он работал – сперва на стройке, потом на конвейере, «только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило», и тогда он пошел в полицию, да, потому что «любит порядок», чем и навлек на себя презрение отца, тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи; обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию – Тёргаш, и почему она пишется через «ё», а не через «о», этому «ё» он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы, что в лоб, что по лбу; но он построил целое этимологическое толкование, – дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Тёргаша, то ли графа, то ли епископа, управляющим, а вовсе не был торгашом, вот фамилия и передалась, потому и важно написание через «ё»; не то чтобы все это показалось ей занудством – слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю, – но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об Айкельхофе. Айкельхоф перешел им по наследству вместе с «Листком» – это была старомодная вилла восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, какую в те времена мог себе позволить пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла, вместе с типографией и газетой, досталась отцу, который ведь был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу, столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная, там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт. Все было немножко запущено, но уютно, эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шутливо препирались: можно называть его парком или нет. Старые фруктовые деревья, лужайки, и ни одного идиотского газона, которые она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танцверанда, которую отец специально для нее велел сколотить прямо в саду, и слезы первой, болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло – «да-да, тот самый Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью… да-да, именно по вине и благодаря», – она помнит его испуг при слове «благодаря», и она рассказала об этом не по годам пытливом и умном мальчике с мечтательными глазами и совсем не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним подтрунивали, ну, танцевать-то она его научила, летними вечерами они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом.
Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде, не сказала о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего вояжа, дрых в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсховен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа; только они подружились, как та исчезла, уехала обратно в Югославию. «С его женами всегда так: если и попадется милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает, но как туда поедешь с такой свитой охранников?» Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки, – рассказала многое, почти все, никому прежде она столько о себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда вверила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверно, ровесники, не исключено, что он даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Бернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, но вдруг Хуберту все-таки тридцать, тогда он на два года старше, – и вот с ним, именно с ним у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой: что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда, ни под каким видом не спросит: «А вы не забыли про пилюлю?» И это при том, что возможностей было сколько угодно, и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений – в конном клубе, на теннисе, на вечеринках; иные претенденты были просто очаровательны, Цуммерлинг-младший, например, очень даже мил, веселый, ироничный, этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал: «Сабина, дорогая, ну почему мы всегда так серьезны?» Так нет же, Хуберт, именно он, и она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратимо или случайно, по ее или по его воле, все вышло само собой, а уж неотвратимо или случайно, это пусть решают боги, – просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг, и так неделями, почти два месяца, и днем и ночью, но в одном она совершенно уверена: с Цурмаком или Люлером это было совершенно исключено, немыслимо, хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные, знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку, изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках, а уж план дома помнят назубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем, въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах; они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской» – Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в «мастерскую» не заходит, – и сауны в подвале, и обеих ванных комнат, они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству, и всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше Кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене действительно при всем желании невозможно было «взять под контроль» – народу полно, детей приводят и уводят, тут же подвозят еду, входов и выходов не счесть, одноэтажные коттеджи разбросаны по парку где попало, тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой – бассейн, и никаких заборов, планировка ведь открытая, так и задумано, все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд – а после истории с плифгеровским тортом приходится проверять и поставки на кухню, – кроме того, некоторые родители начали роптать, дескать, их-то детям ничего не угрожает (что в корне неверно: «похитить, – сказал Хуберт, – могут любого ребенка, и моего тоже»), а постоянная охрана, чтобы не сказать надзор, нервирует детей, чревата психической травмой да и бессмысленна, потому что «эти если уж вдарят, то все равно из-за угла», их не перехитришь.
Пришлось оставлять Кит дома, к Грёбелям, где дочка любила играть с Руди и Моникой, ей теперь тоже нельзя: Грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке, это травмирует детей. Пришлось держать Кит дома, заниматься с ней самой, играть, рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню «в подмогу» Блюм; летом еще куда ни шло, выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор – это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где Кэте соорудила для них нечто похожее, – и «свинская лужа», яма с песком, глиной и водой, где Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней – в штанишках, а потом шагом марш в ванную или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили – ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок, а она, да и Кит так любили туда ходить! Повязав платок, усадив Кит в коляску, с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи, она нарочно шла туда, где больше народу, и ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности таких походов. Сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы и яйца, кур и зелень, все, что привезли; в этой неразберихе похитить ребенка – плевое дело, хвать – и нет его, она и оглянуться не успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рыскай по всем закоулкам и проходам, там даже предварительный, профилактический контроль организовать немыслимо, что уж говорить о нештатной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка; теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кит оставалась с Блюм. Но разумеется, все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось: каждая буханка хлеба, каждый пучок салата, и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения; а она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникнет и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все трудней делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих, но уже всенепременно и обязательно одного постороннего мужчины. Постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет; к тому же «при исполнении» эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе, когда же их время кончается, они мгновенно, до неприличия быстро, исчезают, будто им невтерпеж поскорее унести ноги с этого клятого места, а ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь из них по-человечески, расспросить про жену и детей, про квартиру и работу, но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а они ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли и как вообще их нервы все это выдерживают?
Эрвин держится с ними нарочито вальяжно, с налетом панибратства, этакий бывалый офицер запаса; заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо, что «заваливать», – он явно недооценивает душевную деликатность этих людей, не только Хуберта, но и Цурмака и Люлера, ради которых он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуются этим вовсе не Цурмак и Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой, нарочито простецкой, вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер: на каком-то полупохабном, блатном жаргоне, когда не сразу разберешь, что имеется в виду – то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого, кроме себя, не слышит, он все знает лучше других, – громогласно, на весь дом, словно у себя на фирме, он в разговорах с ней то и дело склоняет «этих легавых», ничуть не стесняясь их присутствия, а они этого не любят, слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про «легавых» в шутку и как бы в кавычках («Ну, что, как поживают наши славные легавые?»), им это слово все равно не нравится, даже в кавычках. Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает.
Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская; вот почему она вовсе не считала «грязным» – наоборот, естественным – то, на что намекал Эрвин: дескать, она, когда ложиться загорать у бассейна, возбуждает у полицейских «грязные фантазии». «Даже если ты рязляжешься в чем мать родила – это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает, он говорил не о любви – о вожделении, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины, они слонялись вокруг, ходили, стояли, глазели, а потом наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна, – и так день за днем, только скука и беспросветная тоска, так что в конце концов даже добряк Цурмак, мужчина уже, можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок, – и тот не выдержал и сказал ей однажды: «Да что вы все дома сидите? Сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решилась выбраться в город – ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платья у Хольдкампа и Бреслицера, Кит она оставила с Цурмаком и Блюм, поехала с Люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, ни дать ни взять частный детектив, и когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми, воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом, – наверно, думала она, так бывает в дорогих борделях, – какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа, и на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый, так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла, что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Бройер, когда как-то раз обронила: она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях, просто иногда хочется, чтобы ей «как следует вставили», и мужчинам очень часто хочется просто «вставить», не больше и не меньше; а бедняга Люлер, наверно, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья, почти две восемьсот, ему это, конечно, показалось совсем недешево.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































