Текст книги "Дочь фараона"
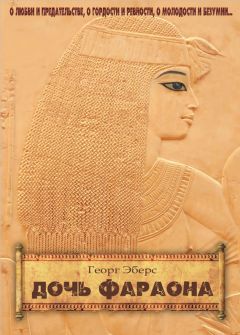
Автор книги: Георг Эберс
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Глава двадцатая
Невольная причина всех этих печальных событий, Нитетис с самого дня рождения царя переживала невыразимо скорбные минуты. После жестоких слов, с которыми Камбис выслал бедную девушку из залы, когда его ревность была возбуждена необъяснимым поведением Нитетис, до нее не доходило никакой вести ни от разъяренного Камбиса, ни от его матери и сестры. С тех пор как Нитетис была в Вавилоне, она каждый день сходилась с Кассанданой и Атоссой. Она и теперь хотела отправиться к ним, чтобы объяснить им свое странное поведение; но Кандавл, новый страж Нитетис, в коротких словах запретил ей выходить. До тех пор она еще думала откровенным рассказом обо всем, что сообщалось в последнем письме из отечества, разъяснить все недоразумения. Мысленно Нитетис уже видела, как Камбис раскаивается в своей горячности и глупой ревности и протягивает ей руку с просьбой о прощении. Наконец, в душу Нитетис проникла даже некоторая радость, когда она вспомнила слова, которые когда-то слышала от Ивика: «Как лихорадка больше истощает человека крепкого, чем слабого, так и ревность больше мучает сильно любящее сердце, чем то, которое только слегка затронуто страстью».
Если великий знаток любви быв прав, то Камбис, ревность которого воспламенялась так быстро и страшно, должен был чувствовать к Нитетис великую страсть. С этой уверенностью постоянно смешивались печальные мысли об отечестве и мрачные предчувствия, которые она не могла от себя отогнать. Когда полуденное солнце полыхало на небе, а все еще не было известия о тех, кого любила Нитетис, ею овладело лихорадочное беспокойство, которое постоянно увеличивалось до самого наступления ночи. Когда стемнело, к египтянке вошел Богес и с горькой насмешкой рассказал, что царь завладел письмом ее к Бартии и что мальчик-садовник, который должен был передать письмо, будет казнен. Потрясенные нервы царской дочери не смогли выдержать этого нового удара. Богес снес лишившуюся чувств женщину в ее спальню, которую тщательно запер на задвижку.
Спустя несколько минут из потайных дверей, которые Богес внимательно рассматривал два дня назад, вышли два человека, молодой и старик. Старик остановился, прислонившись к стене дома, а юноша подошел к окну, откуда ему делала знаки чья-то рука, и одним прыжком вскочил в комнату. Тихим шепотом были произнесены слова любви и имена Гауматы и Манданы, произошел обмен поцелуями и клятвами. Наконец, старик всплеснул руками, подавая условный знак; молодой обнял еще раз служанку Нитетис, выскочил опять через окно в сад, пробежал мимо приближавшихся людей, которые шли смотреть голубую лилию, скользнул со своим спутником в раскрытую настежь потайную дверь, тщательно запер ее – и исчез.
Мандана поспешила в комнату, в которой ее госпожа обыкновенно проводила вечер. Она знала ее привычки, знала, что Нитетис каждый вечер при восходе звезды садится у окна, обращенного к Евфрату, и оттуда, не требуя к себе служанку, по целым часам смотрит на реку и на равнины. Потому-то Мандана, не страшась помехи с этой стороны и заручившись покровительством самого Богеса, спокойно могла ожидать своего возлюбленного.
Лишь только Мандана увидела, что ее госпожа лежит без чувств, как сад наполнился людьми, послышались голоса мужчин и евнухов, зазвучала труба, которой обыкновенно созывались стражи, и сначала Мандана испугалась – не открыли ли ее возлюбленного. Но явился Богес и шепнул ей: «Он благополучно ускользнул!» Тогда Мандана приказала служанкам, прибежавшим толпой из женской комнаты, куда она их прогнала для удобства свидания, перенести госпожу в спальню и употребила все средства, чтобы привести Нитетис в себя. Едва последняя открыла глаза, как Богес вошел в ее комнату с двумя евнухами, которым велел надеть цепи на нежные руки девушки.
Нитетис не могла выговорить ни слова и не оказала никакого сопротивления, она не возразила ничего даже и тогда, когда Богес, выходя из дома, сказал:
– Желаю тебе счастливо жить в клетке, моя пленная птичка. Сейчас расскажут твоему повелителю, что царская куница натешилась вволю в его голубятне. Прощай, и если тебя при такой жаре прохладит сырая земля, то помни о бедном, докучном Богесе. Да, моя голубка, своих истинных друзей мы познаем только в момент смерти: вот и я похороню тебя не в мешке из грубого холста, а в покрывале из нежного шелка! Прощай, мое сердце!
Несчастная женщина с трепетом выслушала эти слова. Когда евнух удалился, она попросила Мандану объяснить, что случилось. Служанка рассказала Нитетис, по совету евнуха, что Бартия прокрался в висячие сады и, когда хотел вскочить в окно, был замечен многими Ахеменидами.
Камбису сообщили о вероломстве брата, и теперь следовало всякого страшиться от ревности царя. Легкомысленная девушка проливала при этом рассказе обильные слезы горького раскаянья, которые несколько утешили Нитетис; последняя сочла их доказательством истинной любви и участия.
Когда Мандана умолкла, Нитетис с отчаянием смотрела на свои цепи и долго не могла собраться с мыслями в своем отчаянном положении. Тогда перечитала она еще раз письмо из отечества, написала на записке краткие слова «я невиновна», приказала рыдающей девушке передать то и другое после ее смерти матери царя и провела бесконечно длинную ночь. В ее шкатулке с мазями находилось средство для умягчения кожи, которое, как знала Нитетис, будучи принято внутрь в большом количестве, причиняло смерть. Она велела принести этот яд и после спокойного размышления решилась, при приближении палача, принять смерть от собственной руки. С этого времени Нитетис даже была довольна наступлением своего последнего часа, говоря сама себе: «Хоть он тебя и убивает, но убивает из любви». Тут пришло ей на мысль написать Камбису письмо и излить в нем свою любовь во всей полноте. Камбис должен получить это письмо только после ее смерти, чтобы он не подумал, что оно написано с целью выпросить пощаду. Надежда, что этот непреклонный властелин, может быть, оросит слезами это последнее приветствие, наполняла ее душу горькой отрадой.
Несмотря на мешающие ей цепи, Нитетис написала следующие слова:
«Камбис получит это письмо уже тогда, когда меня не будет в живых. Оно скажет моему повелителю, что я люблю его больше богов, больше света, даже больше моей собственной молодой жизни. Пусть Кассандана и Атосса вспомнят обо мне с чувством дружеского расположения. Из письма моей матери они увидят, что я невиновна и хотела говорить с Бартией только о моей бедной сестре. Богес сказал, что моя смерть предрешена. Когда палач приблизится, я сама положу своей жизни конец. Совершаю преступление над собой для того, чтобы тебя, Камбис, предохранить от позорного дела».
Это письмо она передала, вместе с письмом своей матери, плачущей Мандане с просьбой доставить то и другое Камбису после ее смерти.
Потом Нитетис распростерлась ниц, в мольбе к богам своей родины о прощении ее за отступничество.
Когда Мандана убеждала ее подумать о своей слабости и лечь, Нитетис сказала:
– Мне нет нужды спать, ведь так недолго осталось мне бодрствовать!
Чем дольше она молилась и пела египетские гимны, тем искреннее обращалась она снова к богам своей родины, которых оставила после непродолжительной душевной борьбы. Почти все молитвы, какие Нитетис знала, относились к загробной жизни. В царстве Озириса, в преисподней, где сорок два судьи мертвых должны произнести приговор о достоинстве или недостоинстве души, согласно решению богини истины Маат и небесного писца Тота, – она может надеяться опять увидеть своих милых, если только ее неоправданной душе не придется выдержать странствование по телам зверей и если ее тело, оболочка души, останется невредимым. Это «если» наполняло Нитетис лихорадочным беспокойством. Учение, что благо души связано с сохранением остающейся земной части человеческого «я», было ей внушено с детства. Она верила в то заблуждение, которое воздвигло пирамиды и выдолбило утесы; содрогалась при мысли, что ее труп, по персидскому обычаю, будет отдан собакам, хищным птицам и истребительным силам, и вместе с тем для нее утратится всякая надежда на вечную жизнь. Тут Нитетис пришла мысль еще раз отречься от старых богов и повергнуться ниц перед новыми духами света. Последние возвращали умершее тело тем стихиям, из которых оно состояло, и допрашивали только его душу. Но когда Нитетис воздела руки к великому солнцу, которое только что разогнало своими золотыми лучами клубившийся в долине Евфрата туман, когда она хотела приступить к прославлению Митры недавно изученными ею хвалебными гимнами, то голос ее сорвался, и Нитетис увидела в дневном светиле бога, которого часто воспевала в Египте, великого Ра, и, вместо гимна магов, запела песнь, которой египетские жрецы обыкновенно приветствовали восходящее солнце:
Преклоните вы колени
Пред верховным существом —
Ра, великим сыном неба,
Создающим божеством;
Перед тем, кого день каждый
Возрождающимся зрит;
Кто, своей предвечной силой,
Из себя себя творит;
Кто в небесном океане,
Сыпля благами, плывет;
Перед тем, кто все, что только
Есть под небом, создает.
Шлем хвалу тебе, Создатель,
Громкой песней к небесам,
Бдетель наш, чей луч дарует
Жизнь всем чистым существам!
Слава Ра, зиждитель мира!
Громкой чтим тебя хвалой!
А когда идешь ты в небе
Светозарной стезей —
Преклоняются все боги
Пред источником добра,
Лоном сладкого блаженства,
Перед сыном неба, Ра!
С этой песней изобильное утешение пролилось в сердце Нитетис. Вспоминая свое детство, она смотрела влажными от слез глазами на восходившее светило, лучи которого еще не ослепляли глаз. Потом она взглянула вниз, на равнину. Там катились желтые волны Евфрата, подобного Нилу. Среди роскошных хлебных полей и зарослей фиговых кустарников многочисленные деревни. К западу на многие мили простирался царский заповедник с высокими кипарисами и ореховыми деревьями. На всех листьях и стеблях блистала утренняя роса, а в кустах садов, где жила Нитетис, слышались звонкие голоса бесчисленных птиц. Подул тихий ветерок, донося к Нитетис аромат роз и играя верхушками пальм, тонкие стволы которых возвышались на берегу реки и на всех окрестных полях.
Часто любовалась Нитетис этими прекрасными деревьями, сравнивая их с танцовщицами, когда буря колебала тяжелые верхушки пальм и сгибала их стройные стволы. Как часто говорила она себе, что здесь должна быть родина феникса, птицы пальмовых стран, которая, как рассказывали жрецы, каждые пятьсот лет прилетает к храму Ра в Гелиополе, где сгорает в священном пламени фимиама, чтобы возродиться из пепла еще более прекрасной, и через три дня отлетает в свое восточное отечество. И между тем как она думала об этой птице и желала, подобно ей, возродиться из пепла страданий для нового, более полного счастья, – из кипарисов, окружавших жилище человека, которого она любила, и который сделал ее несчастной, вылетела большая птица с блестящими перьями. Она взвивалась выше и выше и, наконец, опустилась на пальму, у самого окна египтянки. Такой птицы Нитетис еще никогда не видела; эта птица не могла быть обыкновенной, потому что на ее ноге висела золотая цепочка, а хвост состоял не из перьев, но, как показалось Нитетис, из солнечных лучей. Это был Бену, птица бога Ра! Набожно опустилась Нитетис снова на колени и запела старинную песнь о фениксе, не спуская глаз с сияющего обитателя воздуха:
Высоко над головами
Копошащихся людей
Рассекаю я крылами
Глубь заоблачных морей.
Создан я Творца рукою,
Им, виновником всего,
И лучистой красотою
Похожу я на него.
Образ мой необычайно
Блещет, с черной тьмой в борьбе,
Существо мое есть тайна,
Недоступная тебе.
Знаю я – что будет, было,
Вечной жизнию дыша;
Я – таинственная сила,
Ра бессмертного душа.
Птица, поворачивая туда и сюда головку, украшенную волнующимися перьями, как бы прислушивалась к этому пению и отлетела, лишь только оно кончилось. Нитетис сочувственно смотрела вслед мнимому фениксу, то есть райской птице, которая оборвала цепочку, привязывавшую ее к дереву в царском зверинце. Радостная уверенность в спасении возникла в сердце Нитетис: она думала, что бог Ра послал ей небесного вестника.
Пока человек желает и надеется, он может перенести много страданий; если счастье и не приходит, то все-таки само его ожидание сладостно. Такое настроение удовлетворяет само себя; оно содержит в себе особого рода наслаждение, которое может заменить действительность. Нитетис с новой надеждой легла, утомленная, на диван и скоро, против своей воли, погрузилась в глубокий, безмятежный сон, не прикоснувшись к яду.
На несчастных, которые ночь провели в слезах, восходящее солнце действует утешительно, тогда как виновным, которые ищут мрака, то же самое солнце досаждает своим чересчур ярким светом. Пока Нитетис спала, Мандана мучилась страшными угрызениями совести. Как рада была бы Мандана подвинуть назад солнце, которое по ее вине должно было осветить смерть доброй госпожи! Мандана охотно согласилась бы жить среди вечного мрака, если бы этим она могла нейтрализовать свои вчерашние поступки.
Это доброе, легкомысленное создание беспрерывно называло себя безбожной убийцей. Сто раз намеревалась она объявить всю правду и спасти Нитетис; но каждый раз любовь к жизни и страх одерживали верх над добрыми порывами ее слабого сердца. В случае признания ее ожидала верная смерть, а Мандана чувствовала в себе такое желание жить, ее так страшила могила, будущее обольщало такими надеждами! Если бы ей грозило только вечное заточение, то, быть может, Мандана еще открыла бы правду; но умереть… она не могла! Притом, действительно ли можно было таким признанием спасти осужденную?
Разве не пришлось ей устраивать посылку письма Нитетис к Бартии через несчастного мальчика-садовника? Этот тайный обмен письмами был обнаружен, и Нитетис погибла бы и без ее содействия! Мы никогда не выказываем большей ловкости, как в том случае, когда нужно оправдать в собственных глазах совершенный нами проступок.
Когда взошло солнце, Мандана преклонила колени перед постелью своей госпожи и горько заплакала, не понимая, как может та спокойно спать.
Евнух Богес тоже провел бессонную, но счастливую ночь. Товарищ его и заступавший его место по должности, Кандавл, которого Богес ненавидел, был, по царскому приказанию, немедленно казнен за нерадение, а быть может, и по подозрению в подкупе; Нитетис была не только низвергнута, – после низвержения она впоследствии могла опять возвыситься, – но приговорена к позорной смерти и теперь уже навсегда безвредна для него. Влиянию матери царя нанесен сильный удар. Наконец, Богесу льстило сознание собственного превосходства и ловкого выполнения трудного предприятия, а также улыбалась надежда, через свою любимицу Федиму, сделаться опять, как прежде, всемогущим фаворитом. Смертный приговор, нависший над Крезом и молодыми людьми, был также желателен Богесу, потому что, останься они в живых, огласка устроенной им западни была еще возможна.
Утро уже забрезжило, когда Богес оставил комнаты царя, чтобы отправиться к Федиме. Гордая персиянка еще не спала. В лихорадочном нетерпении ждала она евнуха; слух о происшедшем уже достиг обитательниц женской половины.
Облаченная только в легкую шелковую рубашку, обутая в желтые туфли, изукрашенные бирюзой и жемчугом, окруженная двадцатью прислужницами, она лежала на пурпурном диване в своей комнате. Как только Федима услыхала шаги Богеса, она тотчас выслала невольниц вон, вскочила, побежала ему навстречу и осыпала бессвязными вопросами, которые все касались ненавистной Нитетис.
– Тише, моя голубка, – сказал Богес, положив свои пухлые руки на ее плечи. – Тише! Если ты не можешь быть спокойной, смирной, как мышка, и без вопросов слушать мой рассказ, то сегодня не услышишь ни одного слова. Да, моя золотая царица, у меня найдется так много чего тебе порассказать, что я кончу только завтра, если ты меня станешь прерывать когда тебе вздумается! Ах, моя овечка, мне сегодня еще столько надо сделать! Во-первых, я должен присутствовать при египетском поезде на осле, во-вторых, быть свидетелем одной египетской казни… Но я слишком забегаю вперед; расскажу сначала. Плакать, смеяться, кричать от радости можешь сколько хочешь; но задавать вопросы тебе запрещается, пока я не завершу. Эту награду я заслужил! Ну, теперь я отлично улегся и могу начать. Жил-был в Персии великий царь, у него было много жен, а из них он больше всех любил Федиму и отличал от других. Вздумалось ему раз посвататься к дочери Амазиса Египетского. Послал он большое посольство в Саис со своим братом в качестве свата…
– Глупости! – вскричала Федима нетерпеливо. – Я хочу знать, что случилось сегодня.
– Терпение, терпение, мой неукротимый ветер Адера. Если ты меня прервешь еще раз, то я уйду и расскажу свою историю деревьям. Доставь же мне радость – пережить снова мои успехи. Пока я рассказываю, я чувствую себя так хорошо, как ваятель, который выпустил из рук молоток и рассматривает свое оконченное творение.
– Нет, нет, – прервала его Федима еще раз, – теперь я не могу слушать то, что знаю уже давно. Я умираю от нетерпения. Сколько часов жду я здесь в лихорадочном напряжении. Каждый новый слух, который приносили мне служанки и евнухи, усиливал мое нетерпение. Я в лихорадке и не могу более ждать. Требуй от меня, чего хочешь, но избавь от этого ужасного волнения. Потом, если ты меня попросишь, буду слушать тебя целые дни!
Богес усмехнулся с довольным видом и сказал, потирая руки:
– Еще в детстве для меня не было большего удовольствия, как рассматривать рыбку, трепещущую на крючке; теперь ты, прекраснейшая из всех золотых рыбок, висишь у меня на удочке, и я тебя не выпущу, пока вдоволь не позабавлюсь твоим нетерпением.
Федима спрыгнула с ложа, которое делила с Богесом, и затопала ногами, кривляясь и ломаясь, как избалованное дитя. Евнуху это, по-видимому, доставляло большое удовольствие; он все веселее потирал руки, смеялся до того, что у него показались слезы на мясистых щеках, и осушил много чаш вина за здоровье измученной красавицы, прежде чем начал рассказ.
– От меня не укрылось, что Камбис без всякой другой причины, кроме ревности, посылает против тапуров своего брата Бартию, который привез сюда египтянку. Высокомерная женщина, которой я не должен был сметь ничего приказывать, показалась мне столь же мало расположенной обращать внимание на красивую головку блондина, как еврей на свиное мясо или египтянин на белые бобы. Я все-таки решился поддерживать ревность царя и, посредством ее, сделать безвредной нахалку, которой, по-видимому, удалось вытеснить нас обоих из милости повелителя. Долго и напрасно искал я подходящего случая. Когда, наконец, наступил праздник нового года, все жрецы царства собрались в Вавилоне. Целых восемь дней город был полон торжеств, пиров и попоек. При дворе также была порядочная кутерьма, у меня было мало времени думать о своих планах. Когда я уже совсем перестал надеяться на успех, милостивые Амеша спента послали мне юношу, которого сам Анграманью как бы нарочно создал для моих целей. Гаумата, брат Оропаста, прибыл в Вавилон, чтобы присутствовать при большом жертвоприношении по случаю нового года. Когда я этого юношу увидел в первый раз у его брата, которого должен был посетить по поручению царя, мне показалось, что я вижу призрак – так изумительно он похож на Бартию. Когда я кончил дела с Оропастом, юноша довел меня до колесницы. Я не выказал своего удивления, обошелся с ним дружески и просил его навещать меня. Он явился ко мне в тот же вечер. Я поставил лучшего вина, заставил его пить и еще раз убедился, что полезнейшее свойство виноградного сока – делать молчаливых людей болтливыми. Юноша, опьянев, признался мне, что явился в Вавилон не только для жертвоприношения, но и ради девушки, которая состоит при египтянке главной прислужницей. Он любит ее, рассказывал Гаумата, еще с детства, но честолюбивый брат желает для него более знатной невесты и – чтобы разлучить Гаумату с красавицей Манданой – доставил ей место при новой супруге царя. Наконец молодой человек стал меня упрашивать, чтобы я доставил ему случай перемолвиться словом с его возлюбленной. Я дружески его выслушал, но затруднился дать согласие и в заключение пригласил его на следующий день снова ко мне наведаться. Он пришел. Я сообщил Гаумате, что можно будет как-нибудь устроить свидание, если он решится слепо повиноваться моим приказаниям. Он охотно согласился на все и отправился, по моему распоряжению, назад в Рагэ и только третьего дня тайно приехал в Вавилон. Я спрятал его в своем жилище. Между тем Бартия опять явился. Теперь дело было в том, чтобы снова разжечь в царе ревность и погубить египтянку одним ударом. Твое унижение послужило мне верным средством возбудить ропот твоих родственников против нашей противницы и облегчить мое предприятие. Судьба была особенно благосклонна. Ты знаешь, как Нитетис держала себя на пиру в день рожденья; но тебе еще не известно, что в тот же вечер она послала мальчика-садовника с письмом к Бартии. Неловкий посол дал себя поймать и в ту же ночь был казнен по приказанию разъяренного царя, а я позаботился о том, чтобы Нитетис была совершенно отрезана от всякого сообщения со своими друзьями, как будто бы жила в гнезде симурга, вещей орлоподобной птицы. Остальное ты знаешь.
– Но как ускользнул Гаумата?
– Через потайную дверь, только мне известную. Все шло превосходно; мне даже удалось достать кинжал Бартии, который он потерял на охоте, и подбросить его к окну Нитетис. Чтобы удалить князя и помешать ему во время этих событий увидеться с царем или с другими важными свидетелями, я упросил греческого купца Колея (он продает в Вавилоне милетские материи и готов мне всячески угождать, потому что я принимаю от него всю поставку шерстяных материй для женской половины дворца), – упросил его написать мне письмо на греческом языке с просьбой к Бартии от имени его возлюбленной, – она зовется Сафо, – прийти одному во время восхода звезды Тистар к первому станционному дому, расположенному перед Евфратскими воротами. Но с этим письмом мне не посчастливилось: посланный, который должен был передать его Бартии, не сумел выполнить своего поручения. Хотя он и уверяет, что вручил письмо самому Бартии, но нет никакого сомнения, что он отдал его кому-то другому, по-видимому, Гаумате. Я немало испугался, узнав, что Бартия вечером пировал со своими приятелями. Однако сделанного воротить было нельзя, и притом такие свидетели, как твой отец, Гистасп, Крез и Интафернес, далеко перевесили все уверения Дария, Гигеса и Араспа: первые показывали против общего всем друга, а последние – за него. В конце концов все вышло превосходно. Молодчики приговорены к смерти, а для Креза, который, как всегда, осмелился говорить царю дерзости, скоро наступит последний час. Относительно же египтянки верховный писец написал следующее сочиненьице. Слушай, голубушка, и радуйся:
«Нарушительница супружеской верности, дочь царя египетского, Нитетис, в наказание за свои постыдные дела должна быть казнена по всей строгости закона, а именно: ее посадят верхом на осла и провезут по улицам города, чтобы жители Вавилона видели, что Камбис может так же точно покарать царскую дочь, как его судьи наказывают последнюю нищую. С закатом солнца клятвопреступница будет погребена заживо. Это повеление будет передано для исполнения начальнику евнухов Богесу.
Главный писец Ариабигнес, по поручению царя Камбиса».
Лишь только я всунул эти строки в рукав, как в залу протеснилась мать царя, в изодранной одежде, в сопровождении Атоссы. Тут было много рыданий, крика, упреков, клятв, просьб и молений, – но царь остался непреклонным. Я даже думаю, что Кассандана и Атосса, вслед за Крезом и Бартией, были бы отправлены в другой мир, если бы страх перед душой отца не удержал пылающего яростью сына наложить руку на вдову Кира. За Нитетис, впрочем, Кассандана не сказала ни одного слова. По-видимому, она так же твердо убеждена в ее виновности, как ты и я. Влюбленного Гаумату нам тоже нечего страшиться. У меня наняты три человека, которые ему, прежде чем он возвратится в Рагэ, устроят холодную ванну в волнах Евфрата! Рыбам и червям будет славная пожива, ха-ха!
Федима присоединилась к этому смеху, осыпала евнуха ласковыми именами, которым у него же и выучилась, и в знак благодарности надела своими полными руками на мясистую шею Богеса тяжелую цепь из драгоценных камней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































