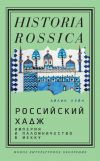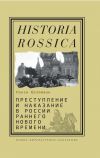Текст книги "Россия. Путь к Просвещению. Том 2"
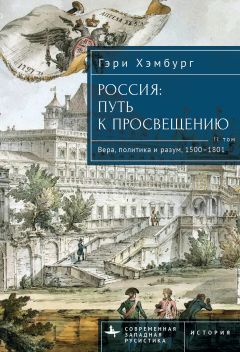
Автор книги: Гэри Хэмбург
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
В конце 1762 года Екатерина получила проект Панина. 28 декабря 1762 года она подписала манифест о его принятии и одобрении предложенных Паниным законодательных проектов, однако отложила обнародование манифеста и утверждение законов [Омельченко 2001: 18–19]. В итоге проект Панина канул в политическую Лету: к октябрю 1763 года императрица тихо отложила план Панина в долгий ящик.
Хотя с формальной точки зрения предложение Панина было мертворожденным, оно тем не менее оказало влияние на работу одной значимой комиссии – так называемого Императорского собрания о вольности дворянской. В период с 11 февраля по 1 ноября 1763 года комиссия собиралась более 20 раз. В ее состав вошли восемь высших государственных деятелей, которых Екатерина наметила для назначения в Императорский государственный совет: Бестужев-Рюмин, Разумовский, Воронцов, Шаховской, Панин, Чернышев, Волконский, Орлов, и еще один член – Г. Н. Теплов. В центре внимания Собрания были три вопроса: привилегии дворянства в свете манифеста Петра III от 1762 года об освобождении дворян от государственной службы; положение и привилегии украинского дворянства; вопрос о реорганизации Императорского сената, поднятый в проекте Панина [Омельченко 2001: 21]. Как показал историк русского права О. А. Омельченко, свои основные идеи Собрание изложило в предложенной им декларации о правах дворянства. Екатерина так и не придала ей законную силу, поскольку замысел декларации – гарантировать дворянам определенные права личности и собственности – существенно расходился с собственными взглядами императрицы на этот вопрос [Омельченко 2001: 47].
Теплов, составивший по поручению комиссии декларацию о правах дворянства, был продуктом петровской системы образования, а также системы «клиентов» и их покровителей, сложившейся при Елизавете. В юности он учился в Невской семинарии, основанной Феофаном Прокоповичем, который в 1733 году отправил его за границу для продолжения образования. Вернувшись в 1736 году в Россию, Теплов занял должность переводчика в Академии наук. Через десять лет он стал почетным членом Академии. В течение многих последующих лет Теплов пользовался покровительством президента Академии К. Г. Разумовского, который фактически возложил на него руководство текущей деятельностью Академии. В 1747 году Теплов составил «Регламент Императорской Академии наук и художеств» – основополагающий документ в истории Академии, поскольку он отделял собственно Академию от «университета», действовавшего под ее эгидой [РИАНХ 1747].
В 1740-х годах Теплов завоевал репутацию философа. В 1742 году он прочитал в Академии публичную лекцию о практической философии Христиана Вольфа [Пустарнаков 2003: 630]. В 1751 году Теплов опубликовал свою книгу «Знания касающиеся вообще до философии: Для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» [Теплов 1751]. Хотя книга Теплова была вторичной в том смысле, что она следовала предложенной Вольфом классификации знаний по трем отраслям (философской, исторической и математической), она сослужила хорошую службу русской читающей публике, поскольку предложила русский лексикон для перевода западных философских терминов. Кроме того, книга давала ясное представление о крупнейших западных философах – от греков до Спинозы и Лейбница. Теплов горячо поддерживал философский рационализм Декарта и отвергал древний и современный материализм [Пустарнаков 2003: 630]. В политическом плане книга Теплова представляла собой изощренную защиту христианства и монархии. Он писал: «…в науке философской все то заключается, что человека делает Богу угодным, монарху своему верным и услужным, а ближнему в сообщество надобным» [Теплов 2010: 55]1616
Об институциональном контексте философии Теплова см. в статье [Артемьева 1999].
[Закрыть].
Составленный комиссией проект декларации прав дворянства включал 21 статью [СИРИО 1867–1916, 7: 238–266]. Первые несколько статей декларации определяли три способа вступления в дворянство: рождение, пожалование дворянства монархом, прошение, направляемое в Императорский Сенат либо монарху [СИРИО 1867–1916, 7: 245–246]. В статье 5 говорилось, что российским дворянам предоставлено право выбора – поступать или не поступать на государственную службу, а также право ухода в отставку со службы с соблюдением установленных правил [СИРИО 1867–1916, 7: 247–249]. Последующие статьи декларации подтверждали право российских дворян поступать на службу в иностранные государства, но предусматривали возможность их отзыва в чрезвычайных обстоятельствах. Российские дворяне имели право продавать землю и переселяться в другие государства с уплатой десятипроцентной пошлины со стоимости их земельных владений. Русские дворяне, постоянно проживающие в иностранном государстве, могли просить об освобождении их от присяги на верность российскому престолу. В декларации указывалось, что отказ отца от присяги не затрагивает прав ни его несовершеннолетних детей, ни наследников по завещанию [СИРИО 1867–1916, 7: 249–253].
Статья 13 декларации требует, чтобы российские дворяне, обвиняемые в преступлениях или находящиеся под полицейским надзором, были освобождены от штрафов «покуда [дворянин] перед судом изобличен и виновен не явится», а также, «чтоб в отличность разночинцам от всякаго телеснаго истязания был он свободен» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Согласно статье 14, в случае признания дворян виновными в политических преступлениях – в оскорблении величества или «в возбуждении противу общаго покоя» – и присуждения им наказания в виде ссылки или смертной казни не следует конфисковать имущество у их семей. В случае хищения государственного имущества компенсация должна ограничиваться суммой украденного [СИРИО 1867–1916, 7: 255]. Статья 15 требовала, чтобы при расследовании серьезных политических преступлений дворянин имел право назначить другого дворянина для присутствия на судебных заседаниях, а также нанимать поверенного, «от которого бы… его представления в пользу несчастнаго в суде выслушиваны и должным порядком приниманы к делу были». В соответствии со статьей 16 по делам об убийствах, возбужденных против дворян, бремя доказывания должно быть «вящшия, нежели противу недворянина» [СИРИО 1867–1916, 7: 258]. Если дворянин лишался дворянского звания, это наказание не должно было влиять на статус его детей [СИРИО 1867–1916, 7: 259].
Согласно статье 18 декларации, дворянин «между прочими самое первое и главное преимущество имеет располагать своим имением неродовым», которое он приобрел как награду на службу или путем покупки [СИРИО 1867–1916, 7: 259]. В случае душевного нездоровья законных наследников имущества или их недееспособности статья 19 предоставляла российским дворянам абсолютное право распоряжаться наследственным и приобретенным имуществом путем передачи его достойным наследникам. Статьи 20 и 21 предоставляли дворянам право усыновлять детей и передавать по наследству им имущество и титул, но при этом обязывали их содержать биологических детей, даже юридически недееспособных [СИРИО 1867–1916, 7: 262–263].
Таким образом, декларация должна была наделить российских дворян личными правами, в частности правом служить или не служить, правом распоряжения имуществом, а также гарантировать их детям право на дворянство, на проживание в России или за рубежом, на наследование имущества. Наиболее острый политический вопрос декларации касался прав дворян при рассмотрении уголовных дел. Декларация не ограничивалась требованием права habeas corpus и суда присяжных. В ней предусматривалось введение презумпции невиновности для дворян на стадии расследования уголовных дел, надаление их правом на адвоката, на свободу от телесных наказаний и на передачу членам семьи унаследованного и приобретенного имущества. Декларация была нацелена на уменьшение произвола правительства в отношении дворян, обвиненных по доносу в политических преступлениях; по сути, она подрывала саму культуру доносительства.
Основной целью декларации было искоренение культуры страха, господствовавшей в российской политике с эпохи Петра I. В преамбуле декларации высказывалась мысль о том, что Петр «должен был перво всего сильным и страшным без замедления учинить свое войско соседям, но того иным образом из худовоспитываемого дворянства российскаго составить не мог, пока прямым насильством не понудил служить тех, которые, не имея вкорененнаго в себя честолюбия знанием и науками… от службы удалялись». Авторы декларации признавали, что, будучи предоставлены сами себе, российские дворяне времен Петра не имели ни честолюбия, ни склонности служить государству, ибо «человек неведомомаго себе никогда не возжелает». Тем не менее Петр, «как прозорливый и премудрый монарх, различные способы [употреблял] внедривать благородныя склонности в сердца подданных своих». Петр ввел дисциплину в армии, воспитал в дворянах чувство чести и готовность к службе, а также способствовал коренному изменению нравов в стране [СИРИО 18671916, 7: 240]. В декларации утверждалось, что российские дворяне при Екатерине существенно отличались от своих предков: современное дворянство пользуется плодами просвещения, и под просвещенным руководством Екатерины «уподобится российское дворянство всем просвещенным в Европе другим государствам» [СИРИО 1867–1916, 7: 241]. При наличии свободы выбора в отношении того, следует ли служить государству, большинство российских дворян выберут службу именно потому, что усвоили уроки Петра.
Достоинством декларации было то, что она учитывала огромное историческое наследие Петра. Ее авторы, несомненно, были правы, утверждая, что в 1763 году российские дворяне были более образованны и готовы служить, чем их предшественники. Однако в логике декларации был очевидный изъян: если для преодоления «природного» эгоизма и невежества дворянства Петру пришлось применить давление, то почему Екатерина должна была отказаться от принуждения как политического инструмента? Даже если бы она решила поддержать манифест Петра III об освобождении дворян от государственной службы, она могла бы сохранить другие методы принуждения в отношении потенциальных противников. Если Петр I добился своего силой, то почему бы Екатерине к ней не прибегнуть?
Декларацию о правах дворянства подписали все девять членов комитета. Как утверждает Омельченко, основные статьи декларации отражали убеждения Бестужева-Рюмина в отношении юридических прав дворянства: право на адвоката во время следствия и суда, свобода от ареста до вынесения судебного решения, запрет на конфискацию имущества у семьи, глава которой признан виновным в политических преступлениях. Протоколы заседаний комитета марта 1763 года показывают, что Бестужев-Рюмин осуждал культуру доносительства, но при этом имел в виду доносы крестьян на помещиков. Социальная программа Бестужева-Рюмина сводилась к тому, чтобы вновь утвердить «ту беспредельную власть над их [дворян] законно принадлежащими крестьянами и крепостными людьми» [Омельченко 2001: 25].
Хотя коллективное мнение членов комиссии выразилось в статьях декларации, преамбулу и обоснования к статьям, скорее всего, написал сам Теплов. Проведенное в преамбуле различие между необразованным дворянством петровского времени и «просвещенным» екатерининским дворянством, возможно, отражало мысль Теплова о том, что любое общество можно классифицировать как «варварское» либо «политическое». Омельченко отмечает, что в этом различении Теплов следует Христиану Вольфу [Омельченко 2001: 42–43]. В обосновании к статье 13, запрещающей произвольный арест дворян и телесные наказания для них, Теплов писал, что при аресте обвиняемого дворянина, вина которого еще не доказана, «не инако как наказание невинному уже делается, когда оно без суда и без обличения или без неоспоримаго свидетельства доказательства чинится» [СИРИО 1867–1916, 7: 254]. Мнение Теплова было, возможно, основано на его общем понимании закона, но также оно может быть обусловлено и его горьким жизненным опытом. Теплов дважды подвергался аресту: один раз в связи с делом Волынского в 1740 году, второй раз – в марте 1762 года, при Петре III. Допрашивая Теплова по делу Волынского, следователи пытались установить связь Теплова с заговором против монарха. По второму делу Теплова обвинили в том, что он критически высказывался в адрес Петра III, и арестовали за измену. Теплов указывал на то, что незнаком с политическими взглядами Волынского, что было неправдоподобно, учитывая всем известные реформаторские настроения Волынского и его нескрываемую неприязнь к императорскому фавориту. Во втором случае Теплов также заявлял о своей невиновности, несмотря на то, что в действительности он был замешан в заговоре [Daniel 1991: 4–7, 22–25]. Следует отметить, что в случае с Волынским арест Теплова можно объяснить принципом «виновности по связи», тогла как во втором деле на него донесли. В целом обоснование прав русского дворянства Тепловым опиралось на российский исторический опыт и теории Христиана Вольфа, но также, в значительной степени, на римское право и кодекс Юстиниана [Омельченко 2001: 44–45].
Проект Панина 1762 года подготовил почву для декларации прав российского дворянства 1763 года. Декларация пошла дальше проекта Панина, поскольку в ней содержалась попытка наделить политическую элиту личными правами. Хотя декларация была составлена на полгода позже панинского проекта, в определенном смысле она явилась его логической предпосылкой. Неудивительно, что Панин подписал оба документа.
Глава 10
Денис Фонвизин и искусство политики
Д. И. Фонвизин (1744 или 1745–1792) был самым талантливым драматургом екатерининской эпохи. Современники, ценившие его эксцентричную образованность, язвительный ум и изобретательность выражений, считали его «русским Мольером»1717
Эта ремарка, сделанная в ретроспективе в Санкт-Петербургском журнале за июль 1798 года, процитирована в [Пигарев 1954: 256].
[Закрыть]. Две его комедии – «Бригадир» (написана в 1769 году, опубликована в 1783 году) и «Недоросль» (написана около 1782 года, опубликована в 1783 году) – стали основой русского театра, оказав влияние на более поздних писателей, таких как Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Великий драматург XIX века А. Н. Островский считал его «гениальным» писателем из числа тех, что «умели писать для всего народа», чьи произведения были «истинно народными» [Островский 1941: 64; Пигарев 1954: 274]. Статус Фонвизина как комического писателя выдержал испытание временем, несмотря на его очевидные недостатки как драматурга. Ему не хватало ни шекспировского умения изображать характерные индивидуальные черты, ни чеховского мастерства запечатлевать уходящий исторический момент, ни умения выстраивать драматическое действие, присущего Расину и Корнелю. В худшие свои моменты, например во втором явлении четвертого действия «Недоросля», он был занудно дидактичен. Но российские театралы прощали ему эти недостатки за то, что Фонвизин так ясно понимал мелкие несправедливости русской жизни и тоску простого народа по достойному обращению. Возможно, его критические зарисовки русских государственных чиновников, которые в «Бригадире» представали подлыми, продажными и тираническими, а в «Недоросле» – воплощением мудрости и справедливости, также нашли отклик в русском сознании как архетипы той убогой реальности, которую все они знали, и той высшей реальности, к которой стремилась страна.
Будучи крупным писателем, Фонвизин тем не менее написал сравнительно немного оригинальных произведений. Однако он был одной из основных фигур литературной среды екатерининской эпохи. Под его руководством были переведены с латинского, французского и немецкого языков произведения Овидия, Вольтера, датского моралиста Людвига Хольберга, немецкого камералиста Иоганна Генриха фон Юсти, французского поэта Поля Жереми Битобе. Фонвизин был государственным служащим с хорошими связями. Он работал под началом двух самых влиятельных екатерининских сановников: с 1762 по 1769 год служил при статс-секретаре И. П. Елагине, а с 1769 по 1783 год – у графа Н. И. Панина. Служа личным секретарем Панина в Коллегии иностранных дел, он стал знатоком русской дипломатии и разбирался в самой щекотливой проблеме внутренней политики – отношениях между Екатериной и царевичем Павлом. Большинство современников 1770-х – начала 1780-х годов считали Фонвизина членом окружения Панина и, следовательно, сторонником Павла в борьбе с императрицей. Сочинение Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах» (написано совместно с Никитой Паниным около 1783 года, опубликовано в 1907 и 1947 годах по непроверенным источникам, в 1959 году издано по оригинальной рукописи) – один из самых замечательных политических документов России конца XVIII века1818
Об истории публикаций «Рассуждения» см. [Макогоненко 1959: 653–654].
[Закрыть].
Главное противоречие в политических взглядах Фонвизина и в его отношении к Просвещению – одновременное влечение к французской мысли и обеспокоенность по поводу ее секулярного характера – проявилось в «Бригадире» не только в злобном высмеивании галломании, но и в его письмах из Франции в 1777–1778 годов. Эти письма, распространявшиеся в рукописях среди друзей и близких Фонвизина, представляли собой самый свежий, самый глубокий критический анализ французской жизни, написанный русским человеком до 1789 года. В них шла речь о социальных проблемах, которые уже угрожали существованию французской монархии, и понимался вопрос о том, мудро ли себя ведут русские, подражающие французской культуре, лежащей в основе французского государства. Конечно, Фонвизин был не единственным русским писателем, испытывавшим опасения по поводу французской культуры и влияния французского мышления на русскую жизнь. Вопрос о культурной автономии страны стал важнейшим и для двух великих историков эпохи, М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, но Фонвизин, возможно, яснее, чем кто-либо другой в его время, понимал опасность культурной зависимости.
Ум моралистаФонвизин родился в Москве в семье относительно зажиточного дворянина, имевшего «не более пятисот душ» [Фонвизин 1959, 2: 83]. Его отец, Иван Андреевич, служивший в ревизион-коллегии, был старомодным христианином, не брал взяток, отвергал дуэли как средство решения личных споров и гордился строгим соблюдением писаных законов. Иван Андреевич не знал иностранных языков, но, по воспоминаниям Д. Фонвизина, «любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг» [Фонвизин 1959, 2: 82]. Иван Андреевич учил сына, заставляя читать «церковные книги» и объяснял незнакомые слова [Фонвизин 1959, 2: 87]. Мать Фонвизина, Екатерина Васильевна (урожденная Дмитриева-Мамонова), «имела разум тонкий и душевными очами видела далеко». Фонвизин писал о ней: «жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная» [Фонвизин 1959, 2: 84]. Как и Иван Андреевич, она была благочестивой православной христианкой. По праздникам местный священник служил в доме Фонвизиных всенощную [Фонвизин 1959, 2: 87]. Члены семьи также регулярно читали вместе Священное Писание и слушали пересказ библейских историй. Фонвизин вспоминал, как его в детстве до слез растрогала история Иосифа в пересказе отца [Фонвизин 1959, 2: 86].
В 1755 году, в возрасте 10 или 11 лет, Фонвизин поступил в латинскую гимназию для дворян при Московском университете. Там он изучал языки (латинский, немецкий и, неофициально, французский), географию, математику, риторику и философию. В автобиографическом отрывке, написанном в конце 1780-х годов, он довольно критически отзывался о своих учителях: учитель латыни был «пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков» [Фонвизин 1959, 2: 91]; учитель немецкого языка был «тупее прежнего, латинского» [Фонвизин 1959, 2: 88]; учитель арифметики «пил смертную чашу» [Фонвизин 1959, 2: 91]. Однако Фонвизин был в восхищении от учителя риторики Н. Н. Поповского, переводчика «Опыта о человеке» Александра Поупа (издан в 1732–1734 годах). Фонвизин «высоко почитал» сочинение Поупа, а его перевод был ему «очень знаком» [Фонвизин 1959, 2: 104].
Произведение Поупа, вероятно, познакомило Фонвизина с представлениями западных просветителей о божественной упорядоченности Вселенной, действующей по неизбежным естественным законам, и с вытекающей отсюда идеей о том, что человеческое понимание добра и зла в какой-то степени является продуктом нашего ограниченного постижения божественного замысла1919
Перевод Поповского «Опыта о человеке» А. Поупа появился в 1754 году. Фонвизин, скорее всего, читал издание 1757 года [Поповский 1757].
[Закрыть]. Литературовед К. В. Пигарев высказал предположение, что на Фонвизина оказали влияние и представления Поповского об общественном устройстве. Он утверждает, что такие идеи Поповского, как защита добродетели, похвала родителям, воспитывающим детей в «строгости обычаев святых», объясняющим, «хвально что, бесчестно», сетование, что «…в наш несчастный век проклятые пороки / Взошли на самый верх…», стали темами сочинений Фонвизина [Пигарев 1954: 43–44]2020
Пигарев цитирует «Послание о пользе наук и о воспитании в оных юношества», опубликованное Н. Новиковым в журнале «Живописец» в 1772 году.
[Закрыть].
Первое знакомство Фонвизина с театром произошло, возможно, в 1757 году (дата спорная) в университетском театре в Москве, где ему довелось увидеть пьесу Людвига Хольберга2121
Пьеса шла под русским названием «Гордость и бедность» и, возможно, представляла собой адаптацию пьесы Хольберга «Jeppe på Bjerget» (1722).
[Закрыть]. Сам Фонвизин утверждал, что впервые в жизни он был в театре в Петербурге в январе 1760 года, когда посмотрел пьесу Хольберга «Хенрик и Пернилла» (1724–1726) с элементами комедии дель арте [Фонвизин 1959, 2: 92–93]. Благодаря Хольбергу Фонвизин познакомился с некоторыми приемами комического жанра, такими как социальная инверсия, развитие «недоразумений» между архетипическими персонажами, столкновение противоборствующих этических воззрений в нелепых социальных коммуникациях.
Моралистика была источником комического гения Хольберга и также стала элементом будущей драматургии Фонвизина. В 1761–1765 годах Фонвизин перевел и опубликовал 225 «Басней нравоучительных» Хольберга [Фонвизин 1959, 1: 263–411]. Переводя «Басни», Фонвизин научился сокращать и упрощать повествование и выводить нравоучение из отношений персонажей, изображенных в общих чертах.
Басни Хольберга принадлежали к жанру философского повествования о добродетели. Например, в басне 183 («Пан делает учреждение») животные, а значит, и люди классифицируются по степени полезности. Так, к высшему классу животных отнесены пчелы и шелкопряды, потому что «они не только великие художники, но и великую приносят пользу»; животные второго класса (верблюды и ослы) прилежно трудятся; животные третьего класса (петухи и собаки) «несколько полезны»; животные четвертого класса (муравьи, пауки) могут похвастаться искусностью в устройстве дома; животные низшего класса (львы, тигры, волки, мыши) «проводят жизнь свою или совсем бесполезно, или еще и вредно» [Фонвизин 1959, 1: 387–389]. Не требуется особых усилий, чтобы увидеть в этой басне элементы социальной инверсии, направленной против традиционной социальной иерархии: хищные животные, находящиеся на вершине пищевой цепочки, такие как лев («царь леса»), отнесены к низшему классу «рационального» социального устройства. В басне 60 («Лисицыно нравоучение») Хольберг обличает лицемерие придворных, живущих по таким правилам, как «Ни в чем правды не держись, когда желаешь найти в свете свое счастие» или «Не говори того, о чем мыслишь, и старайся, чтоб всегда сердце с языком было несогласно» [Фонвизин 1959, 1: 306–308]. Хольберг, однако, был реалистом и понимал, что мир не всегда вознаграждает за добродетель. В басне 2 («Крестьянин и собака») показана человеческая неблагодарность и вероломство по отношению к добродетельным людям [Фонвизин 1959, 1: 263–264]. Читая эту басню сегодня, можно вспомнить определение человека у Достоевского в «Записках из подполья» как «существа на двух ногах и неблагодарного». Басня 100 («Суд между правдой и ложью») говорит о том, что человек предпочитает ложь правде [Фонвизин 1959, 1: 331]. В басне 49 («Превращение юстиции») утверждается, что мир считает «юстицией» то, что является лишь испорченным подобием истинного правосудия [Фонвизин 1959, 1: 299–300]. А в басне 177 («Козел ищет правосудия») отмечается, что для простых людей подлинное правосудие недостижимо [Фонвизин 1959, 1: 384].
Хольберг высмеивал плачевное состояние истории, которая в басне 73 («Судьба истории») вместо того, чтобы обличать своевольных королей и заблудших придворных, стала опорой существующего общественного строя, [Фонвизин 1959, 1: 316]. Не щадит он и «суеверные» религиозные обряды, и жреческую касту, увековечивающую суеверия. В басне 114 («Юпитер посещает лес») критикуются религии, основанные на жертвоприношениях и бормотании молитв, и восхваляются те, что опираются на спокойный, полезный труд [Фонвизин 1959, 1: 342–343]. В басне 87 («Об осле, который проглотил месяц») Хольберг сожалеет, что реально существующий мир предпочитает суеверие разуму [Фонвизин 1959, 1: 324].
Стоит ли говорить, что мир двуличия, неправосудия, неблагодарности, лицемерия и суеверия, который описывал Хольберг, был также и миром Фонвизина в начале 1760-х годов. И потому ворчливая моралистика Хольберга стала одной из составляющих будущих комедий Фонвизина.
После окончания Московского университета в 1762 году Фонвизин вступил в период религиозных сомнений, продолжавшихся до конца 1769 – начала 1770 года. Об этом нам известно из его «Чистосердечного признания в делах моих и поступках» – покаянной автобиографии, написанной в конце 1780-х годов в противовес «Исповеди» Руссо [Фонвизин 1959, 2: 81–105]. В «Чистосердечном признании» Фонвизин вспоминал:
…в то же самое время [около 1762–1763 годов] вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно [Фонвизин 1959, 1: 95].
Хотя он и не назвал имен членов кружка «безбожников», к которому принадлежал, историки считают, что его возглавлял Ф. А. Козловский. Возможно, Фонвизин познакомился с Козловским в Москве, где оба были студентами университета, но из писем Фонвизина лета 1763 года известно, что оба мыслителя встречались в Санкт-Петербурге [Фонвизин 1959, 2: 319–320]. Козловский был незначительным писателем: его единственной сохранившейся оригинальной публикацией было стихотворение по мотивам пьесы Сумарокова «Синав и Трувор»2222
Стихотворение принадлежит Сумарокову [Сумароков 1957: 295]. Автор приводит следующую атрибуцию: «[Федор Алексеевич Козловский]. Стихи Ивану Афанасьевичу Дмитревскому, на представление Синава и Трувора, Трагедии, сочиненной Его превосходительством Александром Петровичем Сумароковым [s.l. 1766?]».
[Закрыть]. Однако он страстно пропагандировал вольтеровскую критику религии и перевел несколько статей из «Энциклопедии» Дидро [Рассадин 2008: 82–83].
В период критического отношения к религии Фонвизин опубликовал два примечательных произведения: стихотворение «Послание к слугам моим» (написано в начале 1760-х годов, опубликовано в 1769 году), с подзаголовком «Шумилову, Ваньке и Петрушке», и перевод пьесы Вольтера «Альзира, или американцы» (1736).
В «Послании слугам» Фонвизин ставит вопросы: «…на что сей создан свет?.. Боишься Бога ты, боишься сатаны, / Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?» Шумилов, «дядька» и наставник Фонвизина, отвечает:
…не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами;
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной
[Фонвизин 1959, 1: 209].
Ванька, кучер Фонвизина, говорит:
На все твои затеи
Не могут отвечать и сами грамотеи.
И мне ль о том судить, когда мои глаза
Не могут различить от ижицы аза!..
Москва и Петербург довольно мне знакомы,
Я знаю в них почти все улицы и домы.
Шатаясь по свету и вдоль и поперек,
Что мог увидеть я, того не простерег
Видал и трусов я, видал я и нахалов,
Видал простых господ, видал и генералов;
А чтоб не завести напрасный с вами спор,
Так знайте, что весь свет считаю я за вздор…
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Затем Ванька добавляет:
Да, сверх того, еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,
Друг друга – господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман…
За деньги самого Всевышнего Творца
Готовы обмануть и пастырь и овца!
[Фонвизин 1959, 1: 210–211].
Фонвизинский лакей Петрушка называет мир «ребятской игрушкой» и говорит, что секрет жизни таков:
Лишь только надобно потверже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал Бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.
Петрушка представляет Бога бессмысленно жестоким:
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак
[Фонвизин 1959, 1: 211–212].
В завершение стихотворения рассказчик-хозяин подтверждает вывод Петрушки: «А вы внемлите мой, друзья мои, ответ: / “И сам не знаю я, на что сей создан свет!”» [Фонвизин 1959, 1: 212].
В «Послании к слугам» Фонвизина представлены четыре типа отношений к сотворенному миропорядку: нежелание Шумилова познавать Божий замысел, осуждение мира как места эксплуатации и обмана у Ваньки, гедонизм Петрушки и недоумение рассказчика по поводу цели творения. В «Чистосердечном признании» Фонвизин утверждал, что некоторые стихи «Послания» «являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником». Однако он считал обвинение в безбожии ошибочным: «Но, Господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей» [Фонвизин 1959, 2: 95]. Литературовед Рассадин предположил, что критическое отношение Фонвизина к «Посланию к слугам» «могло быть и не вовсе искренним», учитывая, какую гордость Фонвизин испытывал за это свое стихотворение [Рассадин 2008: 83–84]. Советские интерпретаторы также в общем были склонны считать стихотворение «памятником русского философского свободомыслия XVIII века» [Пигарев 1954: 78], в котором Фонвизин «высмеивает основы церковного учения и защитников религии, проповедующих божественную мудрость в создании мира и человеческого общества» [Макогоненко 1961: 21].
На мой взгляд, обвинение Рассадина в том, что Фонвизин неискренне сожалел о своем «заблуждении», не имеет под собой оснований, если «заблуждение» сводилось к недоумению по поводу бесцельности сотворенного миропорядка. Рассадин и сам признает: «богохульствовали и святые – они, быть может, более других» [Рассадин 2008: 80]. Ему бы следовало только добавить, что святые, как никто другой, в итоге сожалеют о том, что порицали Божью мудрость. Был ли Фонвизин последователен в том, чтобы сожалеть о своем «заблуждении» и при этом гордиться самим стихотворением – другой вопрос. Как литературное произведение, рассматриваемое с точки зрения формы, «Послание к слугам» замечательно ясностью повествования, использованием простонародной речи, социальной критикой, легкостью интонации. Не зря им восхищался Пушкин, а раз так, то почему бы Фонвизину не дорожить своим творением, пусть даже оно плод «заблуждения»?2323
Дань уважения Фонвизину Пушкин отдал в стихотворении «Тень Фонвизина» [Пушкин 1994–1999, 1: 119–125]. Пушкин приписывает Фонвизину скептический гедонизм Петрушки: «Вздохнул Денис: “О Боже, Боже! / Опять я вижу то ж да то же. / Передних грозный Демосфен, / Ты прав, оратор мой Петрушка: / Весь свет бездельная игрушка, / И нет в игрушке перемен”» [Пушкин 1994–1999, 1: 120].
[Закрыть]
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?