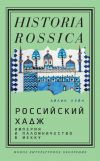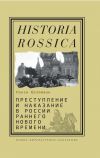Текст книги "Россия. Путь к Просвещению. Том 2"
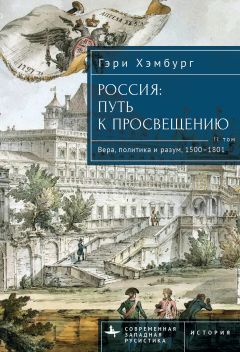
Автор книги: Гэри Хэмбург
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Другую крайнюю точку зрения на Фонвизина, противоположную Вяземскому, предлагал советский литературовед Г. П. Макогоненко, который рассматривал «Бригадира» как политический трактат, направленный против сословных, дворянских привилегий и «идеологии рабовладельцев» [Макогоненко 1961: 108–109]. Макогоненко полагает, что Фонвизин написал пьесу зимой 1768–1769 годов, после событий, связанных с Уложенной комиссией. По его мнению, Фонвизин был единомышленником Григория Коробьина и философа Я. П. Козельского, а также других критиков крепостного права, входивших в состав Уложенной комиссии. Фонвизин, как считает Макогоненко, был также оппонентом Михаила Щербатова, который в публичных дебатах выступал против резкого освобождения крепостных [Макогоненко 1961: 97–104]. По мнению Макогоненко, «Бригадир» – это систематическая защита просвещенческой идеологии Фонвизина, где Софья и Добролюбов представляют чистые просветительские идеалы (человеческое достоинство, честь и сострадание), противостоящие ретроградам-помещикам и политическим реакционерам вроде бригадира и советника [Макогоненко 1961: 112–115]. Макогоненко утверждает, что в своем художественном методе Фонвизин сознательно отходит от классицизма Сумарокова и других драматургов XVIII века в пользу нарождающегося реализма [Макогоненко 1961: 117–135]. Этот «реализм» в большинстве сцен сводится к сатирическому «обнаружению» «паразитической жизни» русского дворянства [Макогоненко 1961: 142].
Правота Вяземского в этой дискуссии в том, что в комическом методе Фонвизина действительно есть элемент карикатуры, однако Вяземский был не прав, игнорируя политическую повестку пьесы. Макогоненко, со своей стороны, придал слишком большое значение политическому содержанию пьесы, представив комедию как идеологический «памфлет» в защиту просвещения и против «паразитизма» владельцев крепостных. Затруднение для Макогоненко представлял финал пьесы, в котором происходит помолвка Софьи с богатым помещиком Добролюбовым, поскольку тем самым как бы подтверждается правомерность крепостного права как основы общественного строя. Также Макогоненко проигнорировал неудобную для него фонвизинскую критику галломании: он не стал ее анализировать, отделавшись от Иванушки фразой об «идиотически бессмысленной жизни двадцатипятилетнего бездельника» [Макогоненко 1961: 105].
На самом деле карикатура Фонвизина на дворянские нравы была одним из признаков продолжающейся трансформации российского общества под влиянием западных ценностей – процесса, инициированного Петром I и ускоренного Екатериной II в первые годы ее царствования. В глазах Фонвизина эта трансформация, имевшая много положительных сторон, была одновременно и смешной, и, в некоторых отношениях, потенциально трагичной, особенно в связи с исчезновением грамматики и распадом смысла. Фонвизин не был однозначным или, по выражению Михаила Бахтина, «монологическим» поборником Просвещения, каким его представил Макогоненко. Фонвизин достаточно ясно понимал ценность индивидуализма, толерантности, разума и человеческого достоинства, но его беспокоило, что французские представления о личной нравственности приведут к разладу в российской семейной жизни, обществе и культуре. Грозная финальная реплика советника – «жить без совести всего на свете хуже» – напоминала россиянам, что за отказом от традиционной религии следует ад.
Из «Чистосердечного признания» Фонвизина известно, что он читал «Бригадира» своему покровителю Елагину, Екатерине и Павлу, Никите и Петру Паниным, Захару Григорьевичу и Ивану Григорьевичу Чернышевым, А. С. Строганову, членам семей Шуваловых, Воронцовых, Румянцевых, Бутурлиных [Фонвизин 1959, 2: 96–101]. Эта аудитория не только задавала тон русской высокой культуре, покровительствуя писателям, но и в значительной степени несла коллективную ответственность за политический курс России. Чем объяснить их благосклонность к «Бригадиру», пьесе, нашпигованной скрытой, а то и явной социальной и политической критикой?
Ответ отчасти в том, что в пьесе Фонвизина критикуются только отставные чиновники. Бригадир в последний раз участвовал в военных действиях в турецкой войне 1735–1739 годов – это единственная кампания, которую он упоминает в четвертом явлении третьего действия. Советник ушел с государственной службы в год издания императорского указа о борьбе со взяточничеством, то есть в 1762 году. В этих фактах легко читается прозрачный намек на то, что бригадир и советник у Фонвизина олицетворяют пороки государственных чиновников доекатерининской эпохи. Кроме того, благосклонный прием произведения Фонвизина объясняется тем, что Екатерина сама неоднократно выступала с критикой российских законов и нравов в «Наказе», а с 1769 года – в своем сатирическом журнале «Всякая всячина». Поэтому она не была склонна считать Фонвизина своим критиком. Напротив, она, скорее всего, видела в нем потенциального союзника, тем более что Елагин, покровитель Фонвизина, был также ее союзником и протеже. И, наконец, нападки Фонвизина на русскую галломанию вполне вписывались в русло критики французской моды, восходящей к пьесе Сумарокова «Третейный суд» (1750). В произведениях, критикующих русскую галломанию, среди которых были «Жан де Моле, или Русский француз» (1764) Елагина и «Россиянин, возвратившийся из Франции» (1760-е) А. Гр. Карина, высмеивались русские, стыдившиеся своей русскости2727
Текст пьесы А. Карина утрачен. Пьеса Елагина является переработкой пьесы Хольберга «Jean de France eller Hans Frandsen» (1722).
[Закрыть]. Позднее и Екатерина написала в этом жанре пьесу «Именины госпожи Ворчалкиной» (1772).
Фонвизин искал для «Бригадира» высочайшей аудитории. Как мы уже отмечали выше, он читал пьесу Н. И. Панину и великому князю Павлу. Панин считал, что бригадирша очень удалась как персонаж: «Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». Про пьесу Фонвизина он говорил: «Это в наших нравах первая комедия» [Фонвизин 1959, 2: 99]. Панин организовал чтение пьесы перед Павлом, представил драматурга будущему императору и способствовал их общению. В показном дружелюбии Панина к Фонвизину был большой элемент политического расчета: он стремился приблизить Фонвизина ко двору царевича и, вероятно, надеялся уговорить Фонвизина работать у себя личным секретарем в Коллегии иностранных дел. Макогоненко предполагает, что уже в 1769 году Фонвизин решил уйти со службы у Елагина и перестать поддерживать Екатерину [Макогоненко 1961: 151–156]. Поэтому, когда в конце 1769 года Панин обратился к Фонвизину с предложением, Фонвизин сразу же ответил: «Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством» [Фонвизин 1959, 2: 98].
С точки зрения карьеры Фонвизина события конца 1769 года определили его дальнейший путь почти на 14 лет – вплоть до смерти Панина в марте 1783 года. В течение этого времени он был секретарем, доверенным лицом и политическим союзником Панина. В памятном слове на смерть Панина Фонвизин писал: «…не было ни одного дела, касательного до пользы и благосостояния империи, в котором бы он не участвовал или собственными трудами, или советами» [Фонвизин 1959, 2: 282]. «Главнейшие правила», которыми Панин руководствовался в ведении дел, Фонвизин изложил следующим образом: «1-е) Что государство может всегда сохранить свое величие, не вредя пользам других держав… 2-е) Что толь обширная империя, какова есть Россия, не имеет причины употреблять притворства и что единая только искренность должна быть душою ее министерии… 3-е)… рассуждать о делах с кротостию и дружелюбием». Во внутренних делах, как отмечал Фонвизин, Панин выступал против сложившейся в России культуры государственной тайны. Он выступал за обнародование основных бюджетных данных о расходах и налоговых поступлениях, «о чем в просвещенном народе все должны ведать». Панин выступал против произвола в отношении обвиняемых по уголовным делам, считая его оскорбительным для правосудия. В целом Панин выступал за «государственное благоустройство» и поэтому осуждал «корысть и пристрастие [в судах]», а также всякий обман государя или образованной публики. Его «поражал ужасом» любой «подлый поступок» чиновников и придворных [Фонвизин 1959, 2: 282–284].
Принципы управления Панина были основаны не только на его личном кодексе добродетели, в котором главное место занимали честность и справедливость, но и на здравом рассуждении о том, что секретность, произвол и обман рано или поздно воспрепятствуют осуществлению международных и внутренних интересов России. Правила Панина произвели на Фонвизина глубокое впечатление, отчасти потому, что соответствовали его собственным взглядам на политику, а также приносили ему успех в дипломатических делах.
Политические взгляды Фонвизина 1770-х годов нашли отражение в произведениях: «Слово на выздоровление его Императорского высочества Государя цесаревича и Великого князя Павла Петровича в 1771 годе», перевод «Слова похвального Марку Аврелию» Антуана-Леонара Тома (оригинал опубликован в 1775 году, перевод Фонвизина издан анонимно в 1777 году), а также в письмах из Франции (написаны в 1777–1778 годах, большинство из них опубликованы в 1830 году).
В «Слове» Павел превозносится за то, что он перенес болезнь с «крепостию духа», в бескорыстном великодушии по отношению к народу [Фонвизин 1959, 2: 190–191]. Автор «Слова» призывает царевича выразить благодарение за восстановленное здоровье, признав необходимость повиноваться Божьему закону, «который есть вся сила и безопасность законов человеческих». По мнению Фонвизина, Павел в будущем должен быть «правосуден, милосерд, чувствителен к бедствиям людей» и не искать «другия себе славы», помимо народного расположения, поскольку «любовь народа есть истинная слава государей». Фонвизин советует Павлу владеть своими страстями, быть верным истине и считать лесть «изменою», так как «нет верности к государю, где нет ее к истине» [Фонвизин 1959, 2: 192–193]. «Слово» Фонвизина принадлежит к традиционному жанру «княжеского зерцала» с акцентом на правосудие, милосердие и благотворительность бедным. Однако в замечании Фонвизина о том, что «любовь народа есть истинная слава государей», чувствуется дух Локка и особенно Руссо. Стоит отметить, что «Слово» Фонвизина, в котором подчеркивалась важность истины и верности, возможно, было упражнением в притворстве, поскольку Фонвизин восхвалял Екатерину за ее заботу о болеющем Павле. Как, несомненно, знал Фонвизин, в 1771 году при дворе ходили слухи об отравлении Павла с намеком на причастность к нему Екатерины [Макогоненко 1961: 151–156].
В «Слове похвальном Марку Аврелию» Антуан Леонар Тома ставит римского стоика в пример современным правителям. По мнению Тома, Марк был идеальным императором: ценителем истины и добродетели, знатоком истории и законов, скромным человеком, который ненавидел придворные интриги, и подлинным философом. По словам Тома, Марк считал, что философия – это «наука исправлять людей просвещением» [Фонвизин 1959, 2: 199]. Тома сопоставляет Марка не с римскими императорами, а с республиканцами Катоном и Брутом [Фонвизин 1959, 2: 199–200]. Для Марка, в изложении Тома, «для всех душ есть един разум», а если разум один, «то надлежит быть и единому закону» [Фонвизин 1959, 2: 202]. Поэтому долг каждого человека – «терпеть все, что налагает на тебя естество вселенныя, и делать все, чего твое человеческое естество требует». Для императора этот этический императив означал: «Если в целом свете прольется одна слеза, которую ты мог предупредить, ты уже виновен» [Фонвизин 1959, 2: 203]. По мысли Тома, Марк понимал, что императору в исполнении этого долга мешают корыстные придворные, преувеличивающие богатство страны и преуменьшающие ее проблемы. Марк пытался противостоять этому организованному обману, помня о своем этическом призвании и руководствуясь разумом [Фонвизин 1959, 2: 205–207], то есть понимая, что «источник твоих действий должен быть в душе твоей, а не в душе других» [Фонвизин 1959, 2: 208]. Император должен жить, «утешая скорбных, услаждая жизнь несчастных» [Фонвизин 1959, 2: 210], отстаивать свободу и бороться с рабством, «ибо где токмо владыко и рабы, тамо нет общества» [Фонвизин 1959, 2: 211–212].
Марк Аврелий у Тома определяет свободу как «первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться», ибо «ни один человек не имеет нрава повелевать другим самовольно» [Фонвизин 1959, 2: 212]. Сам император, писал Тома, должен придерживаться законов и считать подчинение закону честью для себя, ибо «власть делать неправосудие есть слабость». По мысли Марка Аврелия, «образ государственного правления перемениться может, но права граждан всегда те же» [Фонвизин 1959, 2: 213].
Тома считает также, что Марк Аврелий стремился защитить собственность римских граждан. Эта политика предполагала борьбу с разбойниками, но при этом отказ от излишних налогов, так как поборы в казну представляли собой «некий род войны, где часто закон поставляем был против правосудия и государь против подданных» [Фонвизин 1959, 2: 214]. В то же время Марк ненавидел роскошь и считал необходимым облагать налогами богатых, чтобы не допустить ее распространения. Он считал спартанские жилища «блистательнее и величественнее златых палат, в коих тираны… жили» [Фонвизин 1959, 2: 216].
В отношении судов Марк принимал меры против взяточничества судей, а также против ложных доносов на обвиняемых. Он требовал, чтобы арестованным по уголовным делам сообщали о предъявляемых им обвинениях, и утверждал, что арестованные должны иметь право на надлежащую правовую защиту [Фонвизин 1959, 2: 217–218]. Марк рассматривал суды как места отправления правосудия, где император мог видеть «подробности людских несчастий» и таким образом приобрести знания, которые приблизят его к народу [Фонвизин 1959, 2: 219].
По убеждению Тома, император должен всегда помнить, что «природа создала существа в свободе и равенстве; настало тиранство и сотворило существа слабые и несчастные» [Фонвизин 1959, 2: 220]. Поэтому император должен прибегать к законам как к защите от тирании, но главным препятствием для нее всегда должен быть его личный пример [Фонвизин 1959, 2: 222].
Фонвизин, вероятно, перевел «Слово похвальное Марку Аврелию» Тома в качестве руководства для царевича Павла. Возможно, в этот перевод он также вложил завуалированный упрек в адрес Екатерины. Упор Тома на разум, добродетель и любовь к свободе в рамках закона, защита прав собственности и справедливое налогообложение, стремление к правовому государству – все это составляло политическую платформу благоустроенных государств по всей Европе. Характеристика Марка Аврелия как противника рабства приобрела особую актуальность в России после Пугачевского бунта: к концу 1770-х годов всем высшим слоям страны стало ясно, что принудительный труд чреват социальными волнениями и даже революцией. Если десятилетием раньше Фонвизину не хватило смелости публично выступить против крепостного права, то теперь, возможно, он решился выразить критику посредством перевода «Слова» Тома. Наиболее запоминающиеся фрагменты «Слова» – размышления о свободе и об опасностях тирании – в русском контексте были потенциально взрывоопасными, поскольку могли послужить знаменем в «борьбе двух дворов» – двора «добродетельного, свободолюбивого Павла» и официального двора «тиранической» Екатерины.
Такая интерпретация намерений Фонвизина при переводе «Слова» подтверждается рецензией, опубликованной в «Санкт-Петербургском вестнике» в 1778 году. В рецензии, подписанной инициалом «Ф», говорилось, что книга «будет всегдашним обличением слабому или не соответствующему пользе народа, а в то же время хвалою всякому премудрому и благотворительному правлению, в котором земные владетели вменяют себе за славу вещать, что они сотворены для своего народа»2828
Известия о новых книгах // Санкт-Петербургский журнал, февраль 1778 года, часть 1, с. 56–59. Цит. по: [Макогоненко 1961: 172].
[Закрыть]. По мнению Макогоненко, автором рецензии должен быть «кто-то очень близкий к Фонвизину», если не сам Фонвизин [Макогоненко 1961: 173–174].
В августе 1777 года Фонвизин посетил Францию с дипломатической миссией: ему было поручено содействовать проведению антибританской политики Панина, побуждая французское правительство поддержать американских колонистов в их восстании против Великобритании. Для выполнения поручения Фонвизину потребовались консультации с российским послом во Франции И. С. Барятинским относительно намерений французского правительства. Кроме того, Фонвизин должен был сделать все необходимое, чтобы продемонстрировать дружелюбие России по отношению к американским колонистам. После того как в марте 1778 года Великобритания объявила войну Франции, Фонвизин энергично отстаивал политику «вооруженного нейтралитета» Панина по отношению к французам и англичанам, благоприятствовавшую ходу восстания американских колонистов против Великобритании. Отдавая дань памяти Панину после его смерти в 1783 году, Фонвизин назвал политику вооруженного нейтралитета одним из самых «достопамятных дел» Панина [Фонвизин 1959, 2: 282]. Кстати, выполняя вторую часть своего задания по демонстрации дружественного отношения России к американцам, Фонвизин встретился с американским «послом» во Франции Бенджамином Франклином на собрании «Республики ученых» в июне 1778 года. В ходе встречи Фонвизин публично обменялся любезностями с Франклином, явив пример того, что позже стали называть культурной дипломатией.
Для наших целей наиболее значимым результатом визита Фонвизина во Францию является его переписка с семьей и с Паниным. Переписка состояла из восьми писем к родным (отцу, матери и сестре Феодосии Ивановне), в которых излагались подробности путешествия, а также впечатления от французского общества и культуры, и восьми писем к Панину, написанных в период с 22 ноября 1777 года по 18 сентября 1778 года и посвященных французскому обществу и культуре. Как и следовало ожидать, письма Фонвизина к семье написаны по-свойски, в то время как письма к Панину носят более официальный характер; впрочем, обе категории писем могли быть написаны с учетом возможной публикации2929
В 1788 году Фонвизин дал объявление о плане издания пятитомного собрания сочинений, в которое должны были войти «разные письма» [Макогоненко 1959: 627–628].
[Закрыть]. Копии писем из Франции Фонвизин, очевидно, распространял среди друзей. Однако в печати письма появились лишь в 1830 году, и даже тогда в публикации отсутствовало первое из писем к семье [Макогоненко 1959: 647].
Письма Фонвизина к семье дают основание предположить, что одной из «частных» целей его визита во Францию была оценка «уровня» французской культуры: была ли Франция «лучшей страной», чем Россия? Была ли она «более развитой» или «более просвещенной» цивилизацией? На эти вопросы Фонвизин ответил: «Нет». Более того, он, кажется, сразу же отшатнулся от французов. В письме к родным от 18 сентября 1777 года он жаловался на «мерзкую вонь» на городских улицах в районе крепости Ландау в Нижнем Эльзасе; с отвращением отмечал, что «о чистоте не имеют здесь нигде ниже понятия» [Фонвизин 1959, 2: 418]. Похожим образом он жаловался на Лион, добавляя, что «надлежит зажать нос, въезжая в Лион, точно так же как и во всякий французский город» [Фонвизин 1959, 2: 420]. Французские религиозные церемонии на улицах Страсбурга показались ему «целой комедией»: «С непривычки их церемония так смешна, что треснуть надобно [от смеха]» [Фонвизин 1959, 2: 418]. В той же мере его позабавила церковная процессия в Монпелье, где лакеи помогали облачаться перед мессой местному епископу: «Я покатился со смеху, увидя эту комедию» [Фонвизин 1959, 2: 425]. Наблюдая за заседаниями государственных чиновников в Лангедоке, он цинично заявлял: «Поистине сказать, les États собираются здесь только что веселиться» [Фонвизин 1959, 2: 427–428]. Простых жителей Монпелье он называл «скотиноватыми», «праздными», «весьма грубыми», а домашнюю прислугу – «неучами» [Фонвизин 1959, 2: 428–429]. Грязное французское столовое белье вызывало у него отвращение. По его мнению, «нет такого глупого дела или глупого правила, которому бы француз тотчас не сказал резона, хотя и резон также сказывает преглупый» [Фонвизин 1959, 2: 430]: «Я думаю, нет в свете нации легковернее и безрассуднее» [Фонвизин 1959, 2: 433].
В семейной переписке Фонвизин откладывал окончательное суждение о французской культуре до посещения Парижа. Его первое впечатление о нем, зафиксированное в письме от 9 марта 1778 года, было таково: «Париж отнюдь не город; его поистине назвать до́лжно целым миром». Тем не менее, по его словам, в Париже «нет шагу, где б не находил я чего-нибудь совершенно хорошего, всегда, однако ж, возле совершенно дурного и варварского» [Фонвизин 1959, 2: 438–439]. Простые люди живут «в крайней бедности», добывая пропитание сомнительными средствами. На Пон-Нёф Фонвизин увидел шокирующее зрелище: католического священника, открыто сопровождавшего содержанку. Французский комический театр показался ему великолепным, но французских театралов он счел несдержанными до буйства. Он отметил, что обычай сопровождать спектакль громовыми аплодисментами, похоже, перекинулся и на публичные казни: палачу аплодировали за хорошо повешенного преступника [Фонвизин 1959, 2: 439–440]. «Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству», – писал он [Фонвизин 1959, 2: 440–441].
Самым язвительным презрением Фонвизин оделил французских «ученых людей», о которых писал: «Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер» [Фонвизин 1959, 2: 443]. Он признавал, что большинство из них верны королю и отечеству, но притом крайние эгоисты, враждебны ближним и неспособны к благодарности. В них он заметил два правила поведения: никогда не противоречить другим в лицо и лгать о своих истинных мыслях.
Русских, которые хвалили парижскую жизнь за увеселения, Фонвизин обвинял в обмане: он считал Париж таким же скучным, как провинциальный Углич [Фонвизин 1959, 2: 444–445]. Имея в виду непристойность, с которой парижские мужчины растрачивали свои богатства на содержанок, он утверждал, что Париж – это «город, не уступающий ни в чем Содому и Гомору» [Фонвизин 1959, 2: 446]. Казалось, он намекал, что французские интеллектуалы, за исключением Вольтера и, возможно, Руссо, столь же нравственно испорчены, как и сама Франция. К концу своего пребывания в Париже Фонвизин утверждал, что русские поклонники Франции обманывают сами себя. «По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France… научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой» [Фонвизин 1959, 2: 449].
В письмах к Панину Фонвизин высказывал похожие соображения, но вместе с тем дополнил их новыми. Из Монпелье он писал, как легко и дешево можно нанять учителя по философии, юриспруденции или римскому праву; при этом он отмечал бессмысленность этих дисциплин в стране, где должности продаются тому, кто больше предложит, и иронизировал, что легкий доступ к образованию уживается с глубоким невежеством [Фонвизин 1959, 2: 459]. Он отмечал, что французские образованные классы, стремясь избежать суеверий, «почти все попали в другую крайность и заразились новою философиею. Редкого встречаю, в ком бы неприметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума». Его главным устремлением во Франции стало желание понять, каким образом из-за злоупотреблений и общей порчи нравов пришла в упадок мудрая система законов, совершенствовавшаяся веками. Он отмечал, что «первое право каждого француза ость вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою». Фонвизин утверждал, что «злоупотребления и развращение нравов… уже потрясли» основы французского правового порядка [Фонвизин 1959, 2: 461].
В своем письме Панину от 15/26 января 1778 года Фонвизин перечислил недостатки Лангедокского «земского суда» (Les États). Он утверждал, что парижские делегаты «приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливее сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно», а бедные провинциалы «собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда» [Фонвизин 1959, 2: 461]. Французское духовенство, по его наблюдению, делает все возможное, чтобы «не поссориться с земным, если вступится за жителей и облегчит утесненное их состояние». Вследствие всего этого «по окончании сего земского суда провинция обыкновенно остается в добычу бессовестным людям, которые тем жесточе грабят, чем дороже им самим становится привилегия разорять своих сограждан» [Фонвизин 1959, 2: 461–462]. Фонвизин полагал, что готовность французской элиты эксплуатировать обездоленных была симптомом общего упадка религиозности и доверия между людьми: «Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз – добрая вера. У нас ее немного, а здесь нет и головою… Словом, деньги суть первое божество здешней земли» [Фонвизин 1959, 2: 462].
Фонвизин заметил, что практически каждый образованный француз рефлекторно утверждает, «que le Français est né libre»3030
что француз рожден свободным (фр.).
[Закрыть], но в ответ на возражения многие из этих «свободных» людей признают, что их вольность – пустое слово: «O monsieur, vous avez raison! Le Francais est écrasé, le Français est esclave»3131
О сударь, вы правы! Француз раздавлен, француз – раб (фр.).
[Закрыть] [Фонвизин 1959, 2: 463]. Подобную самопротиворечивость Фонвизин объяснял тем, что французы – «легкомысленные и трусливые люди», привыкшие соглашаться с мнением собеседника лишь из вежливости. Но такая манера вести разговор «совершенно отвращает господ французов от всякого человеческого размышления». Таким образом, утверждал Фонвизин, французы «слова сплетают мастерски», но машинально, «не заботясь много, есть ли в них какой-нибудь смысл» [Фонвизин 1959, 2: 463]. Поэтому Фонвизин сетовал Панину, на то, что французов, – вежливых, пустых, противоречащих себе и неразумных – «вся Европа своими образцами почитает» [Фонвизин 1959, 2: 464]. Он предупреждал, что ничего хорошего из франкофильства не выйдет.
В письме из Парижа от 20/31 марта 1778 года Фонвизин сообщал Панину, что лучшим лекарством для молодых русских, привыкших жаловаться на свою страну, является посещение Франции: «Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь» [Фонвизин 1959, 2: 467]. В письме от 14/25 июня 1778 года Фонвизин высмеивал французское самообольщение о том, что все французы разумны и что Франция является маяком разума для человечества:
Видя, что разум везде редок и что в одной Франции имеет его всякий, примечал я весьма прилежно, нет ли какой разницы между разумом французским и разумом человеческим, ибо казалось мне, что весьма унизительно б было для человеческого рода, рожденного не во Франции, если б надобно было необходимо родиться французом, чтоб быть неминуемо умным человеком [Фонвизин 1959, 2: 472].
Фонвизин утверждал, что на практике французы под «разумом» понимают просто «остроту», а не здравый смысл [Фонвизин 1959, 2: 473]. Он отмечал, что французы поэтому считают худшим оскорблением назвать человека «ridicule» («смешным»), чем сказать, что у него злое сердце. Фонвизин сомневался, что французы заслужили свою репутацию хитрецов: «Кажется, что вся их прославляемая хитрость отнюдь не та, которая располагается и производится рассудком, а та, которая объемлется вдруг воображением и очень скоро наружу выходит» [Фонвизин 1959, 2: 474]. По его мнению, Париж «…пред прочими имеет только то преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее» [Фонвизин 1959, 2: 475]. О парижских ученых людях он мог сказать мало хорошего. За исключением Антуана Леонара Тома, «нашел я почти во всех других много высокомерия, лжи, корыстолюбия и подлейшей лести» [Фонвизин 1959, 2: 476].
В своем письме из Ахена от 18/29 сентября 1778 года Фонвизин откровенно писал: «Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие» [Фонвизин 1959, 2: 481]. Философов Фонвизин описал как светских мыслителей, система которых «состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии». Однако, по его мнению, эти философы были скорее порочны, чем добродетельны: «Кто из них, отрицая бытие Божие, не сделал интереса единым божеством своим и не готов жертвовать ему всею своею моралью?» [Фонвизин 1959, 2: 482]. «Французское воспитание» Фонвизин счел фактически оксюмороном, поскольку во Франции «все юношество учится, а не воспитывается» [Фонвизин 1959, 2: 483].
Фонвизин считал, что многие пороки французской жизни – тирания, отсутствие правосудия, неэффективная экономика, взяточничество, продажа должностей, упадок воинского духа, наглость простых солдат, любовь к пустым церемониям, антисанитария, преступность – являются следствием отсутствия нравственного воспитания во Франции. По всем параметрам он предпочитал жизнь в России жизни во Франции. Самое поразительное – русских он счел более свободными, чем французов: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве» [Фонвизин 1959, 2: 485–486].
Оценивая культурную и интеллектуальную жизнь Франции, Фонвизин, по-видимому, не был до конца уверен в отношении двух самых известных философов – Вольтера и Руссо. Он был свидетелем того, как восторженно Вольтера принимала публика на театральном представлении его пьесы «Ирена» в марте 1778 года [Voltaire 1779]3232
Фонвизин посетил спектакль 19 марта 1778 года [Фонвизин 1959, 2: 441–442, 469–470].
[Закрыть]. В письме к родным от 20 марта Фонвизин никак не комментирует это преклонение перед Вольтером. Однако в письме к Панину того же дня он едко заметил: «Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился» [Фонвизин 1959, 2: 469]. Что касается Руссо, то Фонвизин сообщил две версии его смерти. В письме к родным в августе 1778 года Фонвизин повторил слух о том, что Руссо покончил жизнь самоубийством после того, как власти обнаружили рукопись его «Исповеди». Фонвизин сожалел о смерти Руссо, но признавал: «Твоя, однако ж, правда, что чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее» [Фонвизин 1959, 2: 452]. В письме к Панину в том же месяце Фонвизин утверждал, что Руссо, расстроенный тем, что «Исповедь» опубликовали без его разрешения, принял яд, примирился с женой Терезой и умер, глядя в окно на восходящее солнце, «говоря жене своей в превеликом исступлении, что он пронзается величеством Создателя, смотря на прекрасное зрелище природы» [Фонвизин 1959, 2: 478–479].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?