Текст книги "Игра в бисер"
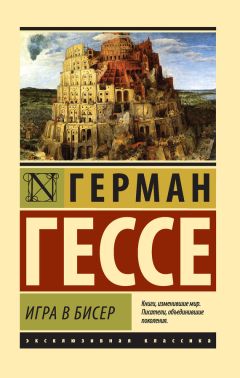
Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
– Я был вашим кудесником, – сказал он, – я много лет делал свое дело как умел. Теперь демоны против меня, мне уже ничего не удается. Поэтому я решил принести себя в жертву. Это умиротворит демонов. Мой сын Туру будет вашим новым кудесником. А сейчас убейте меня и, когда я умру, точно следуйте указаниям моего сына. Прощайте! Кто же убьет меня? Я предлагаю барабанщика Маро, он человек для этого подходящий.
Он умолк, и никто не шевельнулся. Туру, побагровев под тяжелой меховой шапкой, затравленно оглядел круг, рот его отца насмешливо искривился. Наконец родоначальница гневно топнула ногой, подозвала кивком головы Маро и прикрикнула на него:
– Вперед же! Возьми топор и сделай это!
Маро, с топором в руках, стал перед своим бывшим учителем, он ненавидел его еще больше, чем когда-либо, насмешливое выражение этого молчаливого старого рта причиняло ему жестокую боль. Он поднял топор, занес его, задержал, прицеливаясь, в воздухе и, глядя жертве в лицо, подождал, чтобы та закрыла глаза. Однако Кнехт не сделал этого, он по-прежнему держал глаза открытыми и глядел на человека с топором, глядел почти без выражения, но то, что взгляд его все-таки выражал, колебалось между жалостью и насмешкой.
Маро в ярости отшвырнул топор.
– Я этого не сделаю, – пробормотал он, протиснулся через круг важных лиц и затерялся в толпе. Некоторые тихонько засмеялись. Родоначальница побледнела от злости, гневаясь на негодного труса Маро не меньше, чем на этого заносчивого кудесника. Она кивнула одному из старейшин, почтенному, тихому человеку, который стоял, опершись на свой топор, и, казалось, стыдился всей этой неприятной сцены. Он выступил вперед, коротко и ласково кивнул жертве, они знали друг друга с детства, и теперь жертва с готовностью закрыла глаза, Кнехт плотно сомкнул их и немного наклонил голову. Старик ударил его топором, он упал. Туру, новый кудесник, не мог выговорить ни слова, только жестами отдавал он необходимые распоряжения, и вскоре костер был сложен и мертвец водружен на него. Торжественный ритуал протыкания пламени двумя освященными шестами был первым действием Туру на новой должности.
Исповедник
Это было во времена, когда святой Иларион был еще жив, хотя и пребывал уже в преклонном возрасте; в городе Газе жил тогда некто Иозефус Фамулюс[33]33
Famulus (лат.) – слуга.
[Закрыть], до тридцати лет и дольше он вел обычную мирскую жизнь и изучал языческие книги, а потом, познакомившись, благодаря одной женщине, которую он преследовал, с божественным учением и сладостью христианских добродетелей, принял святое крещение, отрекся от своих грехов и много лет просидел у ног пресвитеров своего города, слушая с особенно жгучим любопытством любимые всеми рассказы о жизни в пустыне благочестивых отшельников, пока однажды, года в шестьдесят три, не вступил на тот путь, которым шли до него святые Павел и Антоний и на который с тех пор вступало много благочестивых людей. Передав остаток своего имущества старейшинам, чтобы раздать его беднякам общины, он простился у ворот со своими друзьями и перебрался из города в пустыню, из презренного мира в бедную жизнь подвижника.
Много лет сох он под палящим солнцем, стирал себе, молясь, колени о камни и о песок, постился, дожидаясь захода солнца, чтобы сжевать несколько фиников: когда бесы изводили его искусами, насмешками и соблазнами, он побивал их молитвой, покаянием, самоуничижением, как все это мы можем прочесть в жизнеописаниях блаженных отцов. Многими ночами также взирал он недреманно на звезды, и звезды тоже соблазняли и смущали его, он распознавал созвездия, в которых когда-то учился узнавать истории богов и символы человеческой природы – это ненавистное пресвитерам знание еще долго донимало его фантазиями и мыслями, оставшимися от его языческой поры.
Повсюду, где в тех местах голая, бесплодная пустыня прерывалась родником, клочком зелени, маленьким или большим оазисом, жили тогда отшельники, одни в полном одиночестве, другие маленькими братствами, как то изображено на одной стене пизанского кладбища, жили в бедности и любви к ближнему, приверженцами некоей тоскливой ars moriendi, некоего искусства умирания, ухода от мира и собственного «я» и перехода к нему, Спасителю, в царство светлого и нетленного. Посещаемые ангелами и бесами, они сочиняли гимны, изгоняли демонов, исцеляли, благословляли, как бы задавшись целью возместить земную радость, грубость и похоть многих минувших и многих будущих эпох мощной волной энтузиазма и самоотверженности, экстатической мерой отречения от мира. Иные из них пользовались, видимо, старыми языческими приемами очищения, методами и упражнениями веками культивировавшейся в Азии техники одухотворения, но об этом не принято было говорить, и эти методы, эти упражнения по системе йогов не то что не преподавались, а находились под запретом, который христианство все строже накладывало на все языческое.
Во многих пустынниках накал этой жизни родил особые дарования, дар молитвы, дар исцелять прикосновением рук, дар пророчества, дар изгонять беса, дар судить и карать, утешать и благословлять. В Иозефусе тоже дремал некий дар, который с годами, когда его волосы побелели, достиг расцвета. Это был дар слушать. Если к Иосифу приходил брат из какой-нибудь обители или какой-нибудь терзаемый и гонимый совестью мирянин и сообщал ему о своих делах, страданиях, соблазнах и прегрешениях, рассказывал о своей жизни, о своей борьбе за добро и о своем поражении в этой борьбе или о какой-нибудь потере и боли, о какой-нибудь печали, Иосиф умел выслушать его, открыть и отдать ему свой слух и свое сердце, принять и вобрать в себя его беду и заботу, отпустить его облегчившим душу и успокоившимся. Мало-помалу за долгие годы обязанность эта совсем подчинила его себе и сделала своим орудием, ухом, которому дарили доверие. Какое-то особое терпение, какая-то засасывающая пассивность и великая молчаливость были его добродетелями. Все чаще приходили к нему люди, чтобы выговориться, чтобы освободиться от накопившихся печалей, и иные, даже если им надо было проделать к его тростниковому шалашу долгий путь, не находили в себе, прибыв и поздоровавшись, свободы и храбрости для исповеди, а виляли и стыдились, набивали своим грехам цену, вздыхали и долго, часами, отмалчивались, а он был одинаков со всеми, говорили ли они охотно или с отвращением, гладко или с запинками, яростно ли сбрасывали с себя свои тайны или кичились ими. Для него все были одинаковы, винили ли они Бога или себя, преувеличивали или преуменьшали свои грехи и страдания, исповедовались ли в убийстве или только в распутстве, жаловались ли на неверную возлюбленную или на то, что не спасли свою душу. Он не пугался, если кто-то рассказывал ему о своих близких отношениях с демонами и был, по-видимому, на дружеской ноге с чертом, не досадовал, если кто-то говорил долго и многословно, но явно умалчивал при этом о главном, не выходил из терпения, если человек обвинял себя в бредовых и выдуманных грехах. Все жалобы, признания, обвинения и муки совести, с которыми являлись к нему, входили в него, казалось, как вода в песок пустыни, казалось, он не имел о них никакого суждения и не испытывал к исповедовавшимся ни презрения, ни сочувствия, и тем не менее, или, быть может, именно поэтому, всё, что ему поверяли, казалось не брошенным на ветер, а преображенным, облегченным и разрешенным благодаря тому, что это сказано и услышано. Лишь изредка увещевал он и предостерегал, еще реже давал советы, а тем более приказывал; это, казалось, не было его обязанностью, и говорившие тоже, казалось, чувствовали, что это не его обязанность. Его обязанностью было будить и принимать доверие, терпеливо и любовно выслушивать, помогая тем самым окончательно сложиться еще не сложившейся исповеди, его обязанностью было побуждать все, что скопилось или затвердело в душе, излиться, вылиться, чтобы принять это в себя и облечь в молчание. Да разве что в конце каждой исповеди, ужасной или невинной, сокрушенной или тщеславной, он велел исповедовавшемуся стать рядом с ним на колени, читал «Отче наш» и, прежде чем отпустить его, целовал его в лоб. Налагать епитимьи или кары не входило в его обязанности, не чувствовал он себя также уполномоченным отпускать грехи, как настоящий священник, ни судить, ни прощать вину не было его делом. Слушая и понимая, он, казалось, брал часть вины на себя, помогал нести ее бремя. Храня молчание, он, казалось, погружал куда-то услышанное, передавал его прошлому. Молясь после исповеди вместе с пришельцем, он, казалось, принимал его в братья, признавал в нем равного себе. Целуя его, он, казалось, благословлял его скорее по-братски, чем по-священнически, скорее ласково, чем торжественно.
Слава о нем распространилась по всем окрестностям Газы, его знали далеко кругом и порой даже упоминали вместе с уважаемым, великим исповедником и отшельником Дионом Пугилем, чья слава, впрочем, была уже на десять лет старше и основывалась на совершенно других способностях, ибо отец Дион был знаменит как раз тем, что души доверившихся ему разгадывал ясней и быстрей, чем их речи, благодаря чему нередко поражал медлившего с исповедью, без обиняков называя ему его еще утаиваемые грехи. Этот сердцевед, о котором Иосиф слыхал сотни удивительных историй и с которым сам никогда не осмелился бы сравнить себя, был также боговдохновенным наставником заблудших, великим судьей, карателем и распорядителем: он налагал епитимьи, предписывал самобичевание и паломничество, занимался сватовством, заставлял враждующих мириться, и его авторитет не уступал авторитету какого-нибудь епископа. Жил он неподалеку от Аскалона, но просители приходили к нему даже из Иерусалима и еще более отдаленных мест.
Подобно большинству пустынников и подвижников, Иозефус Фамулюс прошел через долгие годы страстной и изнурительной борьбы. Хотя он и оставил мирскую жизнь, хотя и роздал свое имущество, бросил свой дом и покинул город с его земными радостями, он все же должен был взять с собой самого себя, а в нем были все порывы тела и души, которые могут ввергнуть человека в беду и соблазн. Сначала он боролся с телом, он был суров и жесток с ним, приучил его к жаре и холоду, к голоду и жажде, к рубцам и мозолям, пока оно медленно не увяло, не высохло, но даже и в тощей оболочке аскета тело это иногда неожиданно и позорно дразнил ветхий Адам безумными желаниями и прихотями, мечтами и наваждениями; известно ведь, что тем, кто бежит от мира и кается, дьявол уделяет особое внимание. Когда затем его стали навещать искавшие утешения и нуждавшиеся в исповеди, он с благодарностью увидел в этом знак милости Божьей и одновременно почувствовал, что его подвижническая жизнь стала легче: она получила смысл и содержание, выходившие за пределы его самого, он был облечен неким саном, мог служить другим или служить Богу орудием для привлечения душ. Это было чудесное, поистине возвышающее чувство. Но в дальнейшем выяснилось, что и блага души тоже причастны ко всему земному и могут стать искусительными ловушками. Ведь часто, когда пеший или конный путник, остановившись у его пещеры, просил сперва о глотке воды, а потом и о разрешении исповедаться, нашим Иосифом овладевало чувство удовлетворенности, довольства, довольства самим собой, суетное себялюбие, сознавая которое за собой он приходил в ужас. Нередко он на коленях молил Бога простить его и молил о том, чтобы никто больше не приходил исповедоваться к нему, недостойному, ни из шалашей соседей-подвижников, ни из деревень и городов мира. Между тем и тогда, когда посетители порой и впрямь не появлялись, он чувствовал себя не намного лучше, а когда они затем опять приходили во множестве, ловил себя на новом прегрешении: он замечал теперь, что, выслушивая те или иные признания, был холоден к исповедовавшимся, не испытывал к ним любви и даже презирал их. Со вздохом взял он на себя и это боренье, и бывало порой, что после каждой выслушанной исповеди он совершал процедуру самоуничижения и покаяния. Кроме того, он взял себе за правило обращаться со всеми исповедующимися не только по-братски, но с какой-то особой почтительностью, причем тем большей, чем меньше нравилось ему данное лицо: он принимал их как гонцов Бога, посланных, чтобы его испытать. Так, с годами, довольно поздно, уже на старости лет, он обрел известную ровность жизни и казался тем, кто жил поблизости от него, безупречным человеком, обретшим душевный покой в Боге.
Между тем и покой тоже – это нечто живое, и, как все живое, он растет и идет на убыль, выдерживает испытания и претерпевает изменения; так обстояло дело и с покоем Иозефуса Фамулюса, он был неустойчив, то видим, то невидим, то близок, как свеча, которую держишь в руке, то далек, как звезда на зимнем небе. И со временем жизнь ему все чаще стала отравлять одна особая, новая разновидность греха и соблазна. То было не какое-нибудь сильное, страстное волнение, возмущение или возбуждение, а скорее нечто прямо противоположное. Это было чувство, переносимое на первых порах очень легко, даже почти неприметное состояние, не связанное, в сущности, ни с какой болью и ни с какими лишениями, вялое, тупое, скучное душевное состояние, определить которое можно было, собственно, лишь негативно, как убыль, уход и в конце концов отсутствие радости. Есть дни, когда и солнце не светит, и дождь не льет, а небо тихо заволакивается и тонет в себе самом, когда пасмурно, но не до черноты, душно, но грозы нет, – такими становились постепенно дни стареющего Иосифа; утренние часы все меньше отличались от вечерних, праздничные дни от обычных, взлеты от прозябания, все тянулось лениво, нудно, нехотя, через силу. Это старость, думал он грустно. Он грустил, потому что надеялся, что старость, постепенное затухание порывов и страстей прояснит и облегчит его жизнь, приблизит его к желанной гармонии, покою зрелой души, а старость, казалось, разочаровала и обманула его, не принеся ничего, кроме этой усталой, серой, безрадостной пустоты, этого чувства неизбывной пресыщенности. Он чувствовал, что пресытился всем: самим существованием, тем, что дышал, ночным сном, жизнью в своем гроте на краю маленького оазиса, вечной сменой сумерек и рассветов, вереницами путников и паломников, людей, ехавших на верблюдах, и людей, ехавших на ослах, а больше всего теми, кто появлялся здесь ради него самого, теми глупыми, боязливыми и в то же время по-детски доверчивыми людьми, которые испытывали потребность поведать ему свою жизнь, свои грехи и страхи, свои искушения и самообвинения. Ему казалось порой, что так же, как родник в оазисе, который бежал в каменный водоем, струился ручейком по траве, затем устремлялся в пустыню песка, где вскоре выдыхался и умирал, – совершенно так же текли в его ухо все эти исповеди, эти перечни грехов, эти жизнеописания, эти терзания совести, большие и малые, серьезные и пустые, десятками, сотнями, всё новые и новые. Но ухо его не было мертвым, как песок пустыни, оно было живым и не могло вечно пить, поглощать и впитывать, оно чувствовало себя усталым, поруганным, переполненным, оно мечтало о том, чтобы поток и плеск слов, признаний, забот, обвинений, самообвинений когда-нибудь прекратился, чтобы когда-нибудь вместо этого бесконечного потока пришли покой, смерть и тишина. Да, он желал конца, он устал, с него было довольно и сверхдовольно, жизнь его стала пресной и потеряла ценность, и иногда он даже испытывал теперь искушение положить конец своему существованию, покарать себя и погубить, как то сделал, повесившись, предатель Иуда. Если на первых порах его схимнической жизни дьявол протаскивал в его душу желания, образы и мечты, связанные с чувственными и мирскими радостями, то теперь он преследовал его образами самоуничтожения, заставляя его при виде каждой ветки думать, годится ли она для того, чтобы на ней повеситься, а при виде каждой крутой скалы в окрестности – достаточно ли она крута и высока, чтобы броситься с нее и разбиться насмерть. Он противостоял этому искушению, он боролся, не поддавался, но жил днем и ночью в пламени ненависти к себе и жажды смерти, жизнь стала невыносима и ненавистна.
Вот до чего дошел Иосиф. Однажды, стоя опять на одной из этих высоких скал, он увидел вдали между землей и небом две-три крошечные фигурки – явно путников, быть может, паломников, быть может, людей, которые хотели у него исповедаться, – и вдруг его охватило неодолимое желание сейчас же, как можно скорее, уйти отсюда, прочь от этого места, прочь от этой жизни. Желание это овладело им с такой силой и так глубоко, что подавило и отмело все мысли, возражения, сомнения, а таковые, конечно, были – как мог благочестивый подвижник поддаться порыву без угрызений совести? И вот он уже побежал, уже вернулся к своему гроту, обители многолетних борений, сосуду стольких взлетов и поражений. В безрассудной спешке он схватил несколько горстей фиников и тыквенную бутыль с водой, сложил это в старую дорожную суму, надел ее на плечи, взял посох и покинул зеленый покой своего малого дома, как неугомонный беглец, убегая от Бога и от людей, а пуще всего от того, что считал некогда своим долгом, своей обязанностью и миссией. Сначала он бежал как от погони, словно те далекие фигурки, которые он увидал со скалы, были действительно преследовавшими его врагами. Но после первого часа пути его боязливая спешка прошла, движение благотворно утомило его, и на первом привале, когда он, однако, перекусить не позволил себе – не принимать пищи до захода солнца стало у него священным обычаем, – разум его, привыкший к одиноким раздумьям, стал вновь оживать и оценивающе разбирать его порывистые действия. И действий этих разум его, сколь это ни было неразумно с виду, не осудил, а отнесся к ним доброжелательно, впервые за много времени найдя поведение Иосифа невинным и простодушным. Он совершил побег, побег внезапный и необдуманный, но не позорный. Он покинул пост, оказавшийся ему не по силам; бежав, он сознавался перед собой и перед тем, кто мог следить за ним, в своей несостоятельности, отказывался от каждодневной бесполезной борьбы, признавал себя побитым и побежденным. В этом, так нашел его разум, не было ничего великолепного, героического и праведного, но это было сделано искренне и казалось неминуемым; теперь он удивлялся, что совершил этот побег так поздно, что так долго, так страшно долго терпел. В упорстве, с каким он так долго защищал безнадежное дело, он видел теперь заблуждение, больше того, копошение своего себялюбия, своего ветхого Адама, и считал, что понял теперь, почему это упорство привело к таким скверным, прямо-таки дьявольским последствиям, к такому душевному разладу и застою, хуже того – к демонической одержимости желанием смерти и самоуничтожения. Спору нет, христианину не следовало быть врагом смерти, спору нет, подвижнику и святому, безусловно, следовало смотреть на свою жизнь как на жертву; но мысль о добровольном смертоубийстве была всецело дьявольской и могла возникнуть только в душе, хранимой и направляемой уже не ангелами Господними, а злыми демонами. Он сидел некоторое время совершенно растерянный и смущенный, наконец, глубоко подавленный и потрясенный, а из отдаления, которое создали несколько миль пути, перед ним представала, требуя осознать себя, его недавняя жизнь, отчаянная и затравленная жизнь стареющего человека, не достигшего своей цели и постоянно терзаемого ужасным соблазном повеситься на суку, как предатель Спасителя. Если его так ужасала добровольная смерть, то в этом ужасе таился, конечно, и какой-то остаток первобытного, дохристианского, древнеязыческого знания, – знания о древнейшем обычае человеческого жертвоприношения, для которого предназначался царь, святой, избранник племени, нередко совершавший такое заклание собственноручно. Столь ужасающим казался этот предосудительный обычай не только потому, что отдавал седой языческой древностью, но еще больше – из-за мысли, что в общем-то и смерть Спасителя на кресте была не чем иным, как добровольным человеческим жертвоприношением. И в самом деле: если как следует вспомнить, то мысль эта смутно мелькала уже в тех приступах жажды самоубийства, в упрямо-злом, диком стремлении принести себя в жертву, а значит, недозволенным образом уподобиться Спасителю – или недозволенным образом намекнуть на то, что Его попытка спасения не совсем удалась. Он содрогнулся от такой мысли, но почувствовал также, что этой опасности теперь избежал.
Долго размышлял Иосиф об этом подвижнике, которым он стал и который теперь, вместо того чтобы последовать примеру Иуды или даже Распятого, обратился в бегство и тем самым снова отдал себя в руки Божьи. Он стыдился и огорчался тем больше, чем яснее видел ад, которого избежал, и наконец горе стало невыносимо душить его и вдруг разрешилось потоком слез, на диво для него благотворным. О, как давно он не плакал! Слезы текли, глаза ничего не видели, но смертельного удушья как не бывало; и, когда он пришел в себя и, почувствовав на губах у себя вкус соли, понял, что плачет, на миг ему почудилось, что он снова стал ребенком и ему неведомо зло. Он улыбнулся, немного стыдясь своих слез, наконец встал и снова пустился в путь. Он чувствовал себя неуверенно, не знал, куда приведет его бегство и что с ним произойдет, он казался себе ребенком, но в нем уже не было борьбы и воли, он чувствовал себя более легким, словно его кто-то вел, словно его звал и манил какой-то далекий добрый голос, словно его поход был не бегством, а возвращением домой. Он устал, и разум тоже устал, разум молчал, или отдыхал, или казался себе излишним.
У водопоя, где остановился на ночь Иосиф, лежало несколько верблюдов; поскольку в небольшой группе путников было две женщины, он ограничился приветственным жестом и уклонился от разговора. Зато потом, съев с наступлением темноты несколько фиников, помолившись и улегшись, он невольно услыхал тихую беседу двух мужчин, старого и молодого, ибо те легли поблизости от него. Расслышал он лишь малую часть их диалога, остальное говорилось шепотом. Но и этот обрывок заинтересовал его и дал ему на полночи пищу для размышлений.
– Хорошо хоть, – услышал он голос старшего, – хорошо хоть, что ты решил сходить к какому-нибудь благочестивому человеку и исповедаться. Эти люди, скажу тебе, много в чем смыслят, они умеют не только есть хлеб, а кое-кто из них знаком с колдовством. Стоит ему сказать словечко изготовившемуся к прыжку льву, как тот, разбойник, опускает голову, поджимает хвост и удирает. Они умеют, скажу тебе, приручать львов; одному из них, человеку особенной святости, его ручные львы выкопали могилу, когда он умер, затем ровно засыпали его землей, и еще долгое время день и ночь по двое сторожили могилу. И не только львов умеют они приручать, эти люди. Один из них взялся как-то за римского центуриона, жестокого солдафона и величайшего во всем Аскалоне развратника, и так пробрал злодея, что тот сжался, как мышка, и в страхе улизнул, чтобы где-нибудь спрятаться. Потом этого малого просто узнать нельзя было, таким он стал тихим и скромным. Впрочем – и это наводит на размышления, – он вскоре умер.
– Святой?
– О нет, центурион. Варрон звали его. После того как подвижник его разделал и пробудил в нем совесть, он довольно скоро ослабел, дважды заболевал лихорадкой и через три месяца умер. Ну, жалеть о нем нечего. Но все-таки мне часто думалось: подвижник не только выгнал из него беса, наверно, он шепнул и какое-нибудь словцо, которое и свело того в могилу.
– Такой благочестивый человек? Не поверю.
– Хочешь – верь, хочешь – не верь. Но с того дня Варрона как подменили, чтобы не сказать околдовали, а три месяца спустя…
Некоторое время царила тишина, затем младший заговорил снова:
– Есть один подвижник, он живет будто бы где-то здесь поблизости, живет совершенно один у родничка, близ дороги в Газу, Иозефус зовут его, Иозефус Фамулюс. О нем я много слышал.
– Вот как, и что же?
– Говорят, он ужасно благочестив и уж на женщин никогда не глядел. Когда мимо его укрытия проходят верблюды и на одном из них едет верхом женщина, то, как бы плотно она ни была закутана, он поворачивается к ней спиной и сразу же исчезает в пещере. Многие ходили к нему исповедаться, очень многие.
– Наверно, ничего особенного, а то бы и я уже услышал о нем. А что он умеет, твой Фамулюс?
– О, к нему просто ходят исповедаться, и, если бы он не был добр и ничего не понимал, люди ведь не стали бы бегать к нему. Кстати, о нем говорят, что он не произносит почти ни слова, ни брани, ни окриков, ни кар там нет и в помине, человек он, говорят, мягкий и даже робкий.
– Так что же он делает, если не бранится, не наказывает и не раскрывает рта?
– Он, говорят, только слушает и чудно так вздыхает и крестится.
– Ну и хорош доморощенный ваш святой! Да ведь не такой ты дурак, чтобы набиваться в гости к этому молчальнику.
– Нет, я хочу побывать у него. Найти-то я его найду, это уже, наверно, недалеко отсюда. Вечером здесь, у водопоя, слонялся какой-то бедняга, завтра утром я его расспрошу, он сам похож на подвижника.
Старик разгорячился:
– Да оставь ты в покое этого отшельника, пускай сидит себе в своей пещере у родника, если он только слушает да вздыхает, и боится женщин, и ничего не умеет! Нет, я скажу тебе, к кому надо пойти. Это, правда, далеко отсюда, еще дальше Аскалона, но зато это и самый лучший подвижник и исповедник, какой только может быть. Дион зовут его, а называют его Дионом Пугилем, то есть кулачным бойцом, потому что он дерется со всеми чертями, и, когда человек исповедуется ему в своих гнусных поступках, Пугиль, милый мой, не вздыхает, не держит язык за зубами, а разражается такой бранью и задает гостю такого жару, что только держись. Иных, говорят, он и бивал, а одного заставил простоять всю ночь на камнях на коленях, а потом еще велел ему раздать бедным сорок монеток. Вот это, братец мой, человек, ты увидишь и подивишься; стоит лишь ему хорошенько взглянуть на тебя, и у тебя поджилки задрожат, он видит тебя насквозь. Этот вздыхать не станет, у этого есть талант, и если кто страдает от бессонницы, дурных снов, видений и тому подобного, Пугиль живо накрутит ему хвост, скажу я тебе. Я говорю тебе это не потому, что слышал, как болтают о нем какие-то бабы. Я говорю тебе это потому, что побывал у него сам. Да, да, я сам, хоть я и простой горемыка, я сам сходил однажды к этому блаженному Диону, к этому кулачному бойцу, к этому Божьему человеку. Пошел я к нему несчастный, со срамом, с загаженной совестью, а ушел от него светлый и чистый, как утренняя звезда, это так же верно, как то, что меня зовут Давидом. Запомни: Дион зовут его, а прозвище Пугиль. Сходи к нему поскорее, с тобой произойдет чудо. Префекты, старейшины, епископы – и те обращались к нему за советом.
– Да, – отвечал молодой, – если окажусь в тех местах, то, пожалуй, попробую. Но сегодня – это сегодня, а здесь – это здесь, и поскольку сегодня я здесь, а где-то поблизости должен быть этот Иозефус, о котором я слышал столько хорошего…
– Слышал столько хорошего! Дался же тебе этот Фамулюс!
– Мне понравилось, что он не бранится и не бросается на людей. Мне это, скажу тебе, нравится. Я же не центурион и не епископ; я человек маленький и нрава скорее робкого, много огня и серы – это не по мне; я, видит Бог, не против того, чтобы со мной обходились помягче, такой уж я человек!
– Ишь ты! Обходились помягче! Если ты исповедался, да покаялся, да наказание принял, да очистился, тогда куда ни шло, тогда, может быть, и уместно обходиться с тобой помягче, но не тогда же, когда ты в скверне своей, смердя, как шакал, стоишь перед исповедником и судьей!
– Ну, конечно, конечно. Не надо нам так шуметь, люди ведь спать хотят.
Вдруг он весело хихикнул.
– Кстати, мне рассказали о нем и кое-что позабавней.
– О ком?
– О нем, о подвижнике Иозефусе. У него такой обычай: после того как человек рассказал ему свои дела и исповедался, он благословляет его и целует на прощанье в щеку или в лоб.
– Вот как? Смешные, однако, у него привычки.
– А потом, он еще очень, знаешь ли, боится женщин. Пришла к нему как-то, говорят, одна тамошняя блудница в мужской одежде, а он ничего не заметил, выслушал ее россказни и, когда она кончила исповедоваться, поклонился ей и торжественно поцеловал ее.
Старик захохотал, молодой сразу зашикал на него, и больше Иосиф ничего не слышал, кроме этого подавленного, вскоре утихшего смеха.
Он взглянул на небо, луна стояла острым и тонким серпом за верхушками пальм, Иосиф вздрогнул от ночного холода. В диковинном виде, как в кривом зеркале, и все же поучительно представил ему этот вечерний разговор погонщиков его самого и роль, которой он изменил. И значит, какая-то блудница подшутила над ним. Что ж, это было не самое мерзкое, хотя и достаточно мерзко. Он долго размышлял о беседе этих двух незнакомых людей. И когда он наконец очень поздно уснул, то уснуть он смог лишь потому, что его размышления не оказались напрасны. Они дали результат, привели к решению, и с этим новым решением в сердце он спокойно проспал до рассвета глубоким сном.
А решение его было как раз таким, какого младший погонщик верблюдов принять не смог. Иосиф решил последовать совету старшего и побывать у Диона по прозвищу Пугиль, о котором уже давно знал и которого сегодня при нем так настойчиво восхваляли. У этого знаменитого исповедника, судьи душ и советчика, найдется и для него совет, суждение, наказание, напутствие; он явится к нему как к наместнику Бога и с готовностью примет все, что тот назначит ему.
На следующий день он покинул привал, когда те двое еще спали, и в тот же день, после утомительного пути, достиг места, где жили, как он знал, схимники и откуда он надеялся выйти к большой дороге на Аскалон.
Под вечер перед ним приветливо предстал маленький зеленый оазис, он увидел высокие деревья, услыхал блеянье козы, угадал в зеленой тени очертания крыш, ощутил близость людей, и, когда нерешительно подошел ближе, ему почудилось, что кто-то на него смотрит. Он остановился, оглянулся и увидел под первыми деревьями какую-то фигуру: там, прислонившись к стволу, очень прямо сидел старик с седой бородой и полным достоинства, но строгим и неподвижным лицом, который глядел на него, причем глядел, наверно, уже давно. Взгляд у старика был твердый и острый, но без выражения, как у человека, который привык наблюдать, но нелюбопытен и ни в чем не участвует, подпускает к себе людей и вещи, пытается их постичь, но не привлекает, не зовет их к себе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































