Текст книги "По Восточному Саяну"
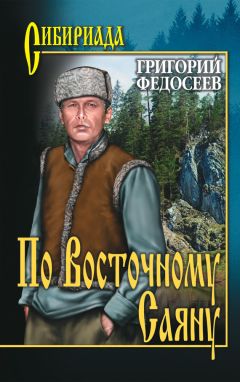
Автор книги: Григорий Федосеев
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Черня был старше Левки на два года. Они были братьями по матери. Первый, несмотря на свой сравнительно небольшой возраст, имел большой опыт и не зря считался хорошей зверовой собакой. Левка же уступал не только в возрасте и сноровке, но и в характере. Черня был ласковый и в работе темпераментный, тогда как Левка отличался нахальством и грубостью, но работал по зверю азартно; был бесстрашен в схватке с медведем, за что ему многое прощалось. В критическую минуту, когда нужно было прибегнуть к помощи собаки, мы имели дело с Черней. С ним было легко «договориться», он быстрее, чем Левка, понимал, чего от него требуют.
Все сильнее натягивая поводок, Черня выбежал на увал. На нерастаявшем снегу видны были наши вчерашние следы. Значит, собаки, возвращаясь, наткнулись на наш след и вышли к стоянке.
Который раз, следуя за Черней, я восхищался его работой. Какое поразительное чутье и какая память должны быть у собаки, чтобы не сбиться и восстановить свой путь по чаще, по завалам или хребтам! Иногда Черне приходилось вести нас за десятки километров к убитому зверю, делая по пути бесконечные петли и зигзаги, неоднократно пересекая один и тот же ручей. И не раз, когда он уводил меня слишком далеко, закрадывалось сомнение в правильности пути. Я останавливал собаку и раздумывал: не вернуться ли назад? Но когда мой взгляд встречался с взглядом Черни, я терялся. Он будто говорил: «Неужели ты сомневаешься и не видишь так хорошо заметные приметы? Вот перевернутая моей лапой палочка, а здесь я прыгал через ручей и помял траву, А запах? Неужели и его не чувствуешь, а ведь он хорошо ощутим даже среди более сильных запахов…»
Я не выдерживал умного взгляда собаки, полного уверенности, и сдавался. Черня, натягивая поводок, шел вперед и вел меня за собою.
Лайка с хорошим чутьем улавливает запах зверя или человека даже спустя два дня, тем более в тайге, где этот запах остается не только на земле, но главным образом на ветках, на листьях, на коре деревьев, к которым случайно прикасаются.
Спустившись в ложок, Черня свернул влево, и по размокшему снегу мы пошли вниз. Стал попадаться сбитый колодник и сломанные сучья на местах схваток раненого зверя с собаками. Кое-где сохранились отпечатки лап. Чем дальше мы продвигались, тем чаще останавливался зверь. Он слабел, а собаки, чувствуя близость развязки, наседали с еще большим ожесточением.
Через час в просвете боковых возвышенностей показалась широкая полоска Кизира. Мысль о том, что зверь мог уйти за Кизир, не на шутку встревожила нас, но Черня, дойдя до реки, свернул вправо. Он вывел нас на верх борта долины и остановился. Именно там и произошла последняя схватка. То, что мы увидели на маленькой полянке, соответствовало эвенкийской поговорке: «Медведь вперед помирает, потом его сила покидает». Лес, колодник, пни – все было изломано, свалено, вывернуто, будто зверь обломками отбивался от собак.
Последующие события легко читались по остальным следам: зверю удалось вырваться с поляны, он бросился по крутому откосу вниз, но собаки, вцепившись в него, распяли задние ноги и, волочась следом, тормозили его ход. Зверь, отгребаясь передними лапами, дотащился донизу и, обняв старую пихту, умер.
Мы спустились под откос.
– Кто это сало выдрал? – указывая на разодранный медвежий зад, спросил я Левку. Морда пса выражала полную невинность.
Через час, когда тушу разделали, Левка не выдержал и за несколько минут успел набить свой ненасытный желудок. Днепровский, испытывая его жадность, еще долго отрезал маленькие кусочки мяса и бросал ему в рот. Кобель все глотал и глотал, пока желудок не перестал принимать пищу. Тогда он подошел к выброшенным кишкам зверя и долго сдирал с них жир.
У костра возился Алексей, раскатывая вновь заведенное тесто. На откосе дымилась печь, сложенная на плите из камней. Она была низкая, уродливой формы, сделанная наспех, всего лишь для одной выпечки.
Когда в нашу экспедиционную жизнь врывалось какое-нибудь примечательное событие – форсирование опасной переправы, преодоление снежных перевалов или благополучное восхождение на один из пиков, – мы считали возможным сделать небольшую передышку на один день.
Что может быть вкуснее свежей, только что испеченной на костре лепешки? Она и пышная, и ароматная, хороша к супу, а к чаю еще лучше. В походе, бывало, проголодаешься, достанешь случайно забытый в кармане кусочек лепешки и наслаждаешься им. Трудно описать, каким он бывает вкусным, да, пожалуй, и понять трудно тому, кому не приходилось испытывать длительное отсутствие хлеба.
Нужно сказать, что галеты и сухари в условиях длительного хранения, да еще при постоянном передвижении вьючно, быстро портятся, главным образом от сырости. Мы всегда возили с собой муку и, как обычно принято в экспедициях, выпекали пресные лепешки на соде и только в более длительные остановки выпекали кислый хлеб.
Мне вспомнилась одна вынужденная голодовка, когда после пятидневных скитаний без продуктов по дремучей тайге я набрел на стоянку, недавно покинутую наблюдательской партией нашей же экспедиции. По оставшимся следам нетрудно было угадать, что люди останавливались для обеда. Я подобрал на земле кости и все мало-мальски съедобное. И вдруг – о счастье! – кто-то из обедавших оставил кусочек горелой хлебной корки величиной в половину спичечной коробки. Я схватил ее и бережно стал есть, откусывая микроскопические доли. Никогда в жизни я не едал ничего более вкусного!
… Алексей, засучив выше локтя рукава голубой косоворотки, как заправский пекарь, мастерски управлялся с тестом. Он не заметил даже, как подбежала его любимая собака.
– Черня! – вскрикнул повар, когда пес лизнул его в лицо. – Я же говорил, что ты не заблудишься! С полем тебя, дружище! – Ишь как брюхо раздуло.
Мы сняли котомки и уселись у огня отдыхать. Павел Назарович, Лебедев и Кудрявцев уплыли рыбачить и вот-вот должны были вернуться. Остальные были заняты своими делами: кто у костра, кто на берегу реки. Пугачев занимался с Самбуевым в палатке.
Самбуев очень плохо владел русским языком и совсем не умел читать, хотя по-бурятски читал хорошо. Пугачев взял на себя труд научить его в это лето русской грамоте.
– М-а-а-м-а… К-а-а-ш-а… – тянул медленно Самбуев.
– Часа три сидят, – таинственно доложил мне Алексей. – Шейсран уже девять букв знает, говорит: «Легче дикую лошадь объездить, чем русскую букву запомнить!»
Учитель и ученик лежали на брезенте перед открытым букварем, и Самбуев, водя длинными пальцами по буквам, тянул медленно и напряженно:
– П-а-а-п-а… М-а-а-ш-а… – а пот буквально ручьем катился с его лица, будто он нес большой груз.
– Хорошо, – сказал Пугачев, – теперь покажи, где слово «мама».
Самбуев долго смотрел на крупные буквы, водил по ним пальцем и вдруг заявил:
– «Мама» тут нету…
– А ты знаешь, что такое мама? – допытывался учитель.
– Знаю. Папа работай, мама дома живи.
– Правильно, ну, теперь покажи, где слово «мама».
Самбуев, не думая, ткнул пальцем в слово «Маша» и произнес:
– Мама…
– Неверно! – поправил его Трофим Васильевич. – А покажи, где Маша.
Тот вдруг пристально посмотрел на учителя и обиженным тоном сказал:
– Маша Кирилл Лебедев рюкзак клади, другой Маша не знаю.
– Скажи, Шейсран, когда ты читаешь, то думаешь по-русски или по-бурятски? – спросил Пугачев.
– Нет, русский думай не могу, голова болит, бурятский читай, думай хорошо.
– Если ты хочешь научиться читать по-русски, то нужно во время чтения думать по-русски и понимать, что обозначают те слова, которые ты читаешь, иначе не научишься.
– Хорошо, – ответил ученик. – Завтра утром встаю, весь день думай только русский, а нынче давай довольно!
– Пока не покажешь, где Маша, я тебя не отпущу.
Самбуев недоверчиво посмотрел на учителя, и довольная улыбка расплылась по его лицу. Он полез за пазуху и из внутреннего кармана достал завернутую в газетный лист фотографию, подаренную Лебедевым.
– Ты думаешь, это Маша? – спросил он.
– Нет, Шейсран, ты не понимаешь, давай читать снова! – упорствовал учитель.
С реки донесся голос Лебедева. По пенистым волнам крутого переката скользила долбленка с рыбаками. Все бросились встречать их. Я тоже спустился на берег.
– Рыба пошла! – крикнул Павел Назарович и стал выбрасывать из лодки на берег крупных хариусов.
Мое внимание было отвлечено другим. Голубая вода Кизира, как мне показалось, приняла мутно-бирюзовый цвет и потеряла свою прозрачность. Это обстоятельство не на шутку встревожило меня, и я сейчас же поделился своими мыслями с Павлом Назаровичем.
– Может, вода прибывает и начинает мутнеть, дни-то ведь теплые стоят, – сказал он и тут же добавил: – Неплохо поторопиться с отправкой лодок. Ой, как худо будет идти в большую воду, да и опасно.
На душе стало тревожно. Мы двигались слишком медленно, даже подумать страшно – за одиннадцать дней прошли двадцать восемь километров. А весна мчалась вперед. Она уже достигла верховьев Кизира, его многочисленных притоков и там, сгоняя снег с крутых откосов гор, заполняла вешней водою русла бесчисленных ручейков. Они-то и приносили в Кизир муть, которая превращала голубой цвет воды в бирюзовый. Теперь можно было сказать, что зима ушла безвозвратно; но как ни радостен был приход весны, мы были против ее поспешности. Мы не успели в лучшее время забросить груз на Кизир, весна опередила нас.
Лагерь на устье Таски был последним завершающим перед большим походом. Теперь впереди борьба, успехи, и может быть, и горести. С завтрашнего дня мы уже полностью отдаемся своей работе.
В восемь часов вечера праздник для нас закончился. Началась упаковка снаряжения, продовольствия и прочего экспедиционного имущества для заброски лодками по Кизиру в глубь Саяна.
Через преграды к Чебулаку
Второго мая лагерь пробудился рано. Тучами грязнилось небо. С гор дул свежий, прохладный воздух, глотаешь его, как ключевую воду, и не можешь насытиться. В нем и аромат земли, и запах набухших почек, и прель тающих снегов. Весна входила в горы с робким звоном ручейков, шелестом прошлогодней травы да журавлиным криком в небе. Но еще не было зелени. Природа пробуждалась медленно, ее пугали ночные заморозки и холодные ветры.
Тучи постепенно увеличивались, соединялись, смешивались одна с другой, и скоро за ними исчезли вершины гор. Все живое, разбуженное утренней зарей, смолкло, затаилось. Глухо шумел Кизир, не шевелился мертвый лес, как обреченный, он ждал последней бури, чтобы уйти в покой.
Лодки были загружены с вечера. Кудрявцеву, командиру «флотилии», предложено ценой любых усилий добраться до правобережного притока Кизира – реки Кинзелюк – и там, недалеко от устья, сложить груз. Если по каким-либо причинам товарищи туда не доберутся, им разрешалось разгрузиться на устье Паркиной речки.
Кудрявцев и отправляющиеся с ним пять человек представляли этот путь только по рассказам Павла Назаровича. Помимо того, что они должны были толкать шестами тяжело груженные лодки вверх по быстрой реке, им предстояло пересечь третий порог, самый опасный, и бесконечное количество шивер и перекатов. Успех зависел не только от ловкости шестовиков, но также от их напористости и осторожности.
Время, потребное для выполнения задания, инструкция не ограничивала – оно было слишком неопределенно и зависело прежде всего от весеннего паводка. Если высокий уровень воды в Кизире продержится долго, то путь будет чрезвычайно тяжелым. Но мы надеялись на весну дружную и без дождей. В этом случае вода с гор скатится быстро, и уровень Кизира войдет в норму скоро. Чтобы Кудрявцеву было легче разыскать нас при возвращении с вершины реки, мы наметили места трех будущих лагерей на Кизире.
Шесть человек уходили в далекий и трудный путь. Они уже стояли в лодках и, опираясь на шесты, ждали последней команды.
Павел Назарович еще раз по-хозяйски осмотрел долбленки, ощупал, ладно ли лежит груз, накрытый брезентами и увязанный веревками. На его озабоченном лице вдруг сошлись брови, что-то предупреждающее было во взгляде, направленном на Кудрявцева.
– Помни, Арсений, с водой не шути, тем паче на Кизире, промажешь – не успеешь захлебнуться, как упрячет. На авось не рискуй! Лучше семь раз отмерь, а раз отрежь, – и, обращаясь ко всем, старик добавил: – В омутах Кизира много соболиных, беличьих да колонковых шкурок, котомок, ловушек, да и не один промышленник туда ушел. С меня тоже не раз река брала ясак. Говорю, осторожнее, очертя голову не лезьте.
– Можно трогать? – крикнул Кудрявцев.
– Счастливого пути! – ответили мы.
Три пары шестов приподнялись и толкнули лодки вперед. Дружные удары слышались тише и тише, а ползущие близко у берега лодки все уменьшались, пока не исчезли из виду.
Темно-лиловая туча все больше заволакивала горы. В их прорехах раза два показалось солнце, позже бесследно исчезнувшее в мутной гуще. Стая гусей нестройно пролетела над водой, как бы следуя за тучами. Туда же летели, перекатываясь по тайге, косяки мелких птиц, будто там, в глубине гор, можно было укрыться от непогоды.
Порыв ветра донес глухой неясный гул из недр леса. Заржала отбившаяся от табуна лошадь. Над рекою просвистела пара гоголей. Еще несколько минут – и пошел мелкий дождь.
Ветер усиливался, встрепенулся костер, захлопали борта палаток. Разгулялась, зашумела непогодь. Усилился дождь. Подхлестываемый сильными шквалами ветра, он потоком лил во всех направлениях. Небо точно взбесилось. Палатка дрожала от напора. Отовсюду, словно раскаты грома, доносился треск и стон падающих деревьев.
Мы уже были готовы выступить в поход на Чебулак, но из-за непогоды пришлось задержаться. Со мною собирались пойти Павел Назарович и Днепровский. Они сидели с котомками, выглядывая из палатки и надеясь, что ветер угонит тучи.
Мы готовились совершить первый далекий маршрут. Наш путь пересекали: два перевала, расположения которых ни мы с Днепровским, ни Павел Назарович не знали; порожистая река Ничка; ее большой приток Тумная, а за ней-то и возвышается скалистый голец Чебулак – наша конечная цель. Задача этого маршрута – определить возможность постройки на Чебулаке геодезического пункта и наметить более значительные вершины соседних хребтов для следующих пунктов. Попутно мы должны были наметить подходы к гольцу для геодезистов, которым придется посетить Чебулак после нас.
А дождь, не ослабевая, все шел и шел, будто в облаках плотина прорвалась. Не стихал грохот падающих деревьев.
– Неправда, перестанет, – говорил Днепровский, прислушиваясь к шуму дождя.
– Смотря что «перестанет». Если перестанет ветер, то считай – дождя хватит на весь день, – отвечал ему Зудов, нетерпеливо посматривая из палатки. – Но, кажется, ветер осилит, вишь, как он расшевелил тучи – вот-вот разорвутся:
Действительно, ветер усилился. Тучи распахнулись голубой бездной, и, словно из пасти чудовища, на землю упали серебристые потоки света. Стало теплее, в береговых кустах ожили голоса птиц.
Груз наш состоял из теодолита, топора, двух котелков, рыболовной сетки, различной походной мелочи и незначительного количества продовольствия. Мы рассчитывали, что зеленая тайга под Чебулаком будет милостива и добавит к нашему скромному рациону несколько глухарей, а на реке можно будет настрелять уток и наловить рыбы. Четвертым нашим спутников был Левка.
На предварительное обследование Чебулака мы отводили девять дней. За это время Пугачев с Бурмакиным, Алексеем и Самбуевым займутся лошадьми, вьюками, прорубят тропу вверх по Кизиру – словом, подготовятся к большому переходу.
Просторная долина Таски, замкнутая невысокими горами, была покрыта засохшей пихтовой тайгою. Но там мы чаще встречали зеленые кедры, росшие в виде небольших перелесков. Подвигались медленно, отходя или пробираясь сквозь завалы. Как надоела нам всем мертвая тайга! А тут, как на грех, приходилось часто останавливаться, то груз неладно лежал на спине, то ремни слишком резали плечи, то обувь жала ноги, – этим всегда отличаются первые дни путешествия, пока человек не свыкнется с условиями.
Павел Назарович, следуя таежным традициям, по пути все время заламывал веточки.
– Зря заботишься, – говорил ему Прокопий. – Неужели на обратном пути заблудимся?
– Может, и зря, но труда-то не трачу, рука сама по привычке делает. Тайга, она и есть тайга, заблудиться в ней немудрено. (На следующий год геодезическая партия нашей экспедиции, следуя от гольца Чебулак, заблудилась и случайно набрела на заметки Павла Назаровича. Люди были очень благодарны старику.)
– Разве раньше не был здесь? – спросил я.
– Не приходилось. Но захребетные места хорошо знаю, не раз соболей гонял. Захаживал туда по Ничке на лодке да зимой на лыжах по реке ходил.
– Где переваливать будем, не собьемся?
– Собьемся с пути – не беда. На хребет выйдем – должен бы место узнать.
Чем дальше мы отходили от Кизира, подбираясь к водораздельному хребту, тем глубже становился снег. Под действием тепла последних дней он размяк, стал водянистым, и мы буквально плыли. На перевал выбраться так и не удалось. Заночевали в небольшом сыролесье, сохранившемся в вершине перевального ключа. А небо оставалось хмурым, и ветер не стихал. Левка, зарывшись в мох под старым кедром и уткнув морду в хвост, спал.
– Собака опять непогоду чует: голодная уснула, – сказал Павел Назарович, поглядывая на потемневшее небо.
И действительно, еще не успел свариться ужин, как на огонь стали падать мокрые пушинки снега. Ночь обещала быть холодной. Шесть толстых бревен, попарно сложенных концами друг на друга, должны были обогревать нас. Я постелил вблизи огня хвойные ветки, положил под голову котомку и, укрывшись плащом, уснул раньше всех.
В полночь меня разбудил холод. Днепровский и Павел Назарович мирно спали. Спины их были завалены снегом, а с той части одежды, которая была обращена к огню, клубился пар. Несмотря на то, что товарищи находились одновременно под действием высокой и низкой температуры и спали в сырой одежде, им было тепло, и они отдыхали.
В десять часов 3 мая мы достигли безымянного перевала водораздельного хребта. Впереди и глубоко внизу Ничка прятала между утесов свой быстрый бег. За ней по горизонту тянулись бесконечные горы. На западе они обрывались первозданными скалами, образующими мрачную вершину Чебулака. Путь к ней лежал через юго-восточный край Шиндинского хребта по бесконечным ущельям, прикрытым пестрой шубой отогретых лесов. Панорама безнадежно уныла: серые полосы обрывов, камни да огромные поля снега.
– Узнаю, ей-богу, узнаю! – говорил, волнуясь, Павел Назарович, показывая загрубевшей рукою вперед. – Видите, клочок тумана – под ним Дикие озера. А сюда гляньте – вниз по реке утесы выткнулись, там Ничка с Тумной сливаются. На устье ветхая избушка стоит, еще отцами сложенная, только туда нам далеко, лучше через озера пойдем. А вот видите – два горба вытыкаются – это Кубарь. Он почти у истоков Нички, а вишь, как в горах расстояние скрадывает, кажется, будто рядом. Все тут узнал, – по-детски радуясь, говорил старик.
К Ничке спускались по крутому ключу, забитому размякшим снегом.
Неприятное впечатление оставила у нас эта река. Какая стремительная сила! Сколько буйства в ее потоке, несущемся неудержимо вниз по долине! Неуемные перекаты завалены крупными валунами, всюду на поворотах наносник и карчи. Мы и думать не могли перейти ее вброд. Пришлось сделать плот. Пока Павел Назарович на костре распаривал тальниковые прутья, мы с Прокопием заготовили лес, благо что сухостоя много было на берегу. Связав бревна тальниковыми кольями, мы через три часа были готовы покинуть левый берег Нички.
Время неудержимо летело вперед. Уплывало к горизонту ласковое солнце. Туда спешили разрозненные тучи и сдавленная скалами река.
Мы оттолкнулись от берега и, подхваченные течением, понеслись вниз по реке. Я с Прокопием были на гребях, а Павел Назарович, стоя лицом к опасности, строгим взглядом следил за рекою.
– Берите вправо, камни! – командовал он.
Плот, отворачивая нос или корму, проносился мимо препятствия.
– Скала! Гребите влево, разобьет! – И мы всей силой налегали на весла.
Плот то зарывался в волны, то, скользя, прыгая через камни, бился о крутые берега, а мы с Прокопием все гребли. Наконец, справа показался пологий берег и устье неизвестного ключа. Мы решили прибиться. И вот у последнего поворота плот совсем неожиданно влетел в крутую шиверу. Справа, слева и впереди, словно ожидая добычу, торчали крупные камни. Вода вокруг них пенилась, ревела. Плот, как щепку, бросало из стороны в сторону, било о камни, захлестывало. Но по какой-то случайности обошлось все благополучно. Мы уцелели и уже готовы были благодарить судьбу, как вдруг впереди за утесом мутный поток раскинулся ржавой бездной, за которой, как привидение, вырос взъерошенный наносник. Плот подхватила очередная волна. Блеснула под ними текучая зыбь. До слуха донесся потрясающий крик Павла Назаровича:
– Залом, бейте влево!..
Старик бросился ко мне, схватил руками гребь, но уже было поздно. Плот с невероятной силой летел к наноснику. Развязка надвигалась. Я выхватил нож и перерезал на Левке ошейник. И все вдруг оборвалось. Смутно помню, как раздался треск, крик, я взлетел в воздух, раскинув руки и ноги, словно летяга, повис на сучке и на какое-то мгновение потерял память, не мог понять, что случилось. Увидел ноги Днепровского, повисшие в воздухе поверх наносника, – его выбросило далеко вперед. Разбитый плот, приподняв высоко переднюю часть, с тяжелым стоном перевернулся и, ломая греби, исчез под наносником.
– Помогите! – послышался сквозь рев бушующей реки человеческий голос.
Только теперь я увидел Павла Назаровича. Держась руками за жердь, висевшую низко над водою, он пытался вскарабкаться на нее, но поток тащил старика под наносник. Он сколько мог работал ногами, пытался приподняться, однако силы покидали его. Пока я добрался до старика, у него сорвалась с жерди рука, и я уже в последний миг поймал его за фуфайку, но вытащить не мог. Старик захлебнулся, отяжелел от намокшей одежды и не показывался из воды. На помощь подполз Днепровский, и мы вдвоем вырвали почти безжизненное тело Павла Назаровича из беснующегося потока.
С его одежды ручьем стекала ледяная вода. Голова безвольно свалилась на плечо. Нижняя челюсть отпала. Из-под полуоткрытых век смотрели обезумевшие глаза, переполненные ужасом. Старик хотел глотнуть воздух, но дико закашлял и, сдавив руками грудь, упал на наносник.
Жизнь медленно возвращалась к нему: вначале наступил озноб, затем сгладились черты лица, он тяжело поднял голову и вдруг что-то вспомнил.
– Табачок, братцы, намок, – произнес он хриплым шепотом, доставая из-за пазухи мокрый кисет.
Но разве до табачку было в эту минуту. Мы оттерли ему руки и ноги. Он еле двигался. Поделились с ним сухой одеждой. Как только мы убедились, что Павел Назарович остался цел и невредим, вспомнили про нашего четвероногого спутника, Левку.
– Неужели он попал под наносник?
– Левка! Левка! Левка! – кричал Днепровский.
Звук улетал по реке и терялся в шуме волн. Собаки нигде не было видно. Мы решили, что она погибла.
С нами на наноснике оказалось только два рюкзака, о которых в последнюю минуту вспомнил Прокопий и которые вместе с нами были выброшены на бревна. Рюкзака с теодолитом и части продовольствия, сетки, ружья и двух шапок не было.
Странный остров, на который нас выбросил поток, был сплетен из сотен стволов самой различной толщины и всех пород, какие росли по реке Ничке. Основанием ему служила небольшая мель, теперь покрытая водой. Много лет стоит он там на главной струе реки, и от напора воды, будто разбитый параличом, дрожит, издавая неприятное гуденье.
Несмотря на всю неприглядность нашего положения, оно не было безнадежным. Мы были даже рады тому, что река выбросила нас на наносник, а не на камни в шивере.
В одном из спасенных рюкзаков оказался топор, – эта находка окончательно рассеяла зародившееся было сомнение в благополучном исходе нашей переправы. Даже Павел Назарович повеселел и, достав из рюкзака сухой табак, закурил трубку. Мы сразу приступили к поделке нового плота, надеясь все же переправиться на правый берег реки. Но у нас не было ни веревки, ни гвоздей, чтобы связать или скрепить бревна, а тальниковые прутья росли только на берегу. Пришлось отпороть все ремни на рюкзаках, снять пояса и подвязки на ичигах. Но этого не хватало. Тогда пустили в ход белье. Мы готовы были пожертвовать всем, лишь бы скорее покинуть ужасный остров.
Пологий берег, куда мы стремились попасть, начинался метров на четыреста ниже нас и тянулся не более как на полкилометра. Нужно было успеть пересечь реку раньше того места, где кончался пологий берег.
Наш новый плот не был способен выдержать длительное путешествие. Первый же удар о камни грозил отдать нас во власть потока. Помощи было ждать неоткуда. Только риск мог решить дело.
Как только мы оттолкнулись от наносника, течение подхватило плот и стремительно понесло вниз по реке. Мы работали шестами, стараясь изо всех сил тормозить, но сила потока увлекала плот все ниже и ниже. Мелькали камни, шесты то и дело выскакивали из воды, чтобы сделать гигантский прыжок вперед. Нас захлестывало валом. Борьба продолжалась не более двух минут. Все работали молча.
Наконец мы у цели. Плот с разбегу ударился о береговые камни, лопнул пополам и, развернувшись, снова понесся, подхваченный течением. Но нас на нем уже не было. Следом за плотом, спотыкаясь, по камням бежал Павел Назарович.
– Чего же вы стоите? Белье-то уплыло! – кричал он, продолжая молодецки прыгать по камням. Но плот уходил все дальше.
– Штаны-то у меня домотканые, грубые, как же я без белья ходить в них буду? – горевал Зудов.
Мы развели костер, развесили одежду Павла Назаровича и только тогда вспомнили про голод. Небо по-прежнему оставалось затянутым облаками, и по реке тянул холодный низовик. Пока варили обед, я прошелся берегом, еще надеясь найти след Левки. Но напрасно, нигде никаких признаков.
Отогревшись у костра и подкрепившись рисовой кашей, мы накинули рюкзаки и пошли дальше, взяв направление на северо-запад. Теперь вместо ремней мы привязали к рюкзакам веревки, сплетенные из тальниковой коры (лыка). Они же заменяли нам пояса. Крутой ключ, по которому мы поднимались, скоро кончился, и мы оказались на верху правобережного хребта. Вдруг до слуха долетел знакомый лай, и все насторожились. Прокопий даже снял шапку.
– Левка жив! – радостно вырвалось у него. – Ниже залома лает.
Еще с минуту мы прислушивались, затем, как по команде, бросились обратно к Ничке.
По лаю Левки, в зависимости от интонации голоса и настойчивости, мы обычно угадывали, кого он облаивает: медведя, сохатого или загнанную на дерево росомаху, но на этот раз мы терялись в догадках – так пес никогда не лаял.
– Наверное, попал меж скал и выбраться не может, вот и орет! – заявил Павел Назарович.
Спустившись к реке, мы за поворотом увидели Левку. Он стоял у скалы, зубчатый гребень которой спускается к Ничке, и, приподняв морду, лаял. Оказалось, что на одном из остроконечных выступов этой скалы, на самой вершине стояла небольшая кабарожка. Ее-то и облаивал Левка. Увидев нас, он бросился к скале и, пытаясь взобраться наверх, лаял и злился. А кабарга стояла спокойно, удерживаясь всеми четырьмя ножками на самой вершине. Справа, слева и спереди скала обрывалась стеной, и только к хребту, от выступа шел узкий каменистый отрог. Мы были удивлены, какой рискованный и рассчитанный прыжок нужно было ей сделать, чтобы попасть на тот выступ, который кончался площадкой буквально в ладонь.
– А это кто там? – крикнул Днепровский, заглядывая на другую сторону скалы. – Тут тоже кабарожка, – добавил он обходя выступ. Мы поспешили за ним. Там, за поворотом, в россыпи, как раз против выступа, на котором продолжала стоять кабарожка, лежала, корчась в муках, вторая, более крупная кабарга. Заметив нас, она приподнялась, чтобы прыгнуть, то тотчас же беспомощно упала на камни. У нее были сломаны передние ноги, а глаза, черные, как уголь, метались из стороны в сторону, точно она откуда-то ждала облегчения.
– Упала, бедняжка, с утеса! – сказал Павел Назарович.
Днепровский вытащил нож и прекратил мучения кабарожки. Сомнения не было: спасаясь от Левки, кабарга хотела вскочить на выступ, но не рассчитала прыжка и сорвалась.
– Не может быть, чтобы кабарга промахнулась, прыгая с уступа на уступ, – возражал Днепровский. – Тут что-то другое!
День клонился к вечеру. Павел Назарович поймал Левку, я взвалил на плечи кабаргу, и мы, спустившись пониже, решили на этом закончить суетливый день. Прокопий остался у скалы. Следопыт хотел разгадать, что же в действительности было причиной гибели кабарги.
Ночной приют мы нашли под густыми елями, росшими небольшой группой у соседнего утеса. Тревожный день угасал вместе с солнцем, закатившимся за розовеющие громады скал. Долину заполняли таинственные сумерки. Заречная тайга курилась холодеющей дымкой. От каменистых берегов отступала уставшая на перекатах Ничка. Костер и вечерняя прохлада, наступившая сразу, как только небо очистилось от облаков, были желанными и необычно приятными.
Мы ожидали Днепровского.
Кабарга – это самый маленький олень и, пожалуй, самый изящный. Я однажды видел на песке след сокжоя – северного оленя, на который ступила кабарга, и был удивлен. Оказалось, что след у нее в шестнадцать раз меньше следа ее старшего брата. Природа отдала в безраздельное пользование кабарги скалистые горы с темными ельниками и холодными ключами. Нет более приспособленного к жизни в скалах животного, чем кабарга. Нужно видеть, с какой быстротой она носится по зубчатым гребням, по карнизам, по скалам, с какой ловкостью прыгает по уступам. Но жизнь этого маленького оленя, несмотря на его приспособленность к обстановке, полна тревог.
В Сибири кабарга держится по всем горным хребтам за исключением густонаселенных районов, где она давно исчезла.
В крупной россыпи, поблизости от ягеля и воды, или в вершине ключа, в корнях и чаще, самка-кабарга в мае приносит двух телят, реже одного, еще реже трех. По внешности они представляют маленькую копию матери; такие же высокие задние ноги по сравнению с передними, такая же голова, напоминающая морду борзой. С первых дней появления телят на свет над ними властвует страх, и до конца жизни он является их постоянным спутником. Я никогда не видел на кабарожьей тропе следов маленьких телят даже в тех районах, где кабарга водится в большом количестве (среднее течение реки Олекмы, верховья реки Зеи, Купари, Маи). Мать-кабарга бывает вместе с телятами только во время кормежки. Она не видит игры, которой забавляются утренними зорями телята. Мать обычно живет вдали от детенышей, чаще в соседних ключах, видимо, боясь своим постоянным присутствием выдать малышей. Спрятанные в россыпи или в чаще, телята проводят первый месяц жизни в скрытом убежище. Большую часть времени они спят и только с появлением матери, которая приходит в строго определенное время, проявляют признаки жизни. Взбивая мокрыми мордочками вымя матери, они жадно сосут молоко и от наслаждения бьют крошечными копытцами о землю. Чтобы удовлетворить свое материнское чувство, кабарга должна довольствоваться этими короткими минутами и, не задерживаясь, исчезать. А малыши снова прячутся до следующего прихода.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































