Текст книги "Ницше"
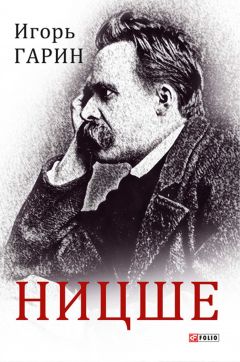
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Игорь Гарин
Ницше
Введение
И когда вы отречетесь от меня – я вернусь к вам.
Ф. Ницше
Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их?
Ф. Ницше
Философия – это мир. Великий философ – творец мира. Я не уверен в существовании параллельных физических миров, но виртуальные параллельные миры философий – величайшая из субъективных реальностей. Любое знание парадигмально, исторично, пристрастно. Уникальной особенностью философского знания является одновременное существование всех философских парадигм, историй, страстей. Что осталось от науки эпохи Платона? Прах… А философия Платона продолжает жить, кто-то даже полагает, что вся современная философия – комментарий к ней. Я так не считаю, хотя уверен, что в иерархии мудрости многие современные философии – бабочки-однодневки по сравнению с эйдосами Аристокла. О науке этого не скажешь: захудалая современная физическая идея несопоставима по уровню с аттической наукой.
Философия – это мир. Но мир субъективный, личностный, исповедальный. Нет такой философии, которая бы не завоевала себе прозелитов и неофитов. Нет такой философии, которую бы признали все. Если жизнь – это борьба, то мудрость – ее образ, символ, духовная эмблема. В глазах поклонников и противников Сократа горит такой же огонь, как у его личных друзей и судей. Когда жил Фома Аквинский, а томизм и сегодня живее всех живых. Даже оскандалившиеся Маркс и Энгельс, классовое человеконенавистничество которых стоило миру ста миллионов жертв, продолжают вербовать реакционных подвижников возврата к «чистым истокам», не говоря о расистах, не отрезвленных Аушвицами и Треблинками.
Я давно пришел к выводу, что предрасположенность к определенным мыслительным мирам иррациональна или генетична: нельзя переубедить козла, отучив его от козлиности. Сартр останется маоистом даже на высотах экзистенциализма. Пол Поту не грозит францисканство… Пристрастие к чему-то, вкус, тяга идут от нутра, а не от мозга.
Эпохальные события крадутся по уединеннейшим, скрытнейшим, индивидуальным сознаниям: «явление» Киркегор, «явление» Достоевский, «явление» Ницше, «явление» Кафка важнее для истории, чем, может быть, мировые войны или построение чего-то там в одной отдельно взятой стране. Феллини не случайно говорил, что после Джойса, которого почти никто не читал, дамы иначе носят шляпки. Если правда, что именно культура определяет духовное и материальное состояние народа, то качество нашей жизни определяется тем, что писали наши писатели и наши философы, а не тем, сколько революций и войн у нас произошло. «Событие» Ницше важно не идеями «сверхчеловека» или «толкни падающего», с которыми часто ассоциируется его имя, а с идеей «переоценки ценностей», с «сумерками кумиров» – с отказом от авторитаризма, вечных и незыблемых истин, с непрерывным поиском новых ценностей и бесстрашием исканий. Еще – с философией жизни, у истоков которой он стоял, со всей современной культурологической и философской проблематикой века, которую оплодотворили его идеи.
Никто, как Ницше, не призывал с таким отчаянием к бегству в царство свободы интеллекта, и никто с такой силой не почувствовал, что наступающий век несет с собою нечто новое и ужасное, что старая эпоха отмирает, а в ее предсмертных конвульсиях родятся тоталитарные режимы XX века национал-социализм в Германии и большевизм в России: «Грядет время, когда будут вести борьбу за господство над землей – ее будут вести во имя фундаментальных философских учений».
Каждая философия имеет свой электорат – людей, что ее выбирают. Каждая философия имеет своих ненавистников. Иногда я думаю, что философия – самое дорогое предприятие: крестовые походы, альбигойские войны, революции, «торжество идей», кровопролитие гражданских смут, оружие Судного дня – разве все это, в конечном счете, не плата «за идею»? Я имею в виду даже не политическую философию, а веру в «правое дело», философское по своей природе.
Нам, большим поклонникам «единственно научной философии», над которой потешался весь цивилизованный мир, почему-то казалось естественным, что все прежние философии допускали критику, наша же изначально оказалась божественной и карающей: непогрешимая, она вершила суд над всеми остальными. «Критики…» – вот ее чуть ли не главный результат, так сказать, экскрементальное производство…
Отвлечемся от собственной божественности (сверхчеловечности на языке Ницше), спустимся на грешную землю. Джонатан Свифт своими остро– и тупоконечниками, вообще представителями лапутянской науки, осмеял не только узкопартийную «мудрость», но мудрость как таковую. Остро– или тупоконечник – любой философ, мыслитель, ученый, преданный открывшейся ему убогой «правдочке» чуть ли не до костра включительно. Конечно, подвижничество – великое дело, но ретроспектива этого дела обескураживает: где сегодня результаты тех «великих идей», за которые звали умирать эти подвижники две тысячи, тысячу, сто, пятьдесят лет тому назад. Стоило ли ложиться костьми за «государство» Платона, «город Солнца» Кампанеллы, фаланстеры Фурье, коммуны Маркса? Стоило ли «давить гадину» Вольтеру, звать «назад к природе» и вперед к революции Жану-Жаку, просвещать пруфроков и иллиджей Гельвецию и Дидро? Стоило ли разрушать старый мир ради Прекрасного нового?
Есть и другие вопросы: почему из «торжества рационализма» вырос самый иррациональный мир, абсурдности которого не видно конца? почему «плоды просвещения» дали в этом мире кисло-горькие дички? почему самые обильные, бескрайние, населенные многими народами страны довели себя до стадии физического вырождения? почему от «светлого будущего» удирали миллионы? почему нашими погостами усеяна вся земля – от Ниццы и Сент-Женевьев-де-Буа до Лос-Анджелеса и Рио?..
Я отвлекся, пепел Клааса стучит в моем сердце, этот стук отвлекает…
Впрочем, вопросы эти не риторичны: их еще никто не ставил, а герой этой книги, проложивший тропу Заратустре, уже дал ответы на них! «Самый передовой» Маркс намечал пути человеку-массе, а «самый реакционный» Ницше рассказал, куда они приведут. Не потому ли – «философ-монстр», «выродок взбесившейся ненависти к познанию», просто «безумец»?
У каждого философа есть свои экстатические фаны и неистовствующие хулители – исключений не бывало. Но даже среди самых оплеванных и возвышенных Ницше – вне конкуренции.
Одни его считают «философом-монстром», «выродком взбесившейся ненависти к познанию» и даже «просто сумасшедшим», якобы необдуманно и безответственно провозгласившим тезис «Бог умер» и выдвинувшим в качестве высшего морального императива лозунг «Нет истины, все позволено», а также неоциником, мрачным сокрушителем основ, возмутителем спокойствия, сторонником рабства, жестоким воителем, певцом зла и духовным отцом фашистской идеологии человеконенавистничества, геноцида и террора.
Другие включают его в состав гениев человечества, называют великим творцом, поэтом-философом, апостолом новой веры, благороднейшим мыслителем, мучеником познания, властителем дум, бесстрашным борцом за освобождение личности и возрождение человечества, непримиримым врагом всяческих предрассудков и заблуждений, догм и стереотипов, ошибок и иллюзий, накопленных в ходе длительного исторического развития европейской цивилизации.
Почему в эпоху «торжества разума» так трудно пробивались к людям «философы неприятных истин»? Почему по сей день Киркегор, Ницше, Фрейд у нас самые оклеветанные гении? Потому, что утопическое сознание или высокий дух – называйте как хотите – прячется от правды жизни в прекраснодушие, самообман, в «великую идеологию», разрушительность которых все еще полностью не осознана. «У нас секса нет», «да здравствует равенство!» – подобными формулами устлана дорога в рай нашей свинской жизни.
Десятилетиями мы держали эти ужасные писаные истины под замком, отдаваясь по-неписаному ужасам, в сравнении с которыми они показались бы разве что невинными приближениями; десятилетиями кому-то думалось, что читать «вот это вот» опасно, словно речь шла о воспитанных мальчиках, которых надо было уберечь от этой смертельно ужаленной и оттого «неприятно» жалящей совести… Опасно? Но не опаснее же самой действительности, которую так разрушительно чувствовал и небывалые вирусы которой впервые привил себе, продемонстрировав на себе их действие, этот человек!
Как многие пророки, Ницше безосновательно считал свою эпоху переломной, граничной: пришло время смены парадигм, осознания человеком собственной ценности, духовной зрелости, свободы и способности распоряжаться самим собой, настала пора осознать неосуществимость идеального мира, достижения безусловных ценностей, необходимо раз и навсегда положить конец самообольщению и самообману.
Философия по природе своей профетична и артистична, ибо является внутренним голосом философа. В чем-то философия – «спектакль» одного актера, и ее «истинность» – заразительность, зрелищность, эстетичность, эмоциональность восприятия. Ответственный профетизм – необходимый элемент культуры, выражающий глубинную суть витии[1]1
Безответственный или корыстный профетизм характерен для вождей масс, таких как Ленин, Муссолини, Мао или Гитлер.
[Закрыть]. Философия – не просто исповедь, а огненное слово. Даже «нудным философам» свойственны «божьи искры», у Паскаля, Киркегора, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Ортеги философия превращалась в «поток лавы», в экзальтацию, экстатическое самовоспламенение.
Человек профетического типа слушает не голос, идущий извне, не голос общества и народа, а исключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к судьбе народа, общества, человечества. Пророк одинок, он находится в конфликте с коллективом, религиозным или социальным, он побивается камнями, он считается «врагом народа», но он социален, он говорит слово правды народу, обществу, он прозревает судьбы человечества. Быть может, более всего мы нуждаемся в пробуждении профетического духа. Это дух свободы и независимости, несогласия ни на какой конформизм и вместе с тем сознание служения сверхличной цели. Представитель духа не согласен определяться обществом и государством, он определяется изнутри.
Философия есть выражение нонконформизма и духовной свободы, в этом ее главный социальный смысл. Если общество ценит человеческую независимость, справедливость и правду о себе, то оно должно ценить любые формы инакомыслия как высшую форму социального богатства.
История философии – это вечное переписывание истории, преследующее цель выявления новых срезов мысли, открытие более глубоких измерений старой мудрости. Моя нынешняя задача – «переписать» Ницше, убрав его браваду, экстравагантные крайности, радикализм, экстремизм.
Увы, Ницше дал достаточно оснований – не только своим недоброжелателям – уличать «ликующее чудовище» в варварстве и садизме: порой, как расшалившийся ребенок, он переходил грани дозволенного, облекая глубочайшие бессознательные порывы в откровенно садистские формы. Возможно, даже скидка на болезнь этого не объясняет. К тому же философу непозволительно то, что позволительно психологу или врачу. Ницше дал веское основание Томасу Манну вспомнить предвосхищение Новалиса, гения того же склада, что и Ницше:
У нравственного идеала нет соперника более опасного, нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи, который иначе называют еще (очень верно по существу и неверно по выражению мысли) идеалом эстетического величия. Этот идеал был создан варварством, и можно лишь пожалеть, что в наш век одичания культуры он находит немало приверженцев, в первую очередь из числа людей ничтожных и слабых. Идеал этот рисует нам человека в виде некоего полубога-полузверя, и люди слабые не в силах противостоять неодолимому обаянию, какое имеет для них кощунственная дерзость подобного сопоставления.
Да, это верно, но относится ли к Ницше? Если относится, то в какой мере? Действительно ли его идеал полубог-полузверь?
Чувство благоговения перед жизнью странным образом уживалось в нем с резкостью оценок, свидетельствуя о душевной неуравновешенности или даже черствости, выражавшихся в граде насмешек, выплескиваемых на вчерашних кумиров. «Понимать людей другого душевного оклада, чем он, разбираться в них Ницше не мог и не хотел; сострадание и милосердие, вообще сочувствие, он презирал, а потому умел только насмехаться или благоговеть».
Конечно же, Ницше – провокационный писатель. Но модернизм всегда провокация, борьба с современной культурой, вызов ей. Без «безумных идей» невозможно движение вперед – то, что в свое время сознавали лишь одиночки, ныне стало трюизмом. Болезнь была необходимым компонентом творчества экстатического певца страдания. Если бы ее у него не было, он бы ее выдумал – и, мне кажется, если не выдумал, то культивировал, использовал – как «третий глаз», как «гениальность ноздрей», как мышление телом.
Отказ Ницше от идентификации с собственным телом дает ему «безумное» право на повторные рождения в других телесных ликах и фигурах, в другой, воображаемой анатомии, где телесный опыт более не определяется случайной детерминацией. Ницше мог бы сказать: «Теперь я выбираю тело, а не оно меня». Вот почему Ницше занимает проблема собственного эксцентризма. Очевидно его стремление выработать единую стратегию «безумной» провокации: вновь и вновь ускользать от самого себя, преодолевая свою первую природу, всегда, – не сам, а маска маски. И тогда выздороветь – это суметь наделить безумие его собственным языком, иначе говоря, заставить пройти сквозь символические фильтры, в которых оно утратит свою тираническую энергию. Поэтому все в психической жизни Ницше следует понимать как бы наоборот: выздороветь для него вовсе не означало создать необходимые условия для возрождения личностного центра (по типу картезианской конструкции «я мыслю») как источника и меры здравомыслия…
За абсурдами и несуразностями Ницше, за его эпатажем, позой, фразой, фрондой, игрой, декларациями, несправедливостью, предвзятостью кроется детская чистота, инфантильный вызов, юношеская запальчивость, психологическое изгойство. Вот почему истину Ницше следует искать не в выхваченных из контекста фразах, а в подтексте, символах, движении, процессе мышления. За интеллектуальным фейерверком, шокирующими парадоксами, экстремистскими по форме высказываниями кроется глубоко сокрытое, явно невыраженное существо. Очень опасно увлечься ницшеанскими софизмами, стать «обезьянами Заратустры»:
Ко всем людям, позволившим его, Ницше, философии соблазнить себя и обмануть, он в гневе восклицает:
«Этим нынешним людям я не стану светить – и не светом назовут они меня. Этих – я желаю ослепить: молния моей мудрости! Выжги им глаза!»
На дружеское напутствие это совсем не похоже. Ницше отпускает нас от себя так, словно отказывает нам в себе. Вся тяжесть возлагается на нас. Истинно лишь то, что исходит из нас самих – при посредстве Ницше.
Ницшевская мысль требует от человека высокой свободы – не пустой свободы, которая ограничивается тем, что отделывается от всего ее стесняющего, а свободы наполненной, выходящей навстречу человеку из его собственной исторической глубины, дарящей ему самого себя непостижимым для него образом.
Склонный к самоанализу, он лучше иных психоаналитиков осознавал собственные мотивы и особенности своего психического склада. «Я – авантюрист духа, – признавался Ницше, – я блуждаю за своею мыслью и иду за манящей меня идеей». Лучше было бы сказать не «блуждаю» или «иду», а «бросаюсь в пропасть» – столь головокружительны были его «эксперименты» с истиной. По словам Томаса Манна, Якоб Буркхардт, отнюдь не филистер, рано подметил в своем протеже эту опасную склонность, необузданное стремление мысли пускаться в опасные виражи на высоте, где так легко сбиться с пути, «зарваться» или разбиться, – «что и побудило Буркхардта благоразумно отдалиться от Ницше и с достаточной долей равнодушия – гётевский способ самозащиты! – наблюдать за его окончательным падением…»
Часто ли можно услышать от трезвомыслящих – демократов, либералов, социалистов и т. п. – признание типа: мое мировоззрение происходит из ненависти? А вот Ницше говорил о себе: «Мой антилиберализм доходит до злости». Это не провокация – это действительно сверхтрезвая и проницательная реакция на еще неродившиеся бесчисленные жертвы «тарантулов», этих подвижников «свободы, равенства, братства», способных – после всего ими содеянного – вызвать уже не злость, а злобу, ненависть, самые страшные проклятья.
Благодаря склонности к самоанализу (возможно, даже психоанализу), Ницше оставил «инструкции» будущим герменевтам. Так, в одном из писем, давая совет относительно того, как лучше всего писать о нем – психологе, писателе, имморалисте, – он предостерегал от однозначности, от решительных «да» или «нет».
Совершенно не нужно и даже нежелательно, – пишет он, – чтобы вы принимали сторону моих защитников или моих противников; напротив, смесь некоторой доли любопытства, какое проявляют при виде незнакомого растения, с иронически-недоверчивой сдержанностью – вот, как мне кажется, та позиция, которая была бы наиболее разумной в отношении меня. – Прошу прощения! Это, конечно, очень наивно – давать благие советы, как следует выпутываться из того, из чего выпутаться невозможно…
Это не предостережение интерпретаторам против самого себя – это трезвая характеристика «невозможного», собственного творчества со всеми его полетами над бездной.
Вызов, брошенный Ницше философии изнутри самой философии, оказался необыкновенно производительным: Ницше принадлежит самый плодотворный принцип любого вида знания – переоценка всех ценностей, то есть критическое переосмысление, развитие, преодоление достигнутого уровня, конкуренция идей, все более углубленный подход, позволяющий выявить новые аспекты, уровни, подходы, трактовки. Парадоксы, курьезы, сбивающий с толку эпатаж, дерзкий нонконформизм – все это оказалось необходимыми формами того философского содержания, которое в полную меру раскрылось в наше время в работах Куна, Полани, Лакатоса, Фейерабенда.
Понять мыслителя – не просто дать интерпретацию его мыслей, но войти в поток его мышления, понять, как он мыслил, «мыслить все то существенное, что мыслилось его мыслью». Понять Ницше – значит, отбросив громкую фразу, пафос, эпатаж, эйфорию, проникнуть в самую суть его мышления, проникнуть в те глубины, где мысль зарождалась, сказать то, что он волил сказать, современным языком.
Можно без преувеличения сказать, что Мартин Хайдеггер заново открыл Ницше, увидел в странных, парадоксальных, филологических текстах «ниспровергателя» метафизики – глубокого наследника метафизики, разглядел ницшевскую мыслительность – процесс созидания мысли в связи с личностью мыслителя, увязал основополагающие понятия философии Ницше («нигилизм», «переоценка всех прежних ценностей», «воля к могуществу», «вечное возвращение того же самого», «сверхчеловек») в единое целое, обнаружил их глубочайшую внутреннюю взаимосвязь и взаимонеобходимость, выяснил скрывающиеся за парадоксами и двусмысленностями Ницше продуманность и естественность и, если хотите, пред-посланность (судьбу), укорененность идей Ницше в самой истории идей.
Здесь под пред-посланностью я понимаю и эволюционную необходимость, и судьбоносность, и возрастающую напряженность, и неизбежность свершения (смысл, вкладываемый в это понятие Хайдеггером).
Как всякий пишущий человек, Фридрих Ницше хотел быть понятым современниками, но никогда не ориентировался на их вкусы. Подобно другим гениальным интровертам, он не писал для читателей, а просто хотел выговориться: не распространить свои убеждения, не просветить ближних, не научить, а излить собственное «я». Такова, впрочем, цель всех «несвоевременных мыслителей». Читатель был необходим ему лишь как свидетель. Лев Шестов не без оснований назвал философию Ницше философией трагедии, и это очень многоплановое определение. Читатели – соучастники «случая Ницше», свидетели трагедии духа, страстного, безответного монолога страдающего и отверженного мыслителя.
Ницше писал книги не для того, чтобы учить, но для того, чтобы учиться. Эту цель пишущего я глубоко познал на самом себе и вполне мог бы повторить о себе максиму Одинокого мыслителя, каковым, в сущности, являюсь: «Вовсе не легко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими».
Как у Паскаля или Киркегора, философия Ницше неотрывна от его душевной жизни и имеет глубоко личный характер, делающий его тексты своеобразным духовным автопортретом. Это – глубоко исповедальная мудрость, перерабатывающая события жизни в интуиции духа, «невольная и бессознательная автобиография философа».
Переоценка ценностей, о которой Ницше так много писал, была не чем иным, как состоянием его индивидуального сознания. Знакомство с сочинениями Ницше есть лучший способ знакомства с его индивидуальностью. «Кто есть личность, – писал он, – имеет по необходимости философию своей личности».
Философия Ницше – это раскрытие внутреннего мира Ницше. По словам Лу Саломе, подобно тому, как отвлеченные систематики обобщали свои собственные понятия в законы мироздания, так Ницше отождествлял свою душу с мировой душой.
Характеризуя особенности духовного склада своего друга, Лу Саломе обратила внимание на качества, присущие, и филологу, и философу:
Это была, во-первых, его гениальность в обращении с тончайшими оттенками мыслей и чувств, требующими чрезвычайно нежной и вместе с тем твердой руки, чтобы не быть стертыми или искаженными. Это то же самое, по моему мнению, что впоследствии делало его скорее очень тонким, чем великим психологом или, вернее, великим в схватывании и отражении тонкостей. Характерно в этом отношении выражение, которое он однажды употребляет, говоря о предметах, как они представляются взору познающего: он называет их «филигранью внешних предметов».
В связи с этой чертой стоит влечение к исследованию скрытого и тайного, стремление вывести на свет затаенное – умение видеть во мраке, и инстинктивный дар дополнять интуицией, чутьем пробелы, недоступные знанию. Значительная часть гениальности Ницше в этом именно и заключается. Это тесно связано с его высоким художественным даром, в котором понимание тонкого и обособленного каким-то таинственным образом расширяется в большое, свободное понимание отношений целого, общей картины.
Там, где систематики искали незыблемость, Дон Жуана познания интересовала подвижность. Решения тяготили его, он предпочитал вопрошания. Он примерял все идеи, пока не понял, что важны не идеи, а их перемена, перемена идейного строя. Даже увлекшись идеей, он не разделял ее полностью, не страшился противоречить самому себе, не желал «окончательных решений».
…То слово, которое, казалось бы, должно выразить полное удовлетворение достигнувшей своей цели мысли, обозначало для него трагедию его жизни. Он не хотел, чтобы волновавшие его проблемы духа когда-либо перестали касаться его, он хотел, чтобы они продолжали потрясать его до глубины души, и поэтому он до некоторой степени не рад был решению, отнимавшему у него самую проблему: он набрасывался каждый раз на решение со всей тонкостью и преувеличенной утонченностью своего скептицизма и со злорадством заставлял его, радуясь собственным страданиям и вреду, наносимому самому себе, – возвратить ему его проблемы.
Именно поэтому невозможно изложить философию Ницше, нельзя сделать то, что не позволял себе он сам, ибо домыслы приведут лишь к тому, что свои интерпретации выдадут за его мысли. Все эти интерпретации, а их великое множество, на самом деле – произвольные выдергивания и систематизация кусков из всего корпуса сочинений Ницше. Интерпретации эти, разумеется, не бесполезны; одни внешне убедительны, другие – не слишком, но все они неполны и односторонни, все они рискуют оказаться ошибочными и несостоятельными. Поэтому лучшее, что можно сделать, – это не увлекаться блестящими фразами, бросающимися в глаза, а постараться очертить главные координаты мысли Ницше, не забывая при этом, что они выступают независимо друг от друга, а попытки втиснуть их в жесткий корсет вроде «философии жизни», «волюнтаризма», «иррационализма» заведомо обречены на провал, что и надо честно признать заранее.
Ницше считал, что философ не должен устанавливать новые верования, его задача – создавать основы новой жизни, то есть открывать новые перспективы духа, возвращать права мифу, искусству, свободе выражения, поиску в неизведанных местах. Метафизика должна быть человечной. Верховная задача философа будущего – стать «верховным судьей художественной культуры и вместе с тем ее охранителем от всякого рода излишеств».
Философы-рационалисты упорядочивали мир, приводили хаос к системе, Ницше сознательно и декларативно оставлял всё как есть, возводя отсутствие системы в принцип мироустройства:
Те мыслители, по мнению которых все звезды движутся по круговым путям, не принадлежат к числу глубочайших мыслителей; кто заглядывает в себя как в бесконечно громадное мировое пространство и носит в себе млечный путь, тот знает, как непланомерны все эти млечные пути; они ведут к хаосу и лабиринту бытия.
Конечно же, Ницше – профетический, а не концептуальный философ, стремящийся высказаться, а не доказать, созерцать, а не систематизировать, отдаться хаосу, а не какому-либо ритму мысли. При всей разрушительности некоторых его идей-интуиций мы не обнаружим у него той глубоко скрытой некрофилии, которая находится «на дне» мышления людей порядка и системы. Эрих Фромм давно обратил внимание на склонность патологических некрофилов к «сверхпорядку». Хаос Ницше – свидетельство его принадлежности к иной группе психологических типов, скрывающих внутреннюю мягкость за маской внешней агрессивности.
Эпатаж – только маска, грубая раковина, скрывающая жемчужину, юродство блаженного и святого.
Я не разделяю вересаевскую оценку личности и творчества Ницше как столкновение и борьбу взаимоисключающих – дионисийского и аполлоновского – начал. Во-первых, мне вообще претит подмена мультиверсума дихотомией, диалектикой. Во-вторых, в Ницше не было темного, дикого, разрушительного начала – только детские потрясения, только болезнь, только экстатический стиль. Творчество Ницше – феномен эстетический, а не научный, поэтому и воспринимать его следует как грандиозную мифологию, насыщенную символами, метафорами, синкретическими образами и идеями (именно так воспринимали его Л. Шестов и К. Ясперс). Корпус идей Ницше требует не систематизации, а максимально плюральной интерпретации. Главная ошибка большинства исследователей Ницше – выискивание противоречий вместо констатации мифологем. Если хотите, Ницше всех периодов творчества – один из самых последовательных мыслителей, никогда не изменяющий «мученичеству познания». В этом отношении я абсолютно солидарен с призывом К. А. Свасьяна «раз и навсегда избавиться от вульгарного псевдо-Ницше, как от интеллектуального комикса, состряпанного псевдоправедниками всех стран».
Выявление полисемантичности, многослойности идей Ницше, ощущение их личностной ориентированности, избавление от вульгарного перенесения его символики на социальную реальность, отказ от попыток встроить движение его мысли в привычный ряд философских штампов, вписывание его жизни и творчества в широкий культурно-исторический контекст – вот что характерно для немногих работ, открывающих новый этап в исследовании Ницше.
Важнейшая особенность стиля мышления «ловца душ» – сочетание эстетического подхода с ценностными суждениями о жизни, моральной вовлеченности со свободой и открытостью поиска.
Ницше эстетизировал мудрость, максимально приблизив философствование к художественности. «Мы, философы, – писал он Георгу Брандесу, – ни за что так не благодарны, как если нас смешивают с художниками». Говоря о себе: «…Я остаюсь поэтом до предела этого понятия», – он имел в виду не свою лирику, а характер мышления. Проза лишь тогда хороша, когда «вплотную подходит к поэзии, хотя и не превращается в нее».
Т. Манн:
Его книги не только сами по себе произведения искусства – они требуют искусства и от читателя, ибо читать Ницше – «это своего рода искусство, где совершенно недопустима прямолинейность и грубость и где, напротив, необходима максимальная гибкость ума, чутье иронии, неторопливость. Тот, кто воспринимает Ницше буквально, «взаправду», кто ему верит, тому лучше его не читать. С Ницше дело обстоит точно так же, как с Сенекой, о котором он как-то сказал, что его следует слушать, но что не должно «ни доверять ему, ни полагаться на него».
Как у Паскаля или Киркегора, философствование здесь не отделено от поэзии, музыки, религии. По словам Лу Саломе, в нем жили, среди постоянных смут, рядом, тираня друг друга, музыкант с высоким дарованием, свободный мыслитель, религиозный гений и поэт по природе.
Ницше не скрывал своей неспособности к силлогизмам. В одном из писем к Паулю Рэ есть такое признание: «Я все более изумляюсь, до чего сильна логическая сторона ваших рассуждений. Да, я на это не способен; я в лучшем случае умею вздыхать и петь – но доказывать, как светлеет сознание, это можете только вы, – а это самое существенное».
Как правило, он не обосновывал своих идей. По словам Л. Шестова, его познание вытекало из его внутреннего опыта. Ницше считал, что своей философией обязан болезни: «Только великая боль… заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины…»
Хотя в молодости Ницше декларировал цель «посмотреть на науку с точки зрения художника, а на искусство с точки зрения жизни», его явно влекли искусство, эстетика, красота жизни, сама жизнь. С первых произведений мы обнаруживаем прежде всего философа жизни, своим творчеством утверждающего союз жизни и философии, раскрывающего в философии глубокую значимость и ценность жизни. Оздоровление философии грядет через ее жизненность, оздоровление жизни грядет через философию жизни. В жизни философия должна обрести свою плоть, а жизнь в философии – свой дух.
Я не думаю, что в философии Ницше нет ничего «кроме искусства», – это глубокая философия, но и искусства в ней предостаточно.
Последний ученик Диониса, может быть, впервые осознал личный, персональный характер философии, ее неотрывность от субъекта, творца: «…Я понял, чем до сих пор была всякая великая философия: исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами». Понял он и то, что в стремлении завербовать инсургентов, каждый пишет прежде всего для себя самого: Mihi ipsi scripsi![2]2
Я писал сам для себя! (Латин.)
[Закрыть].
Для того, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти очень знаменательны: они указывают на замкнутость его мышления, заключенного в живую, многообразную оболочку. Из них видно, что, в сущности, Ницше только для себя и думал, и писал, потому что он только самого себя описывал, превращая свое внутреннее «я» в отвлеченные мысли.
Он глубоко осознавал собственную несвоевременность – безродность, по его выражению, – и обращал все свои книги и их сокровенную мудрость к «детям будущего»: «Мы, дети будущего, как можем мы прижиться в этом дне сегодняшнем!», «Мы отказались от всех идеалов, с которыми кто-нибудь, наверное, мог бы чувствовать себя вполне уютно в этот смутный, мутный, переходной период…» Эту свою боль, безродность, неукорененность в настоящем Ницше осознавал как дар, как богатство, как спасительное прорастание нового, европейского духа.









































