Текст книги "Ницше"
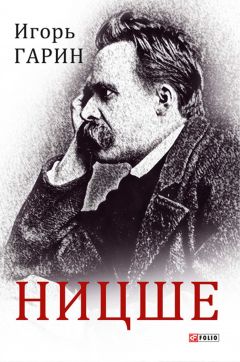
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
В начале 1871 года Ницше предпринимает неудачную попытку перейти на кафедру философии Базельского университета, предложив на свое место Эрвина Роде. Мы не знаем всех мотивов такого решения – не последним было желание видеть своего ближайшего друга рядом. Попытка не удалась: у Ницше не было имени в философии, да и руководитель кафедры К. Стеффенсен вполне соответствовал шопенгауэровским представлениям об университетских философах. Кандидатура Ницше была провалена, и из всего этого он вынес лишь горечь, связанную прежде всего с вовлечением в авантюру своего друга. Он давно уже ощущал себя нездоровым, а события войны, провал инициатив, близящийся переезд Вагнера из Трибшена в Байрёйт – все это привело к первому серьезному кризису.
Д. Алеви:
Ницше на протяжении всей своей жизни не мог оправиться от впечатлений и последствий войны: к нему уже никогда не возвращался ни спокойный сон, ни прочное здоровье. Его поддерживала только нервная энергия, но в феврале и она внезапно покинула его. Присущая ему и раньше душевная депрессия охватила его в самой острой форме. Какова была причина болезненных явлений, мучивших его на протяжении пяти месяцев? Ницше страдал от сильнейшей невралгии, бессонницы, расстройства зрения, боли в глазах и желудке, разлития желчи. Врачи, не разобравшись в причинах его болезней, посоветовали ему предпринять какое-нибудь путешествие и настаивали соблюдать покой. Ницше выписал сестру из Наумбурга, поехал с ней в Трибшен, нанеся последний визит, и затем отправился с ней в Лугано.
Здесь уместно отступление о событиях в Трибшене. Еще в начале 1870 года возникла идея создания для Вагнера театра в Байрёйте. Идея принадлежала королю Баварии, дом в Трибшене наполнился новыми людьми, места для Ницше здесь оставалось все меньше. Вагнеру никогда не хватало деликатности, теперь же, на пороге славы, упоенный признанием и обществом почитателей, он все меньше замечал молодого человека с категорическими суждениями и бескомпромиссной правдой. Ницше был нужен Вагнеру-отшельнику, с ним было интересно проводить время. Теперь его ждали «великие дела», он готовился к роли «национального героя», и Ницше становился опасен. Видимо, сам Ницше, обладающий обостренным чутьем ясновидящего, почувствовал перемену задолго до ее явных проявлений – и она лишь добавила хвороста в сжигавший его огонь, которому однажды удалось вырваться наружу…
Пока же он в дилижансе пересекал Сен-Готардский перевал (железная дорога через Альпы тогда еще не была построена[5]5
Прокладка Сен-Готардского туннеля в Лепонтинских Альпах началась в 1872-м и завершилась в 1880 году.
[Закрыть]). Позже эта точка на карте станет его точкой бифуркации – в своем бегстве от самого себя он многократно окажется здесь в поисках спасения.
В Лугано Ницше приехал почти выздоровевшим: ему для этого было достаточно красивого перевала, снеговых вершин и горной тишины. Его натура была еще по-прежнему по-юношески восприимчивой, и возвращение к жизни совершалось быстро и радостно. Он прожил в Лугано два приятнейших месяца.
Из Лугано Ницше пишет Э. Роде:
С каждым днем я все больше ухожу в область философии и обретаю веру в себя; более того, если мне суждено сделаться некогда поэтом, то именно с этого времени я встал на этот путь. Я не знаю, не могу знать, по какому пути поведет меня моя судьба, и, тем не менее, анализируя себя, вижу, как мое внутреннее существо делается все гармоничнее, точно под влиянием посетившего его какого-то доброго гения.
Альпы разбудили в Ницше глубоко дремавшего в нем философа и поэта. В Базель он вернулся готовым публиковать свою первую книгу, единственную, дописанную им до конца. Он имел возможность и время окончательно продумать план, выбросить всё лишнее и взять на вооружение небескорыстный совет Вагнера представить античную трагедию как образец германской музыкальной драмы. Позже Ницше сожалел, что пошел на поводу у своего учителя, тем самым придав его творчеству оттенок дионисийства. «Рождение трагедии» посвящено Вагнеру и пронизано переплетающимися линиями Диониса – Аполлона и Шопенгауэра – Вагнера.
«До сего времени мы рассматривали аполлоновское начало и его противоположность – дионисийское – как художественные силы: с одной стороны, как художественный мир мечты, завершенность которого не стоит в какой-либо связи с интеллектуальным уровнем или художественным образованием отдельной личности, а с другой – как опьяняющую действительность, которая также не принимает во внимание отдельную личность, а, наоборот, стремится даже уничтожить индивида и заменить его мистической бесчувственностью целого».
Освобождающим из этих символов предстает у Ницше дионисийское начало, как бы помогающее «избыть» страдания кошмарного бытия. Оно становится отныне его постоянным спутником. И как удивительное предвидение собственной судьбы звучат его слова: «Танцуя и напевая, являет себя человек как сочлен высшего сообщества: он разучился говорить и ходить, а в танце взлетает в небеса… в нем звучит нечто сверхъестественное: он чувствует себя Богом, сам он шествует теперь так возвышенно и восторженно, как и боги в его снах». (Именно в таком экстазе полтора десятилетия спустя увидит Овербек уже сошедшего с ума Ницше в Турине.)
Исходя из «метафизики ужаса» Шопенгауэра, Ницше стремился отыскать контрпозицию христианству и находил ее в символе или мифе разорванного на куски Диониса, в раздроблении первоначала на множество отдельных судеб, на мир явлений, называемых им «аполлоновой частью». То первоначало, которое Шопенгауэр назвал волей, есть основа бытия, оно переживается непосредственно и прежде всего через музыку. От прочих видов искусства музыка, по мнению Ницше, отличается тем, что она выступает непосредственным отражением воли и по отношению ко всем феноменам реального мира является «вещью в себе». Поэтому мир можно назвать воплощенной музыкой так же, как и воплощенной волей.
В дни подписания Франкфуртского мира Ницше занимался тем, что «восстанавливал мир внутри себя», приводил в порядок свою книгу. Он писал, что его собственные мысли не менее значительны, чем мировые события, вовлекшие в европейские конфликты миллионы людей. Собственные мысли не менее значительны потому, что именно он предчувствовал и предвидел эти мировые события, аллегорически описал их в книге, внешне посвященной древней Элладе.
Когда в мае 1871 года из Парижа пришли сведения о бесновании народных толп, разрушениях и пожарах, он с рыданиями бросился к Якобу Буркхардту, который тоже предсказал все произошедшее. Они столкнулись на улице, потому что Буркхардт тоже в смятении искал его. Они долго беседовали в кабинете Ницше, прерывая разговор слезами – плачем по человеческой культуре.
Ницше – Герсдорфу:
Нельзя со спокойным самодовольством взирать на результаты войны против культуры и обвинять во всем тех несчастных, которые начали ее. Когда я узнал о пожаре Парижа, то на протяжении нескольких дней чувствовал себя уничтоженным и мучился в слезах и сомнениях. Научная, философская и художественная жизнь показались мне абсурдом, если за один день можно разрушить и уничтожить самые прекрасные творения искусства, даже целые эпохи в искусстве. Я глубоко скорбел о том, что метафизическая ценность искусства не могла явить себя этим несчастным… Но сколь бы великим не было мое горе, я никогда не брошу камня в голову этих святотатцев, ибо, по моему мнению, все мы несем вину за то преступление, над которым стоит думать и думать.
Позже в автобиографических заметках Ницше запишет: «Война: самым большим горем для меня был пожар Лувра».
Судьба, до поры благосклонная к базельскому профессору, проявила свое непостоянство во время Франко-прусской войны: тогда он чудом спасся от смерти, едва не погибнув от дизентерии. К нему даже вызывали священника для предсмертной исповеди. Здоровье его сильно пошатнулось, и после этого он редко ощущал себя полным сил.
Другой удар связан с изданием первой книги. Сознавая поворотный характер этого произведения, Ницше был ошеломлен отказами издателей. В отчаянии он решает напечатать отдельные главы книги в виде журнальных статей. «Я выпускаю в свет мою маленькую книгу по кусочкам, – пишет он Роде, – какое мучительное чувство разрубать на куски живое тело». Ницше чувствует себя униженным: он не сомневался, что книга будет иметь успех, а оказалось, что он не имеет возможности представить ее публике. То, что публика может оказаться равнодушной к его творению, он вообще не допускает.
Осенью 1871-го приходит наконец долгожданное согласие издателя сочинений Рихарда Вагнера опубликовать книгу Ницше, которая появляется на свет в последний день этого же года. Первый экземпляр он направляет Рихарду и Козиме Вагнер. Ответ Козимы краток, но точен: «О, как прекрасна Ваша книга! Как она прекрасна и как глубока, как она глубока и как она дерзновенна!» Вагнер тоже ответил комплиментами. Восторженно приняли книгу другие друзья – Буркхардт, Роде, Герсдорф, Овербек. Только ради таких оценок стоило жить!
Увы, оценками друзей дело и ограничилось. Никто больше не заинтересовался его книгой, никто ее не покупал, ни один журнал не удостоил внимания. Даже учитель, профессор Ричль, хранил молчание. Когда Ницше попросил его высказать свое мнение, ответ был обескураживающим – суровая, полная осуждения критика. Дабы поддержать друга, Э. Роде направил рецензию на «Рождение трагедии» в один из литературных журналов, но получил отказ. «Это была последняя серьезная попытка защитить меня в каком-нибудь научном издании, – писал Ницше Герсдорфу, – и теперь я уже ничего не жду, кроме злостных и глупых выходок». Ницше еще надеялся, что будущее человечество оценит его труд, «так как многие вечные истины сказаны там впервые», но очевидно, что он оказался абсолютно не готов к провалу, был обескуражен им, совершенно раздавлен. Подобный прием ему предстоит испытать много раз, но первый провал вместо ожидаемого триумфа оказался особенно болезненным. В те дни он утратил былую уверенность в себе, возможно, именно тогда в нем зародилось то негативное отношение к немцам, которое с огромной силой выразится в последующих его трудах. В записях этого времени бросается в глаза риторический вопрос: «Можно ли надеяться когда-нибудь облагородить человечество?».
Кстати, первая рецензия на «Рождение трагедии» – появившаяся спустя три года после издания книги, опубликована не в немецкой, а в итальянской печати. «Как это символично», – написал тогда Ницше.
Фридрих Ницше – Мальвиде фон Мейзенбуг:
Со своим «Рождением трагедии» я сделался самым непотребным филологом сегодняшнего дня и вынудил тех, кто захотел бы вступиться за меня, проявлять подлинные чудеса храбрости – настолько все единодушны в желании вынести мне смертный приговор.
Ницше надеялся на восторженный прием «Рождения трагедии», а ожидал его настоящий остракизм. Первой ласточкой стал памфлет У. Виламовица «Филология будущего. Ответ Фридриху Ницше», в котором соученик по Пфорте не пожалел ни самолюбия, ни профессиональной чести однокашника. Ульрих Виламовиц-Мёллендорф был учеником Отто Яна, противника учителя Ницше Вильгельма Ричля. Школа Яна поддерживала винкельмановскую концепцию античной красоты, и, естественно, дионисийская природа греческой трагедии была для нее отказом «видеть сущность эллинского искусства в красоте». Для Виламовица совершенно неприемлемым стало вторжение философии в филологию. Он считал анархической дерзостью реконструкцию сознания аттического человека и тем более попытку Ницше отыскать скрытые силы культуры. С особой иронией и сарказмом Виламовиц реагировал на отождествление античной и вагнеровской музыки. Для него вагнеровское искусство представлялось насилием над ясностью и гармонией музыки. Образцовым ориентиром школы Яна была музыка Моцарта, а не Вагнера. Нельзя не упомянуть того обстоятельства, что полемика вокруг дионисийского начала во многом свелась не к «Рождению трагедии», а к музыке Вагнера, ибо книга Ницше многим представлялась не столько основополагающим вкладом в филологию, сколько апологией входящего в моду Рихарда Вагнера, революционные эстетические концепции которого многими встречались в штыки. В значительной степени Ницше пришлось принять удар, адресованный его старшему другу. За первой ласточкой потянулись другие. Увы, в желающих бросить в новатора камень никогда не было недостатка. В довершение бед после итальянских каникул 1872 года базельские студенты объявили лекциям молодого профессора настоящий бойкот.
Ф. Ницше – Э. Роде:
Святая Vehme [инквизиция] хорошо исполнила свой долг. Надо жить так, будто ничего не случилось. Но мне жаль, что наш маленький университет страдает из-за меня; за последний семестр мы потеряли 20 слушателей; я с трудом мог начать курс о риторике греков и римлян; у меня всего два слушателя: один – германист, другой – юрист.
Нельзя понять до конца произведения мыслителя, не увязав их с обстоятельствами его жизни. В 1872–1873 годах Ницше работал над эссе о древнегреческих философах[6]6
Задуманная Ницше книга «О философах трагической Греции», как почти все его творения, осталась незавершенной; написано было лишь несколько глав.
[Закрыть], но в центре его изысканий находились личные переживания. На что может рассчитывать философ? Удалось хотя бы одному великому мыслителю увлечь за собой свой народ? Вроде бы одному удалось – Эмпедоклу. Но Эмпедокл был больше магом, чем философом, и толпу заражали не его мысли, а его мифы. Впрочем, чем он кончил, печально известно – об этом знает Этна. Пифагору удалось собрать вокруг себя секту. Может ли рассчитывать на большее мудрец?
Ни один из великих философов не увлек за собой народа! Все они потерпели неудачу. Кто же наконец будет иметь успех? На одной философии невозможно основать народную культуру.
Надо полагать, после публикации «Рождения трагедии» Ницше много думал о причинах своей неудачи. Почему пионерская работа оставила глухими не только публику, но даже коллег? Как до них достучаться? В чем состоит жизненная задача мыслителя?
Ницше вряд ли можно считать прожектером. В своей философии он пытался не только не отрываться от реальности, но брал в союзницы самое жизнь. И все же, бросив суровую правду жизни в лицо романтического века, Ницше до конца своих дней не терял надежды, что именно ему дано достучаться до сердец, именно он рожден для сообщения новых истин народу филистеров и ханжей…
Я изучу души моих современников и буду вправе сказать им: ни наука, ни религия не могут спасти вас, обратитесь к искусству, могучей силе будущего. «Философ будущего? – восклицает Ницше. – Он должен быть верховным судьей эстетической культуры, цензором всех заблуждений!»
Ницше жаждал овладеть общественным мнением, продемонстрировать возможности смелой, свободной, бесстрашной мысли, а встречал отчуждение, в лучшем случае, глухоту.
Неудача с «Рождением трагедии» не охладила Ницше, не снизила его творческого потенциала и полемического пафоса. В 1873-м он задумал серию эссе, объяснив замысел в письме к Роде:
Для меня крайне важно раз и навсегда извергнуть из себя весь полемически накопившийся во мне негативный материал; сначала я хочу живо пропеть всю гамму моих неприязней, вверх и вниз, причем таким устрашающим образом, чтобы «стены задрожали». Позднее, лет через пять, я брошу всякую полемику и примусь за «хорошую книгу». Но сейчас мне основательно заложило грудь от сплошного отвращения и подавленности. Будет это прилично или нет, но я должен прочистить горло, чтобы навсегда покончить с этим.
Настроения Ницше периода написания «Несвоевременных размышлений» в значительной степени связаны с европейскими событиями и намечающимся переломом в отношениях с Вагнером, с отчаянием Ницше «в связи с Байрёйтом». Надо вспомнить, что поначалу Ницше видел в байрёйтском предприятии Вагнера новый Элевсин, возрождение европейской культуры. Однако, побывав в Байрёйте, познакомившись с тамошней публикой, осознав безучастность к музыке той нации, от которой Ницше ждал появления совершенно новой культуры, стремление самого Вагнера творить «на потребу», Ницше пережил очередной кризис: «Я вернулся из Байрёйта, охваченный такой затяжной меланхолией, что единственным спасением от нее могла мне стать священная ярость».
Что вызвало меланхолию и ярость Ницше? В Байрёйте он имел возможность убедиться в том, что строительство театра, на который возлагалось столько надежд в связи с германским «возрождением», столкнулось с полным равнодушием к проекту самих «возрождаемых». На строительство театра не хватало средств, а все обращения о финансовой помощи наталкивались на глухое молчание. Вагнер обратился к Ницше с просьбой для поддержки своего предприятия составить «лист, написанный в наполеоновском стиле» – нечто в виде Призыва или Обращения к немецкому народу во имя «спасения чести германского духа». Ницше добросовестно выполнил эту просьбу, но его патетический документ не вызвал никакого понимания среди сторонников самого Вагнера. Хотя последний постарался сгладить тягостное впечатление от произошедшего, Ницше уехал оскорбленным и униженным. С этого отказа пошла трещина в отношениях, далеко не столь безоблачных, как это представляется большинством биографов.
«Несвоевременные размышления» задумывались Ницше первоначально в виде двадцати вариаций (тем) единой культурологической проблемы. План этот временами сокращался до тринадцати и увеличивался до двадцати четырех эссе, но написано было лишь четыре очерка: «Давид Штраус, исповедник и писатель», «О пользе и вреде истории для жизни», «Шопенгауэр как воспитатель» и «Рихард Вагнер в Байрёйте». Первая публикация – 1873 год, последняя – 1876-й. Далее следует характеристика книги, данная много позже самим автором:
Четыре несвоевременных размышления являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Иваном-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой – может быть, также и то, что у меня очень ловкая рука. Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я тогда уже смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией… Второе «Несвоевременное размышление» (1874) освещает опасную сторону, подтачивающую и отравляющую жизнь, в нашем способе научной деятельности: жизнь больную от этого обесчеловеченного механизма, от безличности работника, от ложной экономии «разделения труда». Цель утрачивается, культура – средство, современная научная система, варваризирует… В этом исследовании в первый раз признается болезнью, типическим признаком упадка «исторический смысл», которым гордится этот век. – В третьем и четвертом «Несвоевременном размышлении», как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два самых твердых образа эгоизма и дисциплины своего я, несвоевременные типы par excellence, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», – Шопенгауэр и Вагнер или, одним словом, Ницше.
На фоне всеобщего подъема немецкого духа после победы над Францией, некогда названного Гёте историческим энтузиазмом, на фоне торжества «немецкой истории», под звуки литавр национального триумфа Ницше выразил сомнение в том, что победоносная война возвещает расцвет культуры. Творимая гениальными одиночками культура никоим образом не связана с массовыми движениями. Национальный меркантилизм, научный рационализм и стремление государства руководить культурой ведут последнюю не к расцвету, но к упадку. Путь к истинной культуре, определяемой Ницше как «единство художественного стиля во всех проявлениях жизни народа», связан с возникновением подобных Шопенгауэру и Вагнеру гениев, сочетающих в себе философа, художника и святого.
Наука будущего должна стать художественной, энергичной, пылкой, а не книжной. Из нее придется изгнать серость и анонимность, а заодно и тех «господ профессоров», для которых она – кусок хлеба. Ницше подвергает уничтожительной критике книгу «Старая и новая вера», главным образом, за одностороннюю рассудочность воспитания юношества.
Если говорить о генеральной задаче книги, то это – действовать «против духа современности, и тем самым на современность» и, как надеялся автор, «в пользу грядущего времени».
В эссе «О пользе и вреде истории для жизни» мы обнаруживаем тему, развитую позже в философии жизни: торжества жизни над абстрактными построениями. Отвечая на вопрос: «Как подчинить знание жизни?» – автор полагает, что история постольку и нужна, поскольку служит жизни. Не рассудочность, а пластическая сила человека творят историю. Если сама история спонтанна, должен ли историк втискивать произошедшее в жесткие формы «науки»?
Здесь впервые виден намек на знаменитое учение Ницше о декадансе, играющее такую большую роль в его позднейших произведениях. И не без основания это первое указание на опасности декаданса напоминает описанную нами раньше картину его собственного душевного состояния. Уже здесь мы видим психологическую основу его теории: она заключается в тайной муке, которую испытывал этот страстный дух под напором осаждающих его идей и новых течений мысли, в силе, с которой все его мысли и все познания действовали на его внутренний мир, так что обилие внутренних борющихся между собой душевных явлений грозило сломать замкнутые границы его душевного мира. Он говорит сам в предисловии одной своей книги: «Также не следует забывать, что факты, возбуждающие во мне те мучительные ощущения, я черпал большей частью из своей внутренней жизни, и только для сравнения брал у других». То, что он находил в самом себе, превращалось в его глазах в общую опасность для всей современной эпохи – и впоследствии даже возведено было им в смертельную опасность для всего человечества, взывающего к нему как к своему избавителю.
«Несвоевременные размышления», которые с первого взгляда можно еще рассматривать как панегирики учителям Ницше, в своей глубине содержали грядущий разрыв с ними. Уже в этой работе в полной мере проявился нонконформизм «несвоевременного мыслителя», который, чем дальше, тем больше, будет обострять его отношения с публикой и друзьями.
Публикация «Несвоевременных размышлений» вызвала противоречивые отзывы. Якоб Буркхардт считал, что книга «увеличила независимость в мире», в пользу автора высказались Ганс фон Бюлов, Бруно Бауэр, Карл Гильдебрандт. С другой стороны, в одной из немецких газет Ницше назвали «врагом Империи и агентом Интернационала». Больше всего Ницше обескуражила смерть Давида Штрауса, умершего через несколько недель после публикации первого памфлета: без каких-либо на то оснований Ницше укорял себя, что своим памфлетом доконал старика.
В «Несвоевременных размышлениях» уже просматривается будущий безоглядный Ницше, в одиночку выступающий против общественного мнения. Мог ли рассчитывать на успех идеалист, бросающий вызов не только тысячам профессоров, но нации в целом? Показательна реакция Трейчке на просьбу Овербека поддержать друга:
Ваш Базель – это какой-то «будуар», откуда позволяют себе оскорблять немецкую культуру.
Какое громадное несчастье для тебя [Овербека], что ты встретил этого Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления» в то время, как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков – манией величия.
Следует признать, что даже ближайшие друзья Ницше – Овербек, Роде, Герсдорф, – пытавшиеся сгладить тягостное состояние подавленного неудачами Ницше, не осознавали ни мощи его таланта, ни степени его отчаяния. Овербек грустно констатировал: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, опасно – рано или поздно это приведет к печальным результатам».
При всем трагизме отношений с матерью и сестрой, Ницше относился к самым близким людям со всей неизрасходованной нежностью трепетной души. Человеку, знавшему в жизни так мало тепла, хотелось находить его под крышей дома в Наумбурге. Его постоянно тянуло в родительский дом, где он мог вновь почувствовать себя ребенком даже тогда, когда в нежных и ласковых письмах к матери называл себя «твоим старым созданием».
Д. Алеви:
…Мать и сестра внушали ему [Ницше] сложное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что это были его родные и потому что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них, и ум его презирал их.
Новый 1874 год Фридрих Ницше встречал в Наумбурге. Ему требовалось восстановить силы, оправиться от болезни. Он любил праздничный отдых в кругу близких и в юности привык под сочельник подводить итоги или составлять планы на будущее. Пока итоги были плачевны. Он вступал в год своего тридцатилетия отверженным, униженным, непризнанным. Последние годы жизни он посвятил служению своему старшему другу, но что им обоим дала эта дружба? Он все чаще задумывается над тем, что за человек этот Вагнер, что значит его искусство, не является ли оно великолепным, но больным цветком самого антихудожественного из времен?
Спросим себя по существу, в чем состоит ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим. Время это глубоко анархично, оно задыхается в погоне за благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно. Оно легко впадает в отчаяние, лишено наивности, до мозга костей рассудочно, чуждо благородства, склонно к подлости и насилию. Искусство наскоро, кое-как соединяет в себе всё, что способно привлечь взоры в наших современных немецких душах: человеческие характеры, всевозможные знания – все собирается в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-либо симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда.
Ницше гнетет, с одной стороны, общественная глухота, окружающая его собственные творения, а с другой – все более восторженное отношение публики к Вагнеру, идущему ей «на потребу». Это не зависть отверженного к прославленному, это – горькое чувство несправедливости, которое довелось в большей или меньшей мере испытать всем гениям, далеко опередившим свое время, осознавших свое лидерство и пережившим изгойство. Однажды, в минуту уныния и тоски, он изливает переполняющие его чувства другу-олимпийцу и какое же получает утешение? Вагнер называет его ипохондриком и советует обрести женское общество, лучше – жениться. Пантагрюэль дает советы Панургу…
Страдания, вызванные холодным приемом его произведений, усиливались лямкой, которую приходилось тянуть базельскому профессору. Чтение лекций становилось все более тягостным, преподавание он называл не иначе, как «проклятая университетская работа», мечтая об уединении в месте, где можно «дожить оставшуюся жизнь и писать хорошие книги».
Удары поджидают Ницше и там, где он их совсем не ожидает. Он всегда высоко ценил дружбу, верил друзьям, но вся его жизнь была чередой предательств. Именно так он воспринял известие о пострижении Ромундта, долго скрывавшего от друзей свою глубокую религиозность. Подобным образом Ницше встретил известие о намерении Вагнера написать христианскую мистерию – «Парсифаля». Внутри самого Ницше уже шла огромная духовная работа по «переоценке ценностей», а его близкие друзья по-прежнему отдавали предпочтение Лютеру и святому Граалю. Больше всего Ницше сокрушало отступничество именно тех людей, на которых он возлагал надежды как на единомышленников, с которыми делился опасными идеями. Может быть, именно собственной суровой безоглядностью он спровоцировал их? Может быть, именно на нем лежит ответственность за постыдное пострижение Ромундта в монахи?
Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но споры оказались бесполезными. Ромундт твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал. Вот как Ницше описал Герсдорфу его отъезд:
«Было невыносимо тяжело… В самый последний момент меня охватил настоящий ужас… я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».
Потрясение действительно оказалось сильным, послужив началом длительного кризиса. Ницше был вынужден вновь уехать из Базеля в горы. «Пришли мне слова утешения, – писал он в эти дни Э. Роде, – может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар». Не правда ли, так пишут, когда лишаются любимого человека?..
Сестра Ницше, проведшая весь март в Байрёйте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» – повторял он непрестанно.
У Ницше были и другие поводы для переживаний. Шел июль 1875 года, приближалось время, назначенное для репетиции тетралогии Вагнера, все друзья были всецело поглощены приготовлениями к байрёйтским торжествам, а Ницше именно в это время уже носил в себе бомбу – готовящийся втайне выпад против учителя. В эти дни он писал, что для него наступило время молчания, но молчать он тоже не мог, еще сильнее раскачивая ладью собственного «я» на волнах беспокойного океана бушующего духа.
Я много поносил моих современников, а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть мучителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения – над какою же пропастью я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении; теперь молодость моя прошла. Роде, Герсдорф, Овербек в Байрёйте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны были бы находиться там. Чем именно я теперь займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и эпистолярии… Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Аристотель, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям я не почувствую ни тяжести труда, ни остроты одиночества.
Постановка тетралогии Вагнера была назначена на лето 1876 года. Дурные предчувствия мучили Ницше уже с начала этого года: «Я совершенно измучился от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования [Вагнером] мое недоверие к себе возрастет еще сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество». Ницше давно осознал, что его здоровье тесно связано с настроением, настроение же неумолимо портилось от давно носимой в душе обиды на Вагнера за высокомерие, нежелание признать его равным, предоставить право иметь собственный голос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































