Текст книги "Ницше"
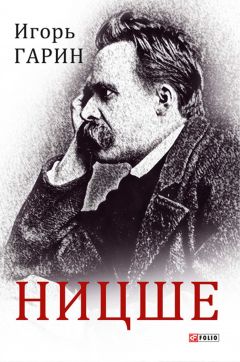
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Переломными в отношении к Вагнеру стали Байрёйтские торжества 1876 года, публика этих торжеств, «общество, от которого волосы встают дыбом!» Вагнер, перед которым Ницше благоговел, оказался окруженным тем пекусом, которого бежал философ.
То, что тогда у меня решилось, был не только разрыв с Вагнером – я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные ошибки которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я увидел, что настала пора осознать себя.
«Человеческое, слишком человеческое» – реакция Ницше на себя прежнего, на увлечения молодости, на юношеский идеализм. Сам он назвал это «возвращением к себе», выздоровлением.
«Человеческое, слишком человеческое», этот памятник суровой дисциплины своего «я», с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «святому восторгу», «идеализму», «прекрасному чувству» и другим женственностям, – было во всем существенном написано в Сорренто…
По иронии судьбы эта книга, порожденная глубоким разочарованием в прежних идеалах, вышла почти одновременно с текстом «Парсифаля», посвященным Вагнером Ницше. Это произошло так, будто скрестились две шпаги, – комментировал Ницше. Это был вызов – не только Вагнеру, но прежней философии и самому себе, прежнему. Вот как сам Ницше определил главную идею новой книги:
«Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, – ибо не существует умопостигаемого мира»… Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (Lisez: переоценки всех ценностей), может некогда в будущем – 1890! – послужить секирой, которая будет положена у корней «метафизической потребности» человечества, – на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение с самыми важными последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взором, который бывает присущ всякому великому познанию…
Объясняя причину резкого поворота к своим кумирам, он писал, что безосновательно придавал им свои собственные свойства. В «Ессе Ноmо» Ницше вопрошает: «Чего я никогда не прощал Вагнеру?» – и дает ответ: «Того, что он снизошел к немцам, что он сделался немцем Империи. Куда бы ни проникала Германия, она портит культуру».
Главные эстетические претензии Ницше Вагнеру – подчинение музыки идее, бесконечного – конечному, рационализация мифа, работа на потребу масс.
«Вагнер покорил юношество не музыкой, а идеей». Вагнер заменил миф словом, мифос – логосом, полноту жизни – конструкциями ума.
Мне представляется, что корни «обращения» Ницше простираются глубже эстетических переоценок. Массовость байрёйтских празднеств соединилась в его сознании с революционными статьями Вагнера, снова-таки обращенными к массовому в человеке, – и колосс пал…
Со свойственным ему максимализмом Ницше обвиняет Вагнера в творческом грехопадении, смешении искусств и ощущений, подмене прекрасного грандиозным и художественного страстным. Вагнер «словно измором берет слушателя, твердит ему одно и то же без конца, пока тот не придет в отчаяние и не уверует». Стремясь к коммерческому успеху, заигрывая с массой и революцией, композитор-драматург наделяет мифологических героев чертами «интересных грешников» и героинь – характером мадам Бовари.
А присущая Вагнеру склонность к спекулятивным построениям, даже если дело касается темы любви! Насколько в этом отношении лучше опера «Кармен», где Бизе так естественно передал мощь любовной страсти. Основной порок Вагнера – желание покорить массовую публику, применяя грубые эффекты. У него, считает теперь Ницше, кое-что общее с другим представителем позднего романтизма – Виктором Гюго; обоих роднит влечение к театральщине, «плебейской реакции вкуса».
Ницше раздражала чрезмерная патетика Вагнера, «плебейская реакция вкуса», романтическая революционность Зигфрида, демагогическая ориентация и вместе с тем переусложненность. Бизе, в запальчивости пишет Ницше, выше Вагнера хотя бы потому, что сумел с предельной простотой и силой передать всю естественность любовной страсти, силу человеческих чувств. На самом деле он так не считает, потому что в письме Карлу Фуксу признается: «Вы не должны принимать всерьез того, что я говорю о Бизе; при моих вкусах Бизе для меня совершенно ничего не значит. Однако в качестве иронической антитезы к Вагнеру он способен производить самое сильное впечатление…»
Невзирая на все перипетии отношений с великим маэстро, при всех взаимных обвинениях и обидах, Ницше до конца сознательной жизни сохранил признательность и теплые чувства к другу молодости. Будучи уже на грани безумия, возможно, даже перейдя эту грань, в ноябре 1888 года он писал:
Когда я говорю об утешениях, которые были в моей жизни, я прежде всего хочу выразить благодарность всему случившемуся, и теперь, уже издалека, вспомнить о моей самой глубокой, радостной любви, о моей дружбе с Вагнером. Я отдаю справедливость моим последующим отношениям к людям, но я не могу вычеркнуть из моей памяти дней, проведенных в Трибшене, дней взаимного доверия друг к другу, дней радости, высоких минут вдохновения и глубоких взглядов… Я не знаю, чем был Вагнер для других людей, но на нашем небе не было ни одного облака.
На самом деле облаков было предостаточно, но в переписке последних лет жизни имя Вагнера всплывает часто и, как правило, в духе письма Ницше П. Гасту: «Я любил Вагнера и я еще люблю его».
Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну, что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого par excellence, яд, я не оспариваю этого… С той минуты, как появилась фортепьянная партитура «Тристана», – примите мое приветствие, господин фон Бюлов! – я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя – еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»… Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения, равного «Тристану» по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке «Тристана». Это произведение положительно non plus ultra Вагнера; он отдыхал от него на «Мейстерзингерах» и «Кольце». Сделаться более здоровым – это шаг назад для такой натуры, как Вагнер… Я считаю наибольшим счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть зрелым для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого «сладострастия ада»: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров причудливых очарований, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. Прежде всего два века психологической и артистической дисциплины, господа немцы!.. Но этого нельзя наверстать.
Даже отношение к «Парсифалю» претерпело кардинальное изменение. Прослушав в обществе мадам В. П. прелюдию к этой опере (Монте Карло, начало 1887 года), Ницше написал П. Гасту:
Я спрашиваю самого себя: сотворил ли Вагнер что-нибудь лучше этого? И отвечаю себе, что в этой вещи сочетаются высшая правдивость и психологическая тонкость в выражении, сообщении, передаче эмоции. Налицо наиболее краткая и прямая форма; каждый оттенок, переход чувств определены и выражены с почти эпиграмматической краткостью; описательная сторона настолько ясна, что, слушая эту музыку, невольно думаешь о каком-либо щите чудесной работы. Наконец чувство; музыкальная опытность необыкновенно высокой души; «высота» в самом значительном смысле этого слова; симпатия, проникновенность, которые как нож входят в душу, – и жалость к тому, что он нашел и осудил в глубине этой души. Такую красоту можно найти только разве у Данте. Какой художник мог написать такой полный грусти и любви мир, как Вагнер в последних аккордах своей прелюдии!
Ницше не мог скрыть потрясения, вызванного кончиной Вагнера. В «Ессе Hоmо» мы читаем о священной минуте, когда в Венеции скончался кумир, которому он посвятил столько колкостей… Уже стоя на грани безумия, Ницше посвящает вагнеровскому «Тристану» вдохновенно-восторженный панегирик.
Чем глубже проникала новая философия в пещерные недра души, тем ближе оказывалась к огнедышащему (дьявольскому) подполью, дремлющему в этих глубинах. Куда уж дальше: даже прирейнские амазонки, даже презренные сверхчеловеком женщины – и те оказались предтечами ницшеанства:
В борении с огнем и громом лавр добыть!..
В страданиях – сердцам и душам закаляться!..
Тому, что говорю, не надо удивляться:
Лишь тот, кто смерть познал, способен жизнь любить!
Катарина Грейфенберг, XVII век…
А Гейне?
Ф. Ницше:
Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, – я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. И как он владел немецким языком! Некогда скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка.
И только ли немцы?
У Мандевилля, Вовенарга и маркиза де Сада Ницше мог позаимствовать хлесткость критики, остроту и вызов.
Ницше высоко ценил и учился афористике у французских стилистов Монтеня, Паскаля, Фонтенеля, Шамфора, Ларошфуко.
Как-то на Рождество Козима Вагнер подарила другу семьи томик Монтеня, которого Ницше раньше не читал. Ницше многому научился у великого скептика и моралиста. Для него это было весьма плодотворное, а не опасное чтение, как считал Д. Алеви. «Жизнь на земле, – писал Ницше, – стала более богатой от того, что творил такой человек. С тех пор, как я соприкоснулся с его мощным и свободным умом, я люблю повторять его собственные слова о Плутархе: «Едва только я взгляну на него, как у меня вырастает новая нога или крыло». “Я был бы с ним заодно, если бы можно было лучше устроить жизнь на земле”».
Работая над книгой «По ту сторону добра и зла», он штудировал «Мысли» Паскаля и «Пор-Рояль» Сент-Бёва. Великие французские психологи и моралисты многому научили предтечу Фрейда, но его отношение к ним было амбивалентным: Паскаль стал для него одновременно учителем и примером «порчи» великих людей поклонением «благой вести». Ницше, конечно, не прав, утверждая, что Паскаль из-за ранней смерти не успел «из глубины своей великолепной и горестной души осмеять христианство, как он успел осмеять иезуитов». В отличие от Ницше, духовная эволюция Паскаля, выстрадавшего не меньше отшельника Сильс-Марии, привела его к «Апологии христианства», которую он смог бы блестяще завершить, не оборви болезнь его страшную жизнь.
Ницше с удовольствием читал Стендаля и Мопассана, последнего считал родственным себе духовно.
Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь тонких психологов, как в нынешнем Париже: я называю наугад – потому что их число совсем не мало – Поль Бурже, Пьер Лоти, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр, или, чтоб назвать одного из сильной расы, истого латиниста, которому я особенно предан, – Гюи де Мопассан.
В книге Ж.-М. Гюйо «Опыт морали без обязательств и санкций» Ницше искал пересечений со своим имморализмом. Гюйо тоже замышлял основать новую мораль, в основу которой положена экспансия жизни, но на этом сходство кончалось, ибо Гюйо сводил силы жизни к силе любви.
А Бодлер?
Наступающий прилив демократии, заливающий все кругом и все уравнивающий, постепенно смыкается над головой последних носителей человеческой гордости, и волны забвения смывают следы этих могикан.
А Бальзак?
Есть две морали – для великих людей и для всех остальных.
Или:
Принципов нет – есть события, законов нет – есть обстоятельства.
Или:
Великий политик должен быть отвлеченным злодеем, иначе общество будет плохо управляться.
А Прудон? Разве Прудон в «Феноменологии войны» не говорит, что война есть дело великое, глубоко связанное со всем тем, что есть высокого и творческого в человечестве, с религией, поэзией, государственной истиной?
Ох, уж эти милитаристы, патриоты, поддавшиеся угару войны «реакционеры» – Достоевский, Соловьев, Сологуб, Маковский, Гумилёв, Гамсун, Маритен, Хьюм, Маринетти, Моррас, Арндт, Уэллс, Бутуль, Дали, Монтерлан, Селин, Паунд, Гауптман, Верхарн, Бергстед, Джентиле, Уэллс, Планк, Эрнст, Геккель, Дебюсси – почему и они?..
Шпенглер и Шоу разглядели в сверхчеловеке еще одно, с первого взгляда, неожиданное влияние – Дарвина. Разрыв Ницше с Вагнером связан с его переходом к другому учителю – от Шопенгауэра к Дарвину, от метафизического к физиологическому формулированию все того же мироощущения, от отрицания к утверждению воли к жизни. «Сверхчеловек» суть продукт эволюции. Заратустра, возникнув из бессознательного протеста против Парсифаля, испытывал влияние последнего, являясь плодом ревности одного провозвестника к другому.
Дарвин явно приложил руку к сверхчеловеку, и французская переводчица «Происхождения видов» К.‑О. Руайе углядела это:
Коль скоро мы применим закон естественного отбора к человечеству, мы увидим с удивлением, как были ложны наши законы и наша религиозная мораль.
Люди не равны по природе: вот из какой точки должно исходить.
А безобидный Карлейль с его культом героя и максимой «сила есть право»?
А вполне умеренный Бентам?
А Беньян? – Разве имморализм, согласно которому сами по себе мораль, законность и воспитанность ограничивают волю, не комментарий к беньяновскому Бэдмену, скажет Шоу.
У Стерна Ницше учился полифонии, плюрализму, многоплановости, перспективизму, полистилистике, в Стерне видел образец раскрепощенного и свободного писателя.
Мы должны восхвалять в нем не одну какую-нибудь определенную ясную мелодию, но «мелодию бесконечную»: если только можно выразить этими словами такой стиль искусства, при котором постоянно нарушается определенная форма, рамки ее раздвигаются и она обращается во что-то неопределенное, так как, означая собою одно, она в то же время означает и другое. Стерн – большой мастер на двусмысленность… Читатель, который всякий раз хочет знать точно, что собственно думает Стерн об известной вещи, совершенно теряется и не понимает, делает ли он, говоря о ней, серьезное лицо или улыбается, потому что в выражениях своего лица он умеет изобразить и то, и другое, равным образом он умеет и непременно хочет быть в одно и то же время справедливым и несправедливым, соединить в одно целое и глубокомыслие, и шутку. Его отступления от рассказа служат продолжением и развитием фабулы; его сентенции заключают в себе в то же время и насмешку над всем сентенциозным, его отвращение от серьезного происходит от свойственной ему способности, при которой, взяв известную вещь, он не может изобразить ее только поверхностно и внешним образом. Поэтому у настоящего читателя он вызывает чувство неуверенности в себе – он сам не знает, ходит он, стоит или лежит: это такое чувство, которое близко напоминает собою парение в воздухе. Он, этот самый изворотливый из всех писателей, часть этой изворотливости уделяет и своему читателю. Стерн совершенно неожиданно меняет роли и так же скоро делается читателем, как тот становится автором; его книга похожа на театральную сцену, изображаемую на сцене, и театральную публику на сцене, на которую смотрит другая публика.
Лекции Я. Буркхардта о «смысле истории», прослушанные Ницше в 1870/71 учебном году, укрепили его в неверии в революцию и быстрый прогресс. Вопреки социализму, будущее – учил Буркхардт – не сулит человеку райские кущи: во все эпохи человек обречен на страдание и слепоту, во все эпохи он не ведает, что творит. Из лекций старшего друга Ницше вынес то, что прикованность к прошлому снижает активность человека, что надо не болтать об истории, а действовать, преодолевать, побеждать. У Буркхардта Ницше услышал то, что знал уже сам: вопреки учению социалистов, грядущее не сулит человеку лучшего и совершенного мира – всем эпохам присуще страдание, все эпохи одинаково слепы по отношению к результатам своих дел.
Не без влияния Буркхардта Ницше начал разрабатывать трагическое содержание истории в набросках к драме «Эмпедокл», посвященной легендарному сицилийскому философу, врачу и поэту V в. до н. э. В них уже заметны явные элементы философии позднего Ницше. В эмпедокловском учении о переселении душ он нашел один из постулатов собственной теории «вечного возвращения». Сильное впечатление произвела на Ницше легенда о самообожествлении Эмпедокла, бросившегося в кратер Этны: Эмпедокл в разные годы посвящал себя исследованию религии, искусства, науки, обратив последнюю против самого себя. Изучив религию, он пришел к выводу, что она – обман. Тогда он переключился на искусство, в результате чего у него выявилось осознание мирового страдания. Рассматривая мировое страдание, он думал, что становится тираном, использующим религию и искусство, и при этом все более ожесточался. Он сошел с ума и перед своим исчезновением возвестил собравшемуся у кратера народу истину нового возрождения.
«Немецкий» круг чтения Ницше – Я. Буркхардт, Э. Гартман, Е. Дюринг, Ф. Ланге, А. Лео, Т. Моммзен, Л. Ранке, Г. фон Трейчке, А. Вольф. Идеей «воли к могуществу» Ницше обязан не столько историкам, сколько физикалистским концепциям Р. Босковича, Г. Гельмгольца, Б. Римана. Позитивистские следы – результат тайных штудий Конта, Дюринга и Ланге – проглядывают в «Человеческом, слишком человеческом», работая над которым Ницше хотел избавиться от вагнерианства. Материалистические трактаты Фохта и Бюхнера, которыми увлекалось немецкое студенчество, не могли удовлетворить Ницше. Материализм казался вульгарным философу жизни. С юношеских лет он не воспринимал и демократических идей, исповедуемых, как правило, поклонниками Фейербаха.
Большое влияние на философское развитие Ницше оказала «История материализма» Ф. Ланге. Из книги этого учителя гимназии Ницше получил представления о социал-дарвинизме, политических и экономических учениях современности, а также о новейших течениях английского позитивизма и утилитаризма.
У Ланге Ницше нашел и подтверждение собственным, еще смутным философским представлениям. Согласно Ланге, окружающий нас мир – это представление, обусловленное физической структурой человеческого организма. Но человек не может удовлетвориться только ограниченным чувственным материалом, открываемым в опыте. Человек – духовное, нравственное существо, он нуждается и в идеальном мире, который сам же и создает. Человек – творец поэтических образов, религиозных представлений, дающих ему возможность построить в своем сознании более совершенный мир, чем тот, который его окружает. Такой идеальный мир возвышает человека над миром обыденности, вооружает его этической идеей, а ею для Ланге была идея социализма. Представление о реальном мире как алогичном, иррациональном явлении Ницше почерпнул уже у Шопенгауэра, а Ланге лишь укрепил в нем это убеждение.
Ницше высоко ценил Кёллера и Штифтера. В «Людях из Зельдвиллы» и «Бабьем лете» он находил «душевное здоровье», силу и бодрость духа, твердость и суровость жизненной позиции, ненависть к лицемерию и ханжеству, свободу от «морализма». Эрвин Роде, как-то читая с другом Адальберта Штифтера, воскликнул: «Бог ты мой, Ницше, как похожи на тебя эти юноши! Они ничем не отличаются от тебя; им недостает лишь гениальности!» Еще Ницше любил и перечитывал автобиографические повести Юнг-Штиллинга.
У Августа Вольфа Ницше вычитал и воспламенился идеей спасительности рабства: «Фридрих Август Вольф уже показал, что рабство необходимо для развития культуры. Это одна из самых крупных мыслей моего предшественника». Надо ли буквально понимать сказанное Ницше о рабстве: «Мы погибаем потому, что у нас нет рабов»? Естественно, мыслитель масштаба Ницше не мог не осознавать дремучесть идеи рабства в эпоху либерализма. «Рабство» – только символ, означающий возможность избранных философствовать и творить красоту благодаря труду «песка человечества». На обыденном языке «рабство» означает ту общественную реалию, что творец не может существовать без содержания: духовная независимость возможна, если она оплачена – «рабством», трудом людей, никакого отношения к творчеству не имеющих.
Е. Дюринг соблазнил Ницше несколькими идеями «Ценности жизни». В этой книге Ницше пришлась по душе мысль о здоровой жизни, что сама себе придает ценность. Трагизм жизни, писал Дюринг, не является чем-то преходящим, – и это тоже легло на душу читателя. Впрочем, со многим он не соглашался – с трактовками Дюрингом эгоизма, аскетизма, ценностей жизни. Больше всего его возмутила трактовка эгоизма как мнимости. Дюрингу он явно предпочел Шопенгауэра.
Интерес Ницше к Дюрингу связан, главным образом, с идеей «вечного возврата». В книге «Курс философии» Ницше вычитал мысль, что Вселенная – только калейдоскоп различных комбинаций конечного числа элементарных частиц. Количество таких комбинаций тоже конечно. Следовательно, мировой процесс можно рассматривать как циклическое повторение уже бывшего. Сам Дюринг отвергал такую гипотезу, считал, что количество комбинаций уходит в «дурную бесконечность», по словам Гегеля, но Ницше придерживался иной точки зрения. Элементарные частицы он заменил конечным количеством квантов силы. Эти кванты, аналогичные объективациям воли в философии Шопенгауэра, находятся в состоянии вечной борьбы друг с другом, образуя при этом фиксированные сочетания – мировые картины. Но поскольку количество квантов фиксированное, то и число мировых картин конечно и они периодически повторяются: «Все становление имеет место только в рамках вечного круговращения и постоянного количества силы».
В «Биологических проблемах» А. Вольфа Ницше пытался найти обоснования своей воли к могуществу, стремления к возрастанию жизненной силы, положенного в основу его метафизики.
Ницше интересовался идеями и личностью Ж. Гобино, ученого, «научно» обосновавшего идею расизма. Кое-кто усматривает отдаленные параллели этих двух авторов, однако Ницше было за сорок, когда он познакомился с книгами Гобино, и серьезного влияния на сложившегося философа автор теории расизма оказать не мог.
Из писателей Нового Света он признавал прежде всего Эмерсона, которым зачитывался еще в Пфорте, заряжаясь радостным и чистым воодушевлением американского моралиста. Перечитывая Эмерсона в тридцатилетнем возрасте, Ницше сохранил ту же свежесть впечатлений и советовал всем своим друзьям «почитать истину» по Эмерсону:
Мир еще молод, – пишет Эмерсон в конце своих «Representative men». – Великие люди прошлого страстно призывают нас к себе, мы сами должны также писать Библии, чтобы снова соединить небеса и землю. Тайна Гения заключается в том, что он не терпит вокруг себя никакой фикции; он реализует всё, что мы знаем, неустанно требует доброй веры, соответствия с действительностью и идеалом во всех утонченных проявлениях современной жизни, в искусствах, в науках, в книгах, в самих людях; прежде же всего, и это самое главное, он учит почитать истину, проводя ее в своей жизни.
Ницше высоко отзывался о «плавном, ясном искусстве» Вальтера Скотта, книги которого часто читала ему сестра в периоды полуслепоты. Его прельщала героика и близость к жизни романов этого писателя, отвлекавшего от одиночества и дурного настроения.
А русский гений? А величайший из наших поэтов?
И взор я бросил на людей.
Увидел их – надменных, низких,
Жестоких, ветреных друзей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
А «Поэт и чернь»? Разве не Пушкин проклинал правду, угождающую «посредственности хладной, завистливой, к соблазну жадной»?
– Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Разве «нас возвышающий обман» – не сущность ницшеанства? Разве не пушкинский Сильвио демонстрировал свою неприязнь к людям, разве не лермонтовский Печорин – беспредельный байроновский демон?
Или вот это:
Всё, всё, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог…
Экзотику России Ницше воспринимал, главным образом, через творчество Лермонтова и Достоевского. Видимо, имея в виду «Демона», он писал другу о России: «…Страна, столь незнакомая мне, и разочарованность в западном духе, всё это описано в прелестной манере, с русской наивностью и с мудростью подростка». Написанный за полвека до «Заратустры», но запрещенный русской цензурой «Демон» был опубликован в Германии раньше, чем в России, причем издание 1852 года осуществил Ф. Ботенштедт, лично знавший Лермонтова и Ницше.
«Демон» поражает той же, что и знаменитая книга Ницше, доведенной до абсурда романтикой – поэтикой одиночества, презрением к обыденной жизни, мечтой о возрождении в любви и отсутствием интереса к техническим деталям осуществления этой мечты. Автор «3аратустры», возможно, с изумлением находил в странном герое русской поэмы себя, свои мечты, тревоги и ощущаемую им вину. Мрачные символы мужского начала, извне вторгающегося в устоявшуюся женственную обыденность, герои Лермонтова и Ницше полны предчувствий «жизни новой». Наследники классических дьяволов Гёте и Байрона, оба они оказываются дальними предшественниками новых демонов русской литературы – «Бесов», Хулио Хуренито, Воланда.
Экзотика русской жизни не мешала, а скорее помогала увидеть в Лермонтове те же знакомые проблемы, что в Байроне или Новалисе.
Даже такой демофил как Великий Пилигрим – то преобразует мир человеком, противопоставленным обществу как всесторонне развитая личность, то пишет – вопреки своей ахимсе – «Хаджи-Мурата», видящего свое предназначение в насильственной борьбе с недругами, то говорит об аристократичности искусства – вопреки категориям народности и массовости собственной эстетики.
А Достоевский, пусть не сверх– зато всечеловек, проклявший свое нутро и отвернувшийся от него – разве не его Ницше называл своим учителем? Разве не в его каторжниках находил своих сверхчеловеков? «Записки из Мертвого дома» привлекают Ницше прежде всего стихией, бушующей в преступнике. Каково главное свидетельство Достоевского? Во всех преступниках проявляются качества, которые должны быть присущи мужчине. Узники – самая сильная и ценная часть народа…
И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего.
А подпольный человек?
«Пусть погибнет мир, но будет философия, я сам», – восклицает Ницше. Разве это не перевод на европейский: «Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить»?
А разве Версилов – не сверхчеловек, излагающий теорию спасения России аристократами духа?
Нас таких в России, может быть, около тысячи… Мы носители идеи… У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого еще нигде нет в целом мире.
А Валковский?
Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Идеалов я не имею и не хочу иметь…
А Раскольников?
Первый разряд живут в послушании и любят быть послушными. Второй разряд, все преступают закон, разрушители…
К тому же Раскольников – по его словам – носитель высокого нравственного начала, повышенного этического чувства, обостренной реакции на страдание, и именно эта чуткость к страданию якобы и есть мотив его преступления.
А статья Раскольникова – разве она не содержит почти всего Ницше?
Все законодатели и установители, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами, все до единого были преступниками уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью…
Пусть сам Раскольников – «вошь», но – как идеолог – он вполне сверхчеловечен: то, что для слабых – преступление, то для хладнокровных – признак силы. Их незначительное меньшинство, но именно они управляют.
Еще одно совпадение: бунт Раскольникова, как и бунт Ницше, – судьба слабых. Они – только теоретики, ибо чтоб стать Наполеоном, надо не рассуждать, а действовать. Есть профессии, которым не обучают…
Последний мистический символ «родства душ» – туринская катастрофа, сумасшествие Ницше, явь сна Раскольникова: «Он видит, как ее [лошадь] секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут… С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы…» Так у Достоевского. А так в жизни Ницше: «Выйдя из дому, он увидел старую, изнуренную клячу, засеченную до полусмерти кучером. Захлебываясь от слез, он бросился ей на помощь, обнял ее за шею и упал…»
А Ставрогин с его демонизмом? Тут Достоевский – проницательней, глубже, его «сверхчеловек» сам признается: «О, какой мой демон? Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся». А Шатов с его «смертью Бога»?
А параллель «жизнь – страдание»?
Ну, страдают, конечно, но… все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие; все обернулось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.
А «Дневник писателя»?
– Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!..
– Ах, давайте, давайте, ничего не стыдиться! – послышались многие голоса…
На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь – синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила!
А Великий Инквизитор?
Они станут рабы и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке… О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить.
Ну, как? Каковы ассоциации? Теперь вы знаете, что есть провиденция?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































