Текст книги "Ницше"
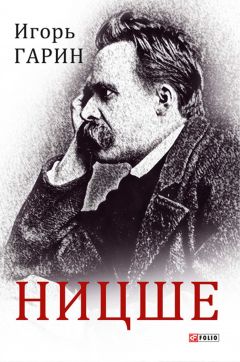
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
Именно дионисийский элемент музыки вновь воскресил великую трагическую культуру, именно в музыке знание отступило перед стихийной мощью великих сил жизни и смерти:
В хорале немецкой Реформации впервые прозвучал мотив будущего немецкой музыки. Этот хорал Лютера звучал так глубоко, мужественно и душевно, он звучал такой безмерной добротой и нежностью, словно первый манящий зов Диониса, вырывающийся из густой поросли кустов с приближением весны. В ответ ему наперерыв зазвучали отголоски того благоговейно-дерзкого шествия дионисиевских мечтателей, которому мы обязаны немецкой музыкой и которому мы будем обязаны возрождением германского мифа.
Г. Рачинский:
Немецкая музыка – дочь Реформации – спасла для Германии национальный миф, а Вагнер дал ему форму музыкальной трагедии. Эта трагедия – своего рода религия: только не современная полуученая, полуморальная александрийская религия с ее вредным для трагического человека этическим мягкосердечием. Музыкальная драма есть результат высшего соединения Диониса и Аполлона.
Таким образом, под античную трагедию Ницше подверстывал вагнеровский миф, о чем сожалел впоследствии, что привело его к дальнейшему отказу от собственного раннего творчества…
В «Рождении трагедии» мы обнаруживаем критику главного постулата христианства – вечного существования души в потустороннем мире. Не является ли абсурдом смерть как наказание за первородный грех Адама и Евы? Может ли быть смерть искуплением такого греха? Ницше высказал мысль о связи воли к жизни со страхом смерти. Нельзя жить, не думая о неизбежности смерти, не страшась ее. Античная трагедия и возникла как такое понимание реальности, в котором жизнь неизбежно погружает человека в смерть.
Хотя в первой книге Ницше стремился не выходить далеко за пределы филологии, здесь уже много от будущей философии жизни, вообще от мировоззрения зрелого экзистенциального мыслителя:
Мир отвратителен, он жесток, как дисгармоничный аккорд, душа человека суть такая же дисгармония, как и весь мир, сама в себе несущая страдание; душа могла бы оторваться от жизни, если бы связала себя иллюзией, мифом, убаюкивающими ее, создающими ей убежище красоты. В самом деле, как далеко можно зайти, если не положить предел отступничеству, если мы сами станем выдумывать себе утешения. Мы снисходим к своим слабостям, и нет низости, которой бы мы не нашли оправдания. Мы поддаемся иллюзиям, но каким, благородным или низким? Сознаем ли мы, что мы обмануты, если сами ищем обмана?
Мифологизм Ницше всецело отвечает жизненности его философии, ибо сама жизнь предельно мифологична, цельна в своей разорванности, синкретична в своей противоречивости, правдива в неотделимости добра и зла, альтруизма и эгоизма, фантазии и реальности. Субъективность мифа есть предельно возможная объективность жизни, правда, еще не препарированная на «наше» и «чужое», символизм, еще не обедненный дискурсией и понятиями, диалектикой и дихотомией.
Мифологизм чужд рационального, сократовского подхода к жизни: уже в «Рождении трагедии» Ницше выступает против «этического» толкования античной трагедии, которую никак не назовешь торжеством «добрых» начал или прекраснодушных импульсов. Дабы искусство воздействовало на жизнь, оно должно являть единую мифотворческую стихию жизни. Сила воздействия искусства определяется не его обыденностью, повседневностью, а его мифологичностью, отражающей глубинную полноту, правду и цельность жизни.
…Без мифа всякая культура лишается своей естественной, здоровой и творческой силы: только сияющий мифами горизонт довершает единство цельной культурной эпохи… Образы мифа должны быть незримыми, вездесущими демоническими стражами; под их охраной вырастает молодая душа; их знамения объясняют человеку его жизнь и борьбу: и даже государство не знает неписаного закона более могущественного, чем мифическая основа; она свидетельствует о связи государства с религией и о происхождении его из мифа.
Миф так же правдив, как сама жизнь; в мифе налицо соединение искусства и жизни. Вот почему и философию необходимо строить по законам мифа, только мифологическая философия адекватна сокровенной реальности, только эсхиловская или софокловская мощь мифологической философии даст ей жизнь.
Экстаз как эстетический феномен трагического искусства – это способ погружения в полноту человеческого существования, вторая реальность, наиболее полно «схватывающая» сущее. В ликующем потоке экстаза человек как бы сливался с действительностью, обретал способность противостоять отчаянию, трагическое искусство служило катарсису – очищению, переносу, сублимации.
В гибели невиновного, находящегося в плену рокового незнания Эдипа, зритель видел компенсацию своих собственных утрат, проблем своего собственного личного бытия. Герой погибает не потому, что нарушил заповедные границы, своей гибелью восстанавливая нарушенную гармонию, но потому, что экстатическое опьянение зрителя, олицетворяющее прежнее мифическое бытие, требует его гибели, чтобы уравновесить свое индивидуальное бытие как личности с ее проблемами.
Трагедия – это иллюзия, но иллюзия «подлинная», отвечающая сущности человеческого существования, в отличие от сократовского оптимизма, от сократовской «науки», от сократовского направления культуры, членящего жизнь, представляющего собой вивисекцию жизни. Миф – «прочный священный первоначальный очаг культуры»; дискурсия, диалектика, логика – ее мистификация, уплощение, отказ от полноты…
Наука имеет свои пределы. Рано или поздно она натыкается на то первоначало, которое невозможно постичь рационально. Здесь-то и происходит переход науки в искусство, на смену логики приходят интуиции или инстинкты жизни. Искусство, миф, интуиция неизбежно корректируют и дополняют науку. Эта идея была позже положена Ницше в основу его философии жизни.
А. Белый:
Под безобразным коростом жизни ритм жизни подслушал Ницше. Духом Диониса назвал он биение жизни; духом Аполлона – жизнь творческого образа. Оба начала оказались вне жизни, потому что жизнь перестала быть жизнью: оттого-то музыку мы можем определить только как небо души, а поэзия – облака этого неба: из неба выпадает облако; из ритма – тело: соединение ритма с образом.
Дионисийское начало – жадность к жизни, радость жизни, пульс жизни. Трагедия культуры в том, что она пошла по пути Сократа, что в ней возобладало александрийское, аполлоновское начало: жизнь, полноту жизни заменили знание, просвещение, порядок, наука. Именно сократовская культура подменила жизненность пользой, выгодой, вытеснила высшие жизненные ценности – персональность, разнообразие, конкуренцию, борьбу. Перестал цениться человек, его истинная природа, его жизненно важные инстинкты. Место многообразия занял предписывающий норму закон, место человека – машина. Сократовская культура оказалась культурой нивелирующей, рационалистичной, тоталитарной.
Сократ противопоставил инстинкту жизни сознание и разум, тогда как у всех талантливых людей (по Ницше) именно инстинкт и представлял собой творчески-утвердительную силу. Размышляя над такими сократовскими тезисами, как: «добродетель есть знание», «грешат только по незнанию», «добродетельный есть счастливый», Ницше заметил, что они приводят к ложным выводам. По Сократу получается, что добродетель и знание, вера и мораль уже необходимым образом связаны, одно из другого следует. Жизнь предстает, таким образом, слишком упрощенной, упрощенной до плоскости, а трансцендентальная справедливость в развязке сведена к deus ex machina[39]39
Бог из машины (латин.).
[Закрыть].
Аполлон и Дионис – два первоначала культуры: гармония, счастье, тишина, светлый покой (аполлоновское начало) и темная стихия порыва, диссонансы, противоречия, муки жизни (дионисийское начало). Жизнь – феномен эстетический, именно поэтому возникает культура, несущая на себе отпечаток человеческих антиномий.
Итак, два греческих бога, Аполлон и Дионис, стали для Ницше символом разных мироощущений и инстинктов. Аполлон предостерегал от диких порывов, передавал мудрый покой Бога. Эта красота и гармония аполлоновского мироощущения отразились в гомеровском искусстве. Но при этом Аполлон оставался богом иллюзий и заслонял человека от смерти иллюзией вечности. Дионис же порождал противоположные инстинкты: тревоги, сомнения, смятения. Под влиянием такого мироощущения человек сбрасывал с себя «покрывало Майи», т. е. как бы пробуждался от сна иллюзий и праздновал праздник единения с природой. Ибо только природа способна научить человека жизни, она лучше (чем христианство и традиционная мораль) знает добро и зло. Потому и искусство благотворно только такое, в котором «все наличное обожествляется, безотносительно к тому – добро или зло». Божественна сама жизнь, деление же ее на добро и зло – искусственно.
Фактически Аполлон – бог человеческих иллюзий, гармонии, порядка, красоты, Дионис – бог правды жизни, ее страданий, неистовств, экстазов. Но он же – бог художественных откровений, опьяняющей силы творчества, приобщения к истокам бытия. Место встречи богов – греческая трагедия: «В ней взаимодействие дионисовой «истины» и аполлоновой «иллюзии» достигло наибольшей глубины и гармоничности».
Что имел в виду Ницше, провозглашая соединение аполлонийского и дионисийского начал в искусстве? В чем двуединая природа всякого художества? Послушаем ответ Вяч. Иванова:
Аполлон есть начало единства, сущность его – монада, тогда как Дионис знаменует собою начало множественности (что и изображается в мифе как страдание бога страдающего, растерзанного).
Бог строя, соподчинения и согласия, Аполлон есть мощь связующая и воссоединяющая; бог восхождения, он возводит от разделенных форм к объемлющей их верховной форме, от текучего становления – к недвижно пребывающему бытию. Бог разрыва, Дионис, нисходя, приносит в жертву свою божественную полноту и целостность, наполняя собою все формы, чтобы проникнуть их восторгом переполнения и искупления, – и вновь, от достигнутого этим выходом из себя и, следовательно, самоупразднением бесформенного единства, обратить живые силы к мнимому переживанию раздельного бытия.
Аполлон – это утверждение, Дионис – это отрицание. Но отрицание творческое, несущее новую истину. Говоря о своей дионисийской натуре, Ницше имел в виду радость уничтожения старого во имя блаженства творения нового. Нет, не так, – радость соединения отрицания с утверждением: «Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе к уничтожению, – в том и другом я повинуюсь своей дионисийской натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения».
Аполлон – это сновидение, Дионис – опьянение. С одной стороны, прекрасные иллюзии, фантомы, грезы художника и поэта, с другой стороны – расходившаяся, раскрепостившаяся жизнь… Аполлон – бог обманчивого мира, его великая радость и надежда. «Зажигатель порывов», Дионис – бог переизбыточного, исступленного, дерзающего, хмельного…
Так, в сновидениях душам людей предстают чудные образы богов, прекрасные иллюзии видений, в создании которых человек является вполне художником. Но при всей жизненности этой действительности снов всегда остается ощущение ее иллюзорности и предчувствие у философски настроенного человека, что в мире, в котором мы живем, лежит скрытая, вторая действительность, во всем отличающаяся от первой, следовательно, иллюзорной. Так Шопенгауэр определяет фантомы, грезы этого мира. И Ницше говорит о человеке, объятом покрывалом богини Майи: «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающего и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой волне, – так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на принцип индивидуации». В этой иллюзии держит человека Аполлон – бог «обманчивого» реального мира, божественный образ «принципа индивидуации», приятная необходимость сонных явлений, великая радость и надежда мира.
Бог страдающий, вечно умирающий и нарождающийся, он [Дионис] символизировал истинную сущность жизни, вечное стремление всеобъемлющей космической воли.
Таким образом, к ужасу нужно прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисийские чувствования, в подъеме которых субъективное исчезает до полного самозабвения.
«…Буйным исступлением зажигает он уравновешенные души и во главе неиствующих, экстатических толп совершает свое победное шествие по всей Греции». «…Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком».
Дионисийское – не хаотическое, не разрушительное, а, наоборот, в полном соответствии с этикой Ницше, служащее жизни «сообразно тому, что усиливает жизнь вида». Дионисийское – жизненное, биологическое, генетическое, предельно многообразное, спасительное для победы жизни над смертью.
Когда Дионис нисходит в душу человека, чувство огромной полноты и силы жизни охватывает ее. Какие-то могучие вихри взвиваются из подсознательных глубин, сшибаются друг с другом, ураганом крутятся в душе. Занимается дух от нахлынувшего ужаса и нечеловеческого восторга, разум пьянеет, и в огненном «оргийном безумии» человек преображается в какое-то иное, неузнаваемое существо, полное чудовищного избытка сил.
Богом избытка сил всегда и является Дионис. Не богом силы, а непременно богом избытка сил.
Бог переизбыточного, а не бог войны и катастроф, именно Дионис, а не Вотан, синтезированный К. Юнгом из Эдипа и Диониса.
«Дионисийское чудовище», Заратустра, – символ «воли к жизни», «воли к могуществу», веры в человека – вопреки всему, что так ненавидит Ницше – омассовлению, равенству, рассудочности и рассудительности, нивелированию, обобществлению.
Дионис – это утверждение жизни, опьянение жизнью, восхищение ею. «Дионисий для Ницше – символ вечного круговращения мировой жизни, вечного возвращения всего существующего, радостное явление всемогущей силы жизни, беспрестанно умирающей и воскресающей».
Еще Дионис – выражение мощи мировой воли, стихийное творчество этой воли, первоисточник свободы жизни и творчества. Если аполлоновскому началу жизни соответствует гармоническая музыка, то дионисийскому – музыка диссонансная… В эффекте диссонанса мы созерцаем феномен Диониса, «постоянно говорящий нам об удовлетворении изначальной радости игрою в созидание и разрушение индивидуального мира, подобно тому как у Гераклита Темного творческая сила Вселенной сравнивается с ребенком, который, играя, наваливает там и сям камни, насыпает кучи песку и затем раскидывает их снова». Художественный инстинкт – это одновременно инстинкт играющего ребенка и дионисийских сил.
В «Рождении трагедии» Ницше славит Аполлона и Диониса, но его отношение к праотцам искусства далеко не равное. Хотя оба начала жизни-искусства необходимы, симпатии Ницше явно на стороне стихии жизни, полнота которой выражена дионисийством.
Ницше в заключении своего труда славит обоих богов, но поклоняется, очевидно, одному Дионису, а к Аполлону продолжает относиться с некоторой опаской, очень уж этот бог склонен присваивать себе единовластие и даже гнать Диониса.
Познание сущности мира дает только Дионис, Аполлон же, как «principium individuationis», такого познания дать не может. Созерцание Вселенной с точки зрения Аполлона избавляет нас от индивидуальной воли, но не только не углубляет нашего взгляда на жизнь, а, напротив, делает его легкомысленно-поверхностным.
Высокое искусство – это соединение двух божественных начал. Торжество одного из них опасно вырождением, падением человека. И вновь подчеркивается «развращающее» влияние восторжествовавшего Аполлона: искусство теряет жизненную полноту, человек становится орудием манипуляций, личность утрачивается.
Впрочем, судя по всему, она утрачивается и в чистом дионисийстве. Древний Восток, считает Ницше, – царство необузданного Диониса, вот почему Восток не дал великого трагического искусства, какое дала Греция. И дала именно потому, что ее великие трагики, прежде всего Эсхил, соединили глубокую стихию чувств с мерой и формой, присущими Западу.
«Рождением трагедии» Ницше разрушал все профессорские стереотипы о «детстве» человечества – красоте, гармонии, любви, пастушески-философской идиллии. Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины, писал он. Античность – полнота жизни, следовательно, конкуренция, борьба, мощь страстей, дионисийство, «шевелящийся хаос» мифов, наиболее адекватно отвечающий глубине жизни.
Греки отделывались от пессимизма его преодолением в трагедии: именно трагедия есть доказательство того, что они не были пессимистами, как считал Шопенгауэр.
Ф. Ницше:
Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисовского явления у греков – оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, познанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный декадент. «Разумность» противопоставляется инстинкту. «Разумность» рисуется во что бы то ни стало как опасная, подрывающая жизнь сила!
А. Новиков:
Вопреки всем традициям, которые обожествляли философа Сократа, Ницше со свойственной ему горячностью яростно развенчивает древнего мудреца. Ему ненавистна спокойная уверенность Сократа в познаваемости мира, его убеждение, будто знание универсально, и нет ничего темного, таинственного ни в окружающем человека мире, ни тем более в самой человеческой душе.
Этот спокойный оптимизм чужд Фридриху Ницше, он отвергает обманчивую ясность и простоту мира, ему мнится стоящая за ней самоуспокоенность, посредственность, усредненность. И он взволнованно призывает преодолеть сократические начала, вернуться к мифу, к необузданной и необъяснимой музыке, рождающей трагедию. Музыка и трагический миф, – заключает Ницше свою первую работу, – в одинаковой мере суть выражение дионисийской способности народа. Дионисийское, беспокойное, тревожащее начало – это «вечная и изначальная художественная сила».
Дионисийство задало тон всему творчеству философа-поэта, в момент написания первой книги еще не сознававшему опасности начатого им предприятия. Дионис – вызов традиционным представлениям, следуя по этому пути, «последний ученик философа Диониса» должен был, оставаясь верным себе, «переоценить все ценности», тем самым взять себе в противники всю сократовскую и всю христианскую культуры, стать еретиком всех философий и теологий. Несколькими веками раньше это грозило огненными палатами, но во второй половине просвещенного XIX века – только полным изгойством, разрывом всех связей. В момент появления «Рождения трагедии» этого не понимал ни сам Ницше, ни большинство его друзей, но взятый им курс последовательно и неизбежно вел к необъявленному остракизму.
«Рождение трагедии» вызвало яростные нападки Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа, Германа Узенера и Эрвина Роде, которые, однако, не смогли предотвратить вызванный ею переворот в филологии, лишивший ее цеховой замкнутости и академичности «закрытой» науки. Герман Узенер, назвавший книгу «совершенной чушью», заявил своим студентам: «Каждый, кто написал нечто подобное, научно мертв». Даже «старый Ричль» не удержался от укола: «остроумное похмелье». Хуже того, Ницше не приняли не только «профессора», но и «будущее» филологической науки – его собственные студенты, сорвавшие зимний семестр 1872/73 года. Ницше – уже первой своей книгой – слишком опередил время. Современники не прощают такого никому…
Ф. Ф. Зелинский:
В то самое мгновение, когда античность, благодаря книге Ницше, готовилась к одному из своих самых славных завоеваний в умах новой Европы, наука об античности в лице своих представителей-филологов исключила из своей среды ее лучшего бойца!
Впрочем, он не остался в долгу: афоризмы Ницше – яркое свидетельство его реакции на всех его зоилов:
И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня.
Знаешь ли ты, брат мой, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости – быть справедливым к тем, кто тебя презирает?
Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение – это ставят они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо – этого они никогда не простят тебе.
Ты стал выше их; но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает.
«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! – должен ты говорить. – Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































