Текст книги "Ницше"
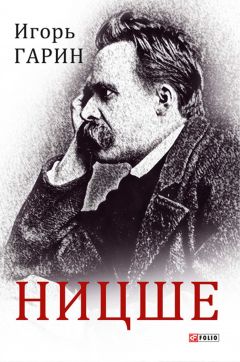
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
«Заратустра»
Это или поэзия, или пятое евангелие, или еще что-нибудь иное, что не имеет названия; это самое серьезное, самое удачное из многих произведений и приемлемое для всех…
Ф. Ницше
О, Заратустра,
лютейший Нимрод!
Недавно еще ловец перед Господом,
тенета всяческой добродетели,
стрела злого!
Теперь —
уловленный самим собою,
своя собственная добыча,
вбуравленный в самого себя…
Теперь —
одинокий с собою,
двоящийся в собственном знании,
среди ста зеркал
искаженный перед самим собою,
среди ста воспоминаний
полный сомнений,
усталый от каждой раны,
знобимый каждым морозом,
душимый собственными веревками,
Самопознающий!
свой собственный палач!
Зачем связал ты себя
веревкой своей мудрости?
Зачем завлек ты себя
в рай древнего змия?
Зачем забрался ты
в себя – в себя?
Ты искал тягчайшего бремени:
и вот нашел ты себя —
ты не отбросишь себя от себя…
скорчиваясь,
человек, уже не стоящий прямо!
Ты еще срастешься со своим гробом,
сросшийся дух!..
А недавно еще такой гордый,
на всех ходулях своей гордости!
Недавно еще отшельник без Бога,
уединившийся вдвоем с дьяволом,
багряный принц всяческой заносчивости!..
Теперь —
между двумя Ничто,
искривленный
вопросительный знак,
усталая загадка —
загадка для хищных птиц…
– Они уж «разгадают» тебя,
они алчут твоей «разгадки»,
они уже реют вокруг тебя, их загадки,
вокруг тебя, повешенный!..
О, Заратустра!..
Самопознающий!..
Свой собственный палач!..
«Заратустра» занимает в мировой литературе место рядом с нордическими сагами, Авестой, священными и руническими текстами, старыми эпосами и, с другой стороны, рядом с «Фаустом» или «Улиссом». Особняком поэма стоит и в творчестве самого Ницше.
Эта необыкновенная музыкально-философская книга вообще не укладывается в привычные каноны анализа. Ее органическая уникальность требует не столько осмысления, сколько сопереживания… Необычайная игра слов, россыпи неологизмов, сплошная эквилибристика звуковых сочетаний, ритмичность, требующая не молчаливого чтения, а декламации. Неповторимое произведение, аналог которому вряд ли сыщется в мировой литературе.
Мне представляется, творец имеет право на самооценку собственного творения, более того, у достаточно критичного автора самооценка творения вполне может оказаться адекватной ему. Относится это к Ницше и «Заратустре»? Ницше называл «Заратустру» творением, рядом с которым все созданное людьми выглядит убогим и преходящим, чем вызвал множество упреков в непозволительности такого рода самоосанны. Конечно, надо учитывать утрату больным человеком тормозящих реакций, но эйфория еще не значит «слепота». Можно как угодно относиться к книге, написанной «под Библию», но совершенно очевидно, что книга эта вдохновенна и самобытна. Я категорически не согласен с ее оценкой высоким авторитетом, коим считаю Томаса Манна, увидевшим в «Заратустре» безликую, бесплотную химеру, лишенную какой бы то ни было объемности: «Он весь состоит из риторики, судорожных потуг на остроумие, вымученного, ненатурального тона и сомнительных пророчеств – это беспомощная схема с претензией на монументальность, иногда довольно трогательная, чаще всего – жалкая; нелепица, от которой до смешного один только шаг».
Мне было больно читать эти слова, вполне естественные для кого-либо из наших, но не в устах творца «Иосифа и его братьев». Впрочем, обвиняя автора «Заратустры» в подготовке почвы фашизму и рассматривая его творчество сквозь призму только что отгремевшей самой бесчеловечной в истории войны, братья Манны наговорили много опаснейшей чепухи о благах другого человеконенавистничества с красной, а не коричневой, окраской. Завихрения трезвомыслящих гениев, оказывается, ничуть не меньше завихрений гениев экстатических. Внутри каждого Гомера – свой Зоил.
«Так говорил Заратустра» – самая музыкальная книга Ницше, основная концепция которой – мысль о вечном возвращении. Рассказывая историю ее появления в «Ессе Ноmо», Ницше вспомнил предзнаменование, пережитое как возрождение, во время прогулки вдоль озера Сильваплан в августе 1881 года. Ницше беременел книгой 18 месяцев и завершил первую часть в тот священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер, в феврале 1883 года. Впрочем, в это время у него был иной кумир – Лу Саломе, стихотворение которой он упоминал как источник вдохновения: «Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит возражением против жизни: “Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну, что ж! у тебя есть еще твоя мука…”»
Ницше полагал, что «Заратустра» снизошел на него, стал его великим здоровьем, посланной свыше наградой, неоткрытым материком, «границ которого еще никто не видел, по ту сторону всех доселе известных стран и закоулков идеала». Заратустру он воспринимал не столько даже как личность, но как огромный, странный, загадочный, богатый прекрасным, страшным и Божественным мир. Еще – как идеал духа, «который наивно, т. е. невольно и от избытка полноты и мощи, играет всем, что доселе называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным…»
Это действительно вдохновенная книга, написанная с огромным душевным подъемом. Он ощущал себя лишь орудием, медиумом высших сил. Вот, пожалуй, одно из лучших в мировой литературе признаний о том, как это происходит:
При самом малом остатке суеверия, действительно, трудно защититься от представления, что ты только воплощение, только орудие, только медиум высших сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть простое описание фактического состояния. Слышится без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме без колебаний – у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; совершенное бытие с самым ясным сознанием всего себя при бесчисленном множестве тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм, – продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме есть почти мера для силы вдохновения, род возмещения за его давление и напряжение… Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности… Непроизвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение, все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ласкаясь к твоей речи и заискивая у тебя: ибо они все хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить».) Это мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетие назад, чтобы найти кого-нибудь, кто может мне сказать: «Это и мой опыт».
Высокое созвездье Бытия!
Скрижаль вековых письмен!
Ты ли это?
Или то, чего не видал никто,
твоя неизреченная красота,
более не бежит от моих взоров?
Щит необходимости!
Скрижаль вековых письмен!
Не тебе ведомо:
единственно я люблю
то, что внушает ужас всем:
вечность твою,
необходимость твою!
Ибо любовь моя вечно воспламеняется
только от искры необходимости.
Щит необходимости!
Высокое созвездье Бытия!
Не достигнутое ни единым желаньем,
не запятнанное ни единым отказом,
вечное согласие Бытия,
вечное согласие Бытия – это я,
ибо я люблю тебя, Вечность!
Затем наступила отрицательная реакция – две недели он лежал обессиленный и больной в Генуе. Это действительно переживалось как послеродовой кризис: тоска, дурные запахи, навязчивые слова, ликующий мрак «Ночной песни».
Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о «Заратустре», я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью, ни на последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую за тем зиму, под алкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестело в первый раз в моей жизни, я нашел третью часть «Заратустры» и окончил его. Меньше года хватило на все.
Может быть, тогда он в последний раз ощущал здоровье, одухотворение и мощь духа. Он много танцевал; подражая своему герою, совершал, снова-таки, как он, пяти-шестичасовые прогулки в горах. «Я хорошо спал, я много смеялся – у меня были выносливость и терпение».
Затем эйфория сменилась диким упадком, бедствием. «Дорого искупается – быть бессмертным: за это умирают не один раз в жизни». Но, увы, мало кому довелось испытать это страшное, угнетающее, придавливающее чувство:
Есть нечто, что называю я злобой великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды совершенное, немедленно обращается против того, кто его совершил. Именно потому, что он его совершил, он теперь слаб, он не выдерживает более своего дела, он не смотрит ему в лицо.
Первые три части «Заратустры», если не считать подготовительного продумывания, были написаны – с перерывами на восстановление сил – на протяжении 1883 года, хотя непосредственно время написания заняло меньше месяца. После каждой части требовался срок, дабы прийти в себя. Четвертая часть потребовала уже нескольких приемов: начатая в Цюрихе в сентябре 1884 года, она обрабатывалась в Ментоне и была закончена в Ницце в феврале 1885-го. Рукопись этой части снабжена пометкой: «Только для моих друзей, но не для опубликования». Ницше считал ее исключительно личной и издал сорок экземпляров лишь в подарок «тем, кто этого заслужил», из коих подарил только семь – немногим сохранившимся друзьям. Ницше вынашивал планы написать еще пятую и шестую части, но дальше наметок дело не двинулось: он исчерпался.
Так и не получивший широкой известности, к моменту написания «Заратустры» он был уже забыт теми немногими, кому стал известен. Семь подаренных экземпляров показательны тем, что дарить больше было некому.
Непостижимо чужд стал Ницше эпохе. Горько читать его письма, в которых он робко извиняется за просьбу ознакомиться с его книгой. Не успеха, не славы, даже не простого человеческого сочувствия ждал он: он надеялся найти хоть какой-нибудь отклик на сжигающие его мысли. И все напрасно! Даже самые близкие люди – сестра, Овербек, Роде, Буркхардт – избегали в ответных письмах всяких суждений, словно тягостной повинности, настолько непонятны им были боль и страдания его лихорадочного разума.
«Заратустру» Ницше воспринимал как взрыв внутреннего дионисийства, опустошающего действия, приобщения к сонму самых великих – он сам перечисляет: Гёте, Шекспир, Данте, поэты Веды. «Я замыкаю круги вокруг себя в священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы: я строю хребет из все более священных гор».
Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, больше мог, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное вытекают у него из единого источника с бессмертной уверенностью. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении правды, которое было бы уже предвосхищено, угадано одним из величайших умов.
Ницше так упоен творением, что не может удержаться, чтобы в «Ессе Ноmo» не заняться самоцитированием. Он упоенно цитирует собственного Заратустру-Диониса. «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение…» «Но это и есть еще раз понятие Диониса».
Каким языком будет говорить этот ум, когда он будет говорить сам с собою? Языком дифирамба. Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра сам с собою перед восходом солнца (III, 142): таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже самая глубокая тоска Диониса все еще обращается в дифирамб; я беру в доказательство «Ночную песнь» — бессмертную жалобу быть обреченным из-за переизбытка света и власти, из-за своей солнечной натуры никогда не любить.
«Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.
Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.
Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.
Я – свет: ах, если б быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что я опоясан светом.
Ах, если б быть мне темной ночью! Как упивался бы я у сосцов света!
И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки на небе! – и был бы счастлив от ваших даров света…
О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете млеко и усладу у сосцов света!
Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!
Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!
Ночь: теперь рвется, как ключ, мое желание – желание говорить.
Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.
Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного».
Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна… Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех таких загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. Заратустра определил однажды, со всей строгостью, свою задачу – это также и моя задача, – так что нельзя ошибиться в смысле: он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.
«Я хожу среди людей, как среди облаков будущего: того будущего, что жду я.
И в том все мое творчество и стремление, чтоб собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.
И как мог бы я быть человеком, если б человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!
Спасти тех, кто прошли, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» – лишь это я назвал бы избавлением».
В другом месте он определяет так строго, как только возможно, чем может быть для него «человек» – ни предметом любви, ни даже предметом сострадания – даже над великим отвращением к человеку Заратустра стал господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще ваятеля.
«Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!
Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем воля к рождению.
Прочь от бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы создавать, если б боги существовали!
Но всегда к человеку влечет меня сызнова моя пламенная воля к созиданию; так устремляется молот на камень.
О, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!
Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?
Кончить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне – самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!
Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь до богов!..»
Я отмечаю последнюю точку зрения: подчеркнутая строфа даст доступ к ней. Для дионисовской задачи твердость молота, радость даже при уничтожении, принадлежит самым решительным образом к предварительным условиям. Императив: «Станьте тверды!» – самая глубокая уверенность в том, что все созидающие тверды, есть истинный отличительный признак дионисовской натуры.
Моя душа
со своим ненасытным языком,
она лизала уже все хорошее и дурное,
она погружалась в каждую глубину,
Но постоянно, подобно пробке,
она всплывает снова наверх,
она играет, как масло на темных морях:
за эту душу меня называют счастливым.
Кто мне отец и мать?
Не отец ли мне принц Избыток
и не мать ли тихий Смех?
Не породил ли этот брачный союз
меня, загадку-зверя,
меня, светлое чудовище,
меня, расточителя всяческой мудрости,
Заратустру?
Больной ныне от нежности,
теплый ветер,
сидит Заратустра, ожидая, на своих горах —
в собственном соку
ставший сладким и сварившийся,
под своею вершиною,
под своим льдом,
усталый и блаженный,
созидающий в свой седьмой день.
– Тише!
Истина витает надо мною,
подобно облаку —
незримыми молниями разит она меня.
По широким медленным лестницам
восходит ее счастье ко мне:
прийди, прийди, возлюбленная Истина!
– Тише!
Это моя Истина! —
Из медленных глаз,
из бархатного трепета
разит меня ее взор,
милый, злой взор девы…
Ты жертвуешь собою, тебя мучает твое богатство,
ты раздаешь себя,
ты не щадишь себя, ты себя не любишь.
Великая мука понуждает тебя к постоянному действию,
твоя палата ломится добром, твое сердце ломится
добром,
но никто не благодарит тебя более…
Тебе надо стать беднее,
глупый мудрец,
если ты хочешь, чтобы тебя любили.
Любят лишь страждущих,
даруют любовь только голодающим:
раздари сперва самого себя, Заратустра!
Я – твоя истина…
Чем был Заратустра для самого Ницше? Грядущей реальностью? Лирической фантазией? Благотворной иллюзией? Личным источником сил? Я не думаю, что на эти вопросы необходимы ответы. Хорошие вопросы не требуют ответов. Сам Ницше часто повторял изречение Шиллера: «Имей смелость мечтать и лгать». Заратустра – не ложь Ницше, но та его истина, которую он именовал ложью. Иными словами – это Образ, Миф, Идея, но те, которые и есть сущность реальности, в данном случае реальности грядущей.
Он творил Заратустру, а Заратустра творил его, Ницше. Он хотел походить на своего героя и питаться его энергией, надеждой, любовью…
Да, я знаю, какая опасность грозит тебе, но заклинаю тебя моею любовью и моею надеждой – не теряй твоей любви и твоей надежды! Благородному человеку всегда грозит опасность стать дерзким, насмешливым или разрушительным. Увы! Я знал многих благородных людей, которые потеряли свою самую высокую надежду и с тех пор стали клеветать на нее… Моею любовью и моею надеждой я заклинаю тебя: не уничтожай того героя, который живет в твоей душе! Верь в святость твоей высокой надежды!
«Заратустра» – одна из величайших книг в истории культуры, победа творца над горестями и невзгодами жизни, сила, выкованная из слабости, экстаз, рожденный из боли.
В первой части «Заратустры» нет будоражащей мысли Ницше о вечном возврате – ее вытесняет сверхчеловек, предзнаменованием которого является Заратустра, новый пророк Благой Вести. В одиночестве он обрел внутри себя обещание счастья, которое должен принести людям. Еще он несет в себе предвидение великого будущего, которое станет наградой человеку за его великий труд. Подсознательно Ницше чувствовал несовместимость идей вечного возврата и сверхчеловека, но, видимо, он уже задумал обогатить доктрину вечного возврата мыслью об эволюции.
Сверхчеловеком он как бы отвечает на поставленный еще в юности вопрос, можно ли облагородить человечество. Положительным ответом на него и является Заратустра. Но он – это и ответ Ницше Вагнеру на вызов, брошенный Парсифалем: не очищение человечества кровью Христа, но пробуждение его к активному действию, принцип такого действия, способность избранных сынов человечества самим обновить и очистить свою кровь – вот кто такой Заратустра.
Г. Рачинский:
Став логикой своей могучей мысли, как ему кажется, по ту сторону добра и зла, герой замечает, что, пока он будет идти только этим путем научного убеждения, он не победит людей. Старая мораль, на которую он нападает, живет не силою аргументов ее защитников, а убедительностью и красотой того типа, в котором она для большинства людей воплощается. Этот тип вы все знаете, это – великий Победитель зла и смерти, «победы знамение Носящий». Вот кто действительный враг. Необходимо противопоставить ему живой образ «сверхчеловека», а не научную или общественно-политическую идею. Создается могучий учитель – «Заратустра», и для возвеличения его напрягаются все силы недюжинного, если только не первоклассного, поэтического таланта. Опять, как в молодые годы, звучат дифирамбы.
Для Ницше определяющим понятием является «воспитание сверхчеловека»; это означает, что сверхчеловек – результат новой ветви эволюции, эволюции духа. «Слово «воспитание» значит: перерождение посредством новой, высшей оценки ценностей, которые должны стать властителями человечества, нормой его поведения и основой жизнепонимания». Заратустра может быть понят лишь в совокупности со всем корпусом идей Ницше, особенно с идеей переоценки всех ценностей. Собственно, сам Заратустра и есть новая система ценностей, новый критерий оценки жизни.
Ф. Ницше:
Никто не спросил меня, а об этом следовало бы спросить, что именно означает в моих устах, в устах первого имморалиста, имя Заратустры: ибо то, что дает этому персу совершенно исключительное положение в истории, составляет с моими идеями полную противоположность. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла главный рычаг, управляющий движением вещей, – переработка моральных понятий в метафизические, каковы сила, причина, цель в себе – вот в чем лежит его значение. Но самый этот вопрос, будучи поставлен, заключал бы в себе, по существу дела и свой ответ. Заратустра создал это роковое заблуждение – мораль, следовательно, он же и должен быть первым, кто познал его. Не потому только, что он обладает более долгим и разнообразным опытом, чем когда-либо обладал мыслитель, – вся история представляет живое опровержение мысли о так называемом «нравственном мировом порядке»: – но, что гораздо важнее, потому, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, объявляет правдивость высшей добродетелью – в противоположность трусости идеалистов, обращающихся в бегство перед реальностью; в Заратустре больше физического мужества, чем во всех мыслителях вместе взятых. Говорить правду и хорошо стрелять из лука: такова персидская добродетель. Понятно ли я выражаюсь?.. Самопреодоление морали посредством правдивости, самопреодоление моралистов путем превращения в собственную противоположность – в «я»: вот что означает в моих устах имя Заратустры.
Последние страницы первой книги «Так говорил Заратустра», религиозные по самому высокому критерию, есть гимн новому человеку, новой земле, новой добродетели, новой истине, обновленному его идеями грядущему:
«Оставайтесь верны земле, братья мои, со всем могуществом добродетели вашей! Ваша дарящая любовь и познание, да послужат они смыслу земли! Так прошу я и заклинаю вас.
Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! О, как много добродетели улетало и прежде!
Верните – как сделал это я, – верните улетевшую добродетель назад, на землю, снова к телу и жизни: да придаст она земле свой смысл, смысл человеческий!
Сотни раз уносились прочь и сбивались с пути и дух, и добродетель. И поныне живут в нашем теле все эти мечты и заблуждения: нашей плотью и волей стали они.
Сотни раз уже пытались вырваться и заблуждались дух и добродетель. Да, человек и был их попыткой вырваться! О, сколько невежества и заблуждений стало в нас плотью!
Не только разум тысячелетий, но и безумие их проявляется в нас. Опасно быть наследником.
Продвигаясь шаг за шагом, боремся мы с исполином-случаем, и над человечеством до сих пор еще тяготеют неразумие и бессмыслица.
Да послужат ваш дух и ваша добродетель смыслу земли, братья мои: да будет ценность всех вещей вновь установлена вами! Ради этого должны вы бороться! Во имя этого – созидать!
Познавая, очищается тело; приобретая опыт знания, возвышается оно; у познающего освящаются все влечения; радостна душа у возвысившегося.
Врач, исцелись сам: тогда исцелишь ты и больного твоего. Но лучшим исцелением будет для него, если он своими глазами узрит того, кто сам исцелил себя.
Есть тысячи троп, троп еще не хоженых; тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни. До сих пор не открыты еще и не исследованы человек и земля его.
Бодрствуйте и внимайте, одинокие! Таинственные ветры несутся на крыльях из будущего; до чуткого уха долетает Благая Весть.
Вы, ныне одинокие, вы, покинувшие людей, некогда вы станете народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный, а от него – Сверхчеловек.
Поистине, земля еще станет местом выздоровления! И уже веет вокруг вас новое благоухание, несущее исцеление и новую надежду!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































