Текст книги "Ницше"
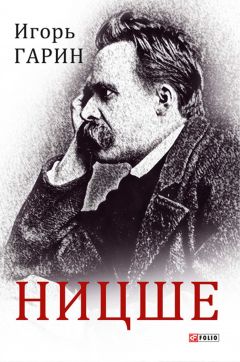
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Константин Николаевич Леонтьев охладил восторги русской общественности по поводу вселенской любви русских: нельзя любить человечество, можно любить лишь отдельных людей – так словами Свифта отреагировал он на восторженно встреченный призыв Достоевского ко всемирной любви.
Подобно библейскому вопрошанию: «Не лобзанием ли предаешь Сына Человеческого?» – Леонтьев в очередной раз поставил под вопрос благостность морализма: «Любя человечество, не предаешь ли человека?»
Искушая публику любовью к человечеству, Достоевский искушал ее тем бесовством, с которым боролся, ибо, говоря словами Гартмана, если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом (тотальная любовь и тотальное благоденствие), осуществилась, то человечество достигло бы степени нуля или полного равнодушия всех ко всем.
Пафос отповеди Леонтьева Достоевскому – в отрицании личной, персональной любви любовью общественной и в антихристианской подмене личного примирения примирением общественным.
Христос… ставил милосердие или доброту – личным идеалом; Он не обещал нигде торжества поголовного братства на земном шаре… Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые уступать нельзя.
Пророчество всеобщего примирения людей во Христе не есть православное пророчество, считает Леонтьев, а больше даже пророчество еретическое, ибо в Божественной Книге нигде не говорится о всеобщей любви и всеобщем мире, а лишь – об искушении и прельщении людей ложью:
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.
К. Н. Леонтьеву были чужды идеи уравнительности и справедливости социальной жизни. Он знал одну правду – многообразие. «Красота и цветение культуры были для него связаны с разнообразием и неравенством».
К. Леонтьев в своем отношении к государству – антипод славянофилов. Он признает, что у русского народа есть склонность к анархии, но считает это великим злом. Он говорит, что русская государственность есть создание византийских начал и элемента татарского и немецкого. Он тоже совершенно не разделяет патриархально-семейственной идеологии славянофилов и думает, что в России государство сильнее семьи. К. Леонтьев гораздо лучше понимал действительность, чем славянофилы, имел более острый взгляд.
Хотя К. Н. Леонтьев отстаивал византизм – пышную и обильную жизнь Востока, он был более европейцем, чем византийцем или русским. Более того, его вполне можно назвать славянофобом, даже русофобом. Он гораздо больше любил греков и турок, чем славян, он приветствовал турецкие гонения на христиан: «Пока было жить страшно, пока турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили, пока в храм Божий нужно было ходить ночью, пока христианин был собака, он был более человек…» Туретчина подхлестывала и активизировала жизнь, предохраняла от однообразия и мещанства.
К. Н. Леонтьев не принимал ни панславизм, ни «русскую идею». Полностью свободный от национализма и народопоклонства, он не верил в русский народ, как, впрочем, в любой народ, подозрительно относясь к массе как к стихии. Идея, рыцарство, красота, вера, церковь – все было для него важнее народа и даже «всякой России»:
Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию, и всякой Франции служить… Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую я могу разве по принуждению выносить.
Он ясно видел отрицательные черты народа, обличал зависимость церкви от государства и пророчески предсказал грядущую Россию, которую уже нельзя будет любить.
У Леонтьева гораздо больше, чем у Чаадаева, обличительных строк в адрес собственной страны, будущее которой он так ясно провидел и от которого этими строками предостерегал. Его русофобия – результат страстного желания предостеречь народ и страну от жуткого падения, от социализма, от антихриста. Я вообще считаю, что ненависть к собственной стране невозможна – возможно или абсолютное безразличие к ее судьбам, присущее большинству, или «русофобия» леонтьевского толка – огромная щемящая боль.
Безошибочным чутьем «реакционера» Леонтьев чувствовал приближение нового рабства, предсказал перерождение социализма в жуткую тиранию, в жестокое подчинение, в полное подавление личности.
Социализм теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя… законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже страшнее.
К. Н. Леонтьев раньше Достоевского и Вл. Соловьева почувствовал беду, надвигающуюся на Россию. У него было «катастрофическое чувство наступления новой эпохи» – но не Христа, а антихриста.
Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и – кто знает? – подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой веры, – и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, – родим антихриста.
Глубокий знаток своего народа, Леонтьев понимал, что со своей тягой к крайностям, со своим максимализмом, русские не остановятся на умеренных, либеральных и легитимных формах, а обязательно доведут до антихристова предела.
Воспитывать наш народ в легальности очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса! А пока народ наш понимает и любит власть больше, чем закон. Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава.
Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела.
Оригинален наш русский психический строй, между прочим, и тем, что до сих пор, кажется, в истории не было еще народа менее творческого, чем мы. Разве турки. Мы сами, люди русские, действительно весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда ничего действительно оригинального, поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не могли. Правда, мы создали великое государство; но в этом царстве почти нет своей государственности; нет таких своеобразных и на других влияющих своим примером внутренних политических отношений, какие были в языческом Риме, в Византии, в старой монархической Франции и в Великобритании.
Может быть, в этом и есть значительная доля очень печальной для славянского самолюбия правды: дисциплина нашей церкви происхождения вполне византийского; немцы до сих пор еще учат нас порядку; а татарской крови, как известно, течет великое множество в жилах того дворянства русского, которое столько времени стояло во главе нации нашей… Быть может, кто знает, если бы не было всех этих влияний, то и всеславянское племя, и русский народ, в частности взятый, из буйного безначалия перешел бы легче всякого другого племени или нации в мирное безвластие, в организованную, легальную анархию.
Все великое и прочное в жизни русского народа было сделано почти искусственно и более или менее принудительно, по почину правительства.
Боже, патриот ли я? Презираю ли или чту свою родину? И боюсь сказать: мне кажется, что я ее люблю как мать и в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру.
К. Н. Леонтьев не видел в русских людях ни той морали и любви, которые приписывал им Достоевский, ни сильной веры, ни самобытности.
Будучи человеком глубокой и искренней веры, кончив свою бурную жизнь монастырем, русский де Местр и Ницше в одном лице никогда не переоценивал ни православие, ни русскую церковь, ни религиозность русского народа.
Когда речь идет о развитии, о своеобразии, о творчестве культурно-религиозном, я не могу не видеть, что после разделения церквей православие в Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято оттуда без изменения, т. е. без творчества. А европейская культура именно после этого разделения и начала выделяться из общевизантийской цивилизации. В истории католичества что ни шаг, то творчество, своеобразие, независимость, сила.
К. Н. Леонтьев считал западные народы более одаренными и дисциплинированными, чем русский народ. Он не верил во внутреннюю силу любого народа и особенно собственного, признавая лишь начала, идущие сверху: «У нас что крепко стоит? Армия, монастыри, чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. Все принудительное». Убери принуждение – и вчерашние рабы «потребуют для себя как можно побольше земли и вообще собственности и как можно меньше податей». «За свободу же печати и парламентских прений он [наш народ] не станет драться». Интуиция Леонтьева порой поразительная:
…Социализм рано или поздно возьмет верх, но не в здоровой и безобидной форме новой и постепенной государственной организации, а среди потоков крови и неисчислимых ужасов анархии.
Церкви и монастыри еще не сейчас закроют: лет двадцать, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться.
Главную беду России и главную угрозу ее будущему К. Н. Леонтьев видел в отсутствии личностного начала – коллективизм, «соборность» препятствовали не только развитию культуры, но и нормальной истории, государственности, многообразия.
Лишь малочисленные консерваторы, я бы сказал – реакционеры, стоящие на самом краю политического спектра, адекватно воспринимали российскую реальность, требуя не равенства, а «достоинства в смирении». Всеобщее уравнение, пророчествовал Константин Леонтьев, приведет русское общество не к либерализму и демократии, а к бессловному и бесцерковному государству и подготовит путь антихристу, пришествие которого он предрекал к концу XX века (мы видим, даже консерватизм наш оптимистичен). Разглагольствованиям либералов Леонтьев противопоставлял развитое стратифицированное общество, опирающееся на иерархию и естественно сложившуюся сословную структуру: «Сами сословия или, точнее, сама неравноправность людей и классов важнее для государства, чем монархия». Если русский народ хочет быть великим народом, писал российский Парето, он «должен быть ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен», поскольку «при меньшей свободе, при меньших порывах к равенству прав будет больше серьезности», а значит, и больше «достоинства в смирении», без которого народ станет, «сам того не замечая, народом богоборцем, и даже скорее всякого другого народа, быть может».
Мы потому не любим историю, историческую ретроспективу, что именно пророчества «циников» и «аморалистов» оказываются верными, именно ненавистные нам «реакционеры» оказываются реалистами и плюралистами, именно «антигуманисты» – вестниками, пророками, визионерами. Нам говорят об «историческом сатанизме» Константина Леонтьева; что ж, послушаем этого «сатану»:
Нам есть указания в природе, которая обожает разнообразие, полезность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата… Не в том дело, чтобы не было страданий, но чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица… Прекрасное – вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество красоты.
Любить мирный и всемирный демократический идеал – это значит любить пошлое равенство, не только политическое, но даже бытовое, почти психологическое… Идеал всемирного равенства, труда и покоя?.. Избави боже! Необходимы страдания и широкое поле борьбы!
Чего бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велики. Дайте и злу, и добру свободно расширить крылья, дайте им простор… Зла бояться? О боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия…
К. Н. Леонтьев говорил то же, что затем Ницше, Парето и Моска: что необходима сильная элита, что для величия родины и нации необходима конкуренция, что в мире не существует никаких абсолютов, в том числе абсолютов истины, добра и красоты. Существует реальный человек с реальными человеческими качествами – существо максимально естественное и тем более интересное и красивое, чем более разнообразно и выразительно. Дайте человеку возможность свободно и законно конкурировать – и вы увидите, как из личного эгоизма вырастет общественный альтруизм с его милосердием, «койками, докторами и сестрами». Вот почему «зло на просторе родит добро!»
Не оттого ли, что для многих поколений русских интеллигентов все это называлось цинизмом, аморализмом и сатанизмом, и сидим в…
Внимание! У Ницше есть еще один исток, может быть, самый главный: социалистическая идея. Ницшеанство – реакция на нее, не будь этой идеи, не было бы Ницше.
Социализм имел результатом Ницше, т. е. протест личности, которая не хочет исчезнуть в анонимате, против нивелирующей и все захватывающей массы; восстание гения, отказывающегося подчиниться глупости толпы, и – в противоположность всем великим словам о солидарности, равенстве и общественной справедливости – смелое и парадоксальное провозглашение того, что только сильные имеют право на жизнь и что человечество только затем и существует, чтобы время от времени производить нескольких сверхчеловеков, которым все другие должны служить рабами.
Здесь Плеханов сгустил краски, но начало – бесспорно: сверхчеловек понадобился Ницше, чтобы противостоять все усиливающемуся напору этого самого «анонимата».
Трагедия в том, что вся культура вела не только к плюрализму, но и к множеству собирателей фиг с чертополоха – прежде всего к нам, своей практикой доказавшим, что на почве, унавоженной химерическом равенством, из дьявольских зерен человеческой ничтожности вырастают в огромном количестве микросверхчеловеки, неотличимые от своих антиподов – сподручных бесноватого.
Инструкторы героизма, они хотели царства Грааля, но кто виноват, что получилось – Клингзора?..
Аполлон и Дионис
Все существующее и справедливо и несправедливо и в том и в другом случае равно право.
Ф. Ницше
Обращение начинающего писателя к античной трагедии не случайно – вся немецкая культура глубоко пропиталась идеями эллинизма. Это был второй ренессанс античности, возвращение к культурным истокам, к «золотому веку» юности человечества. Нонконформизм Мифотворца выразился не в отказе от культурных поветрий времени, но в пересмотре их содержания. Вызов, брошенный Ницше профессорам, состоял в тотальной переоценке древнегреческого «рая», в демонстрации его темных дионисийских стихий.
Винкельмановской трактовке античности (кстати, воспринятой Гёте и Шиллером), которая основывалась на скульптурных интуициях, Ницше противопоставил понимание аттической жизни в музыкальном ракурсе: музыка озвучивала все размышления философа о судьбах античной культуры.
Там, где традиция усматривала в античных образцах совершенство, «высокую простоту», строгость, величавое спокойствие, идеальный образ мыслей, Ницше обнаружил инстинкт, волю к могуществу и трепет перед неукротимой силой этой воли. Позже, в «Сумерках кумиров», он признался, что только глубокое понимание психологии уберегло его от следования традиции – изображения аттической жизни в духе пасторалей Ватто или утопических химер Руссо.
Еще находясь под влиянием Шопенгауэра, Ницше заимствует в «Рождении трагедии» мысль о том, что искусство служит выразителем идей как вечных форм объективизации воли. Художник созерцает явление как чистый объект и самого себя в момент созерцания – как чистый субъект познания, свободный от мира, с которым он тесно связан. Именно благодаря этому человек искусства способен раскрыть то, что у Шопенгауэра зовется волей.
Греция была только предлогом и примером, той классикой, с помощью которой гипербореец начал обкатку своих модернистских взглядов: «Греция вырастала в гигантский предлог… к философии Фридриха Ницше». Возможно, он сам еще не сознавал, что этой «филологической» книгой открывается новая эпоха человеческой мысли, окончательно отказавшейся от своей собственной «незыблемости».
Занятия греческой древностью не только пробудили в Ницше сознание своего внутреннего стремления и первую мысль о цели своих сокровенных влечений, но они указали ему также дорогу, по которой он мог бы приблизиться к этой цели. Изучение классической древности раскрыло перед ним всю картину древнеэллинской культуры и те образы забытого искусства и религии, из которых оно черпало свежую, полную жизнь. Таким образом, филологическая ученость лишается своего крайнего формализма и ведет его к исследованиям исторического, эстетического и философского характера.
В «Рождении трагедии» в неявном виде содержались идеи его будущих произведений; в частности, в свертке находилась тайная мысль о Дионисе как потенции Христа. Собственно, само обращение к Греции скрывало пристальный интерес Ницше к современности, к современным институтам, к церкви, к христианской морали, к авторитаризму нереформированной христианской культуры.
Главный материал трагедии – стародавние мифы о дионисийском познании – мифы о Прометее, Оресте, Эдипе, о смысле жизни и содержании трагического искусства. Задача гения сродни задаче творца мироздания – творение прекрасного ценой вечной муки, ибо мудрость и знание покупаются путем нарушения всех законов, всего общепринятого, всего созданного ранее. Задача гения – постичь жизнь, разорвать цепи, стать выше мира и богов.
Трагедия, следовательно, является выражением дионисийского душевного состояния, переложенного и приспособленного в некотором роде для зрительского и умственного восприятия посредством аполлоновского образа. Она кончается обыкновенно смертью героя и тем не менее дает нам отрадное чувство утешения, поскольку жизнь героя продолжается в нас самих; мы проникаемся сознанием вечной жизни, которая, погибая в одном индивиде, неизбежно возрождается в других. «Метафизическое утешение всякой истинной трагедии, – говорит Ницше, – то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна; это утешение с воплощенной ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными». Трагедия возвышает нас над индивидом, над всем, что временно и преходяще: она побеждает присущий всякому индивиду страх времени и смерти. И это ее значение было понято в Древней Греции.
Основа онтологической философии трагедии – в признании темной стороны жизни, в постижении ее приоритета.
Ницше не только не стремится устранить из жизни все загадочное, таинственное, трудное и мучительное, но ищет всего этого. В законах природы, в порядке, в науке, в позитивизме – залог несчастья, в ужасах жизни – залог будущего.
Не следует открещиваться от опаснейших чудовищ – только признав их существование, только научившись жить рядом с ними, можно надеяться постичь правду жизни, преодолеть извечную утопию, обрести силы не в прекраснодушной надежде, но в полноте бытия. Шопенгауэровский алармизм, утопический оптимизм должны быть преодолены ясным сознанием, не строящим никаких иллюзий, видящим опасности, не желающим фальши, – героической способностью овладеть исторической (трагической) ситуацией и обеспечить успех.
«Рождение трагедии» – первая проба пера и одновременно «коперниковский переворот» в филологии, аналогичный «Критике чистого разума» в философии:
Надо вспомнить центральный вопрос кантовской «Критики» – «Как возможны синтетические априорные суждения?» – никогда еще до этого не задававшийся в философии, хотя именно на указанных суждениях и покоилась вся логика естественнонаучного познания, и перенести – mutatis mutandis – этот вопрос в сферу филологии, где он получил бы единственно адекватную формулировку: «Как возможна Греция?» – именно таковой, хотя и без кантовской терминологии, окажется философская интенция «Рождения трагедии». Пафос «Критики чистого разума» трансформируется здесь в «Критику чистой Греции», ибо едва ли стоило бы специально оговаривать такую очевидную параллель, как релевантная идентичность филологической «Греции» и логико-методологических «синтетических априорных суждений». Указанная трансформация метода со временем станет привычной процедурой – Кассирер и Леви-Стросс применят ее к мифу, Юнг – к бессознательному, а, скажем, Э. Ласк – к самой кантовской философии; следует, однако, отметить, что в случае «Рождения трагедии» она носит исключительно формальный характер, так что о содержательной аналогии с Кантом не может быть и речи. Возможность ницшевской «Греции» конституировалась в существенно ином ключе; здесь догматически-классической парадигме «чистого» эллинского мира, изживающего свой художественный гений, казалось бы, в кредит и в назидание будущим поколениям, противопоставлен иной образ Греции – критический, кризисный, во всех смыслах «нечистый», поскольку скрывает за потемкинским камуфляжем достижений свирепый разгул хаоса и невменяемости.
Позже, после разрыва с Вагнером, Ницше назовет свой первый опыт «невозможной книгой», выражая тем самым недовольство своими юношескими увлечениями, помешавшими «Рождению трагедии» стать первым «Несвоевременным размышлением». Досада на себя 26-летнего была напрасной:
«Рождение трагедии» в этом смысле оказывается как бы камертоном, задающим тон, темой тем ницшевской философии и – что примечательнее всего – чисто христианской темой, на фоне которой камуфляж текста обнаруживает двойное дно: Кант, Шопенгауэр и Вагнер в отношении эллинства, но и само эллинство в отношении христианства. Не случайно, что раскавычивание книги в последних сочинениях Ницше (в последних днях его сознательной жизни) уже прямо связано с устранением на этот раз эллинской «примеси» и стоянием один на один с христологической проблематикой: тексты «Антихриста» и «Ессе Ноmо» с этой точки зрения воспроизводят «Рождение трагедии» в редуплицированной очищенности темы от смысловых и исторически неизбежных опосредований.
«Рождение трагедии», как тема тем ницшевской мысли, оказывается в этом свете настоящим ключом к расшифровке всего его творчества, которое выглядит уже не иначе как сплошной родовой мукой в условиях лихо разыгрываемого водевиля позитивистической современности.
Возвышенной метафизической целью трагического мифа было, согласно Ницше, облагораживание и просветление реальности: оправдание всего существующего, охрана движущих сил жизни, катарсис, констатация неумолимости судьбы. Именно в мифологии трагическое представало человеку как необходимое и естественное, космически-непреодолимое. Непреложность неведомого, обозначаемая как дионисийское, оборачивалась аполлоновской гармонией, очищением, слиянием с миром, согласием с судьбой.
Гераклит потому неизмеримо выше Сократа, что у него человек полностью вписан в космос, неотрывен от него. Философствование и деятельность у досократиков не отделены друг от друга. Человек связан с природой своей мифологией. Своей художественностью, открытостью «я» в бытие, глубиной бессознательного миф отражает их неотрывность.
Открытость культуры греков в мир, в «Первоединое» и основное противоречие этой культуры, вытекающее из ее открытости, а отсюда и взгляд на миф как «подлинную» иллюзию, которая одна лишь в состоянии снять, разрешить это противоречие реально – все это было скрыто от «теоретического человека» [Сократа]. Естественно, что гибель трагедии, а вместе с нею и мифа оказывается в таком случае исторической случайностью, порожденной появлением «теоретического человека».
Трагически-мифологическое мироощущение, характерное для досократиков, начинает разрушаться по мере развития теоретического мышления. Переломная точка – Сократ, «демон Сократа», трактуемый Ницше как демон отрицания: на смену творящему инстинкту приходит инстинкт критический и аналитический, полнота жизни подменяется рассудочностью и систематизацией. Максима сократической эстетики: «Все должно быть разумным, чтобы стать прекрасным», – воплощена в трагедиях Еврипида.
Драматическое искусство Еврипида все больше отрывается от мифологии Эсхила и Софокла, склоняясь к скептицизму, риторике, жесту. Исчезает музыкальность, а на место вечности и мудрости приходят миг, острота, причуда. Дионисийская мощь уступает аполлоновскому созерцанию, глубина и полнота чувств – аффектам.
Аристофана можно принять за его антисократовский пафос, но его творчество – только пародия на медиумов «дионисизма», открывающая фельетоническую эпоху. Комедия вообще мало отвечает «духу жизни», профанирует ужасы действительности, отвечая «предрассудкам демократического вкуса». Комедия – удел черни.
Сократовский дух убил греческую трагедию – убил рационализацией, дискурсией, демифологизацией, устранением дионисийского начала. Для Сократа трагедия утратила свой смысл, оказалась бесполезной. Он разрушил ее жизненность, цельность и полноту ради нового, рассудочно-примитивного мира, лишенного страданий, боли, борьбы, – одним словом, жизни. Вакхическому строю жизни Сократ противопоставил голую рассудочность.
Начиная от Сократа, рационализм которого направлен был против коренных греческих инстинктов, стремясь обуздать их, «греческий эстетический вкус меняется в пользу диалектики» и начинается победное шествие теоретического начала, стремящегося проникнуть путем разума в смысл бытия и даже внести в него нужные поправки.
Деградация греческой трагедии, наметившаяся уже у Софокла, связана с «торжеством разума» – наступлением на мифологическую дионисийскую стихию александрийской культуры, аполлоновского порядка, сократической мысли. «Любимец муз и граций», Аристофан, недаром осмеял Сократа и его клеврета Еврипида: Сократ испортил Еврипида, убедил трагика в силе человеческой мысли, в пресловутом «торжестве разума». Ученики Сократа убедили в этом человечество, толкнув его на опасный путь упадка и вивисекции – вивисекции самой жизни. Проницательные судьи Сократа почуяли опасность, вынесли «мудрейшему из смертных» смертный приговор, но они опоздали – за ним стоял Платон, а через пятнадцать лет после казни Овода появился на свет главный развратитель-вивисектор, творец логики, рационализма идеального государства и александрийской культуры, без особых изменений дожившей до наших дней и окончательно покончившей с дионисийской стихией жизни.
Характеризуя в «Ессе Нomо» свою первую книгу, Ницше писал:
Я увидел впервые истинную противоположность: с одной стороны – вырождающийся инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типические формы), с другой – рожденная из полноты, из переизбытка формула высшего утверждения, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании… Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего – отвергаемые христианами и иными философами-нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт декаданса. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы: ибо насколько мужество может отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и бегство его от реальности – «идеал»… Слабые не свободны познавать: декадентам нужна ложь – она составляет одно из условий их существования.
В. Вересаев:
…Как же может трагедия вести к утверждению жизни? Ведь страдания трагического героя иллюстрируют все ту же безотрадную Силенову мудрость; трагедии великих трагиков, Эсхила и Софокла, кончаются гибелью героев и самым, казалось бы, безнадежным отрицанием жизни. Почему же трагедия не вселяет в нас отчаяния, а как раз напротив, очищает души и примиряет с жизнью? Как может безобразное и дисгармоничное, составляющее содержание трагического мифа, каким бы то ни было образом примирять с жизнью? Достигается это тою таинственною силою, которая скрыта в искусстве, – силою, которая жизненный ужас претворяет в красоту и делает его предметом нашего эстетического наслаждения.
Мы убеждаемся, что даже безобразное и дисгармоническое в жизни есть только художественная игра, которую Воля, в вечном избытке своей радости, ведет сама с собою, – игра созидания и разрушения индивидуального мира. Жизнь творится великим Художником, и конечная цель его творчества – красота. Для этой красоты одинаково необходимы радость и горе, добро и зло, свет и мрак.
Аттическая трагедия – эстетический регулятор жизни, средство катарсиса и способ оправдания жизни. Трагическое в искусстве, отвечающее трагическому в жизни, роковой неизбежности страдания, дает возможность как бы освободиться от ужаса существования посредством своеобразного катарсиса, патологически-экстатического облегчения, «относительно которого филологи не знают, отнести ли его к медицинским или моральным явлениям».
Сознавая истину, в которую удалось ему проникнуть, человек видит повсюду только ужас и нелепость своего существования… И вот в тот момент, когда воле угрожает наибольшая опасность, приходит спасительное, исцеляющее от недуга, волшебное искусство; оно одно только в состоянии заглушить посредством изображений эти, вселяющие в человека отвращение, мысли об ужасе и нелепости существования, изображений, благодаря которым жизнь делается сноснее; изображения эти являются или в виде возвышенного – это тогда, когда искусство смягчает ужасное, – или комического, когда искусство выражает отвращение к нелепому. Хор сатиров, поющих дифирамбы, совершал в греческом искусстве дело спасения…
Трагедия рождается из духа музыки и в основе своей музыкальна: музыка выражает в ней саму мировую волю. По словам Ницше, «музыка поднимает нас над призрачностью вещей, представляет нам мировую волю, побуждая внимать той единой мелодии, которая звучит во всем». «Те хоровые части, которые вплетены в трагедию, являются, таким образом, первоисточником настоящей драмы». Диалог драмы суть ее аполлонический элемент, музыка – вакхический, дионисийский.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































