Текст книги "Ницше"
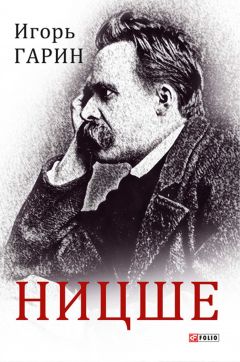
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
М. Хайдеггер обратил внимание на то, что ницшевская идея «воли к власти» предвосхищена в первоначальной редакции «Рождения трагедии», именно в его фразе: «Грек знал и ощущал ужас и жуть существования: чтобы вообще суметь хотя бы просто жить, он вынужден выставить впереди них сияющее порождение сна – олимпийцев». В этой фразе, считает Хайдеггер, прекрасной и возвышенной кажимости олимпийской жизни противопоставлено «титаническое», «варварское», «дикое», «импульсивное», «сущностное» – составляющее грядущую «волю к могуществу».
Совершенно неприемлема оценка творчества Ницше как возрастающего возбуждения, крикливости, исступленности (так, например, воспринимал последние произведения Ницше Томас Манн). Можно согласиться, что менялась манера письма, что отточенная размеренность речи уступала будоражащей взвинченности, но нет никаких оснований определять историю его творчества как историю возникновения и упадка одной мысли. Во-первых, мыслей было много – в «переоценке ценностей» Ницше не прошел мимо большинства животрепещущих философских проблем. Во-вторых, стилевая эволюция была движением к модернизму, к символизму, может быть, даже к джойсизму. Это может нравиться или не нравиться, но лично мне поздний Ницше ближе раннего – не осталось следов ученичества, отточилось «я», вдохновение вырвалось на простор…
Инструктор героизма
…Еще не знаю сам, Чем отомщу, но это будет нечто, Ужаснее всего, что видел свет.
У. Шекспир
Трагедия – это всегда оргия Бога.
В. Иванов
Есть еще один эпиграф, самый короткий и выразительный: «Transcendere! Преступить пределы!». Или такой: «О Заратустра, плоды твои зрелы, но ты не созрел для плодов твоих!»
Почему столько внимания я уделю низвергателю разума – мыслителю, бросившему вызов совокупной мудрости человечества?
Почему? Потому, что я пишу не историю мысли, но человека в мысли: рождение, перевоплощение, метаморфозы, смертные крики, небытие. Потому, что сама его жизнь есть прорыв демонизма, трагическая страсть к отвергаемому мышлению, испытание мыслью всех неиспробованных пределов. Потому еще, что он – наш антипод, вычисливший торжество «человеческого песка»…
Важнейшая особенность гениального экстремизма, отличающая его от массового фанатизма, – новый взгляд. Увидев мир иным, гений часто отрицает все иные перспективы, но нам-то важно не это отрицание, а новый срез бытия, открытый Распятым. Гениальный экстремизм – путь к новому, фанатизм масс – цепляние за отжившее, защита рабства.
Элитарность, все проявления элитарности – от высших (духовная культура, искусство, знание) до низших (деньги, власть) – имеют тенденцию усиливаться. Собственно, прогресс – это углубление пропасти между культурой и суммой бескультурья, между привилегированными и обделенными, сильными и слабыми, власть имущими и власть вожделеющими. Век неистово презираемых им масс, возобладавший над веком «белокурых бестий», – этого-то не предвидел последний ученик Диониса, – был одним и тем же веком: каждый выродок – столоначальник, мнящий себя сверхчеловеком, а над ними – верховный параноик.
Посеяли драконов,
Пожали блох…
Это был не философ, а филолог, скажет Владимир Соловьев. Поэт, vates, оргиастр музыкальных упоений. Последний романтик, стерший грань между философией и искусством, переливший фантазию в жестокую реальность жизни и наоборот. Новый Пиндар, поэт войны духа, инструктор героизма. Мисоксен, ксенофоб, ксеноктонн, ксенофаг.
Это не философия – оргия, эйфория, дионисийское исступление, экстаз, болезненное вдохновение, неоязычество, захмелевшая жизнь, упоенно-романтическая рапсодия, профетическое откровение.
Распятый Дионис, Бог переизбыточного.
Герольд насилия? Аргонавт свободы? Homo maniacus? Диагност и терапевт культуры? Лирик познания?
Внимание! – Он слишком поэт. Его нельзя понимать буквально. Есть множество Ницше – почти столько, сколько существует книг о нем – Адорно, Андерс, Андлер, Андреас-Саломе, Белер, Бенхолдт-Томсен, Бергер, Берелс, Бернстейн, Бернулли, Беррис, Бертран, Бизер, Битнер, Бок, Болманн, Брандес, Брандль, Бранн, Брантц, Бреннеке, Бриджуотер, Бризель, Бринк, Бритон, Бробье, Будо, Бурц, Ван ден Брук, Ван-Цутаберг, Вебер, Вейман-Вейе, Венцель, Вересаев, Вильгельм, Вилкокс, Вильямс, Волф, Ган, Гебхардт, Гербер, Гессе, Гофмансталь, Греммлер, Гримм, Глюксман, Герен, Гранье, Грац, Далмассо, Даннхаузер, Данто, Делёз, Деррида, Дильтей, Долсон, Дрюс, Дустдар, Дэвис, Жамбе, Жид, Зигмунд, Зиммель, Зитлер, Иезингауз, Иенц, Иоэль, Кауфман, Кайзерлинг, Кальтгоф, Каросса, Карсон, Кеннеди, Керкгоф, Кёстлер, Клаус, Клоссовски, Колли, Кольбах, Кольхаузен, Кофман, Краус, Крёкель, Крелль, Кремер-Мариетти, Куннас, Кюльпе, Кэрролл, Лав, Лавелл, Лаврин, Ламм, Ланге-Эйхбаум, Ланье, Лардо, Лебон, Леви, Лессинг, Лёвит, Лихтенберже, Лоув, Лукач, Магнус, Манн, Мейер, Меллер, Менкен, Минсон, Мистру, Миттельман, Монтинари, Моска, Мюгге, Мюллер-Варден, Мюллер-Лаутер, Мюнц, Немо, Ортега-и-Гассет, Парето, Петерс, Планкен, Подах, Пуц, Рейбурн, Рейхерт, Риккерт, Риль, Риттельмейер, Роде, Розенталь, Рормозер, Рукзер, Салакард, Салтер, Серна, Симон, Солтер, Стейнер, Стерн, Стрекер, Томас, Трумплер, Тэтчер, Уилкокс, Файхингер, Фиггис, Фигль, Финк, Фишер, Флейшер, Фрид, Фуко, Хаар, Хавенстейн, Хайдеггер, Хауи, Хейман, Хеллер, Хермердинг, Хиллебранд, Хина, Хиндерке, Ховей, Холлингдейл, Хольц, Хоркхаймер, Э. и А. Хорнэферы, Хоун, Хоффманн, Хух, Цвейг, Циглер, Чатер, Чаттертон-Хилл, Шапиро, Шахт, Шварц, Шелер, Шестов, Шламм, Шлехта, Шмид, Шмид-Миллард, Шпенглер, Штапель, Штамлер, Штайнер, Шутте, Штраус, Эйснер, Эмге, Юнг, Юнгер, Янц, Ясперс и т. д. без конца. У каждого – свой. Мой – цвейговско-манновский: «белокурая бестия» без бестиальности, виталист без здоровья, оптимист без надежды… Еще – веберовский Ницше: мыслитель-колосс, самая яркая индивидуальность, духовный выразитель судьбы, но также поэт витальной силы, вульгарный биологизатор, макиавеллист, брутальный экстремист, Калибан-богоборец, князь мракобесья Уриан, неистовый охлофоб. Симптом духа времени – человек рока…
Стоп! А может, познание темных глубин – сфера искусства? Может, великие поэты и их claritas – и есть высшее знание?
Прост, как Парсифаль, искатель святого Грааля?
Или новая ветвь поэзии – ruine? А почему бы и нет? – Раз воспето высшее начало, почему бы не воспеть низшее? Бодлер, Рембо, Верлен, Лотреамон и первый среди них – Бертран. Раз так много непостоянных искателей добра, почему кому-то не стать непреклонными защитниками «цветов зла»?
Страсть к разрушенью – творческая страсть…
Культура – стихия…
Понимать поэта буквально? Обвинять рапсода в употреблении слов? Во что тогда превратится поэзия? А философия?
В Ван Гоге языка важен не речевой хаос, не слова. Самое ценное в мыслителе не однозначность, а множественность интерпретаций.
И если все вычитывают одно – это не мудрец, а бабочка-однодневка. Слава богу, что есть ницшеанские философии – не стройные и последовательные системы, а неистовые инвективы, саркастические бурлески, интуитивно-художественные всплески, начисто лишенные анемичного равнодушия.
Экстаз то делал его вещуном, то бросал в воды той самой утопии, которой он так страшился. Разве не он усматривал в вагнеровском искусстве возвещение будущего, когда не будет высших благ и счастья, которые не были бы доступны всем? Хотя его юношеская утопия была эстетической, рожденной из духа музыки, хотя с годами он порвал с романтическими упованиями, его мифология и оптимизм выросли из веры в «золотой век» сверхчеловека, которым питается любая утопия, аристократическая в том числе. И здесь, в этой точке, в этой вере, в этом оптимизме сверхчеловека он соприкоснулся с недочеловеками, выходцами из мюнхенских пивных…
Но, даже бросаясь в мутные воды утопии, он оставался пророком, прорицателем, харизматическим, а не присяжным гением. Ведь в утопии (скорее анти-) он нашел свое, синтезировав келейное одиночество творца и дионисийский оргиастический экстаз толпы: «Обнимитесь, миллионы!» Да и пророчества его отнюдь не наивны.
Над полями этого грядущего не раскинутся, подобно вечной радуге, сверхчеловеческое добро и справедливость. Быть может, грядущее поколение покажется даже более злым, чем наше, ибо оно будет откровеннее как в дурном, так и в хорошем. Возможно, что душа его потрясла и испугала бы наши души, как если бы мы услышали голос какого-либо дотоле скрытого демона в природе.
Родословная сверхчеловека, или Культура как история влияний
Какое мучение эти великие художники, вообще великие люди для того, кто однажды разгадал их!
Ф. Ницше
В теоретическом отношении он часто опирается на других мыслителей, но то, в чем они достигли своей зрелости, своей творческой вершины, служит ему исходным пунктом для собственного творчества.
Лу Саломе
Культура – история влияний, писать ее можно, как своеобразное переселение душ. Ницше не скрывал, что апостольство начинается с желания иметь «руководителя и учителя»:
Мне хочется остановиться несколько на желании, которое в молодости часто и сильно являлось у меня. Я надеялся в минуты радостных мечтаний, что судьба оградит меня от ужасной необходимости воспитывать самого себя и что в свое время я найду воспитателя – в каком-нибудь философе, истинном философе, которому можно верить, не задумываясь, потому что ему можно доверять больше, чем самому себе.
Главная особенность интеллектуальной восприимчивости Отшельника Сильс-Марии, тонко подмеченная его эксцентричной подругой Лу Саломе, состоит в полном растворении усвоенного в самом ницшеанстве. Отталкиваясь от кого бы то ни было, он трансформировал усвоенное в собственное представление без остатка. «Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь несколько незначительных зерен».
С другой стороны, Хайдеггер считал, что философское новаторство Ницше глубоко укоренено в философской культуре: Ницше необходимо читать, непрестанно вопрошая историю Запада. В противном случае останется лишь пережевывать общие места. Конечно, это относится к любому новаторству, идет ли речь о Джойсе, Элиоте, Бродском, Шёнберге, Берге, Пикассо, Шагале.
Во всех моих книгах я стремился проследить духовную наследственность гения, историю влияний. Особенность «случая Ницше» в том, что, всецело выйдя из европейской традиции, будучи подверженным мощнейшей культурной иррадиации, он, следуя собственной доктрине «переоценки всех ценностей», кончил тотальным преодолением: «…искал великих людей, но всегда находил лишь обезьян, передразнивавших свой идеал…» «Сумерки кумиров» – «философствование молотом», закладка фундамента новой культурной парадигмы, в наши дни блистательно сформулированной Фейерабендом в виде принципа пролиферации: стабильность знания больше не гарантируется, надо строить теории, несовместимые с известными, наращивать количество перспектив.
Единодушие годится для церкви и тирании, разнообразие идей – методология, необходимая для науки и философии.
Хотя эти слова принадлежат современному философу науки, восходят они к ницшеанскому «философствованию молотом», отвержению авторитаризма, интерпретации знания как океана альтернатив, взаимно усиливающих друг друга.
То были ступени, по которым я поднялся, – пришлось оставить их позади. А они ждали, что я присяду на них отдохнуть…
Обосновывая в «Сумерках кумиров» эту свою позицию, Ницше писал:
Вы спрашиваете, что же вызывает у философов идиосинкразию? Да хотя бы историзм: философам ненавистна сама идея становления, их подход – древнеегипетский. Они воображают, что оказывают предмету честь, лишая его истории, превращая его, sub specie aeterni[26]26
С точки зрения вечности (латин.).
[Закрыть], в мумию. На протяжении тысячелетий всё, к чему бы ни притронулись философы, оборачивалось понятием-мумией, ничто действительное никогда еще не уходило из их рук живым. Они поклоняются кумирам понятий, эти господа идолопоклонники, их поклонение умерщвляет, высушивает, оно смертельно опасно для всего живого. Смерть, изменение, старение, а равным образом и зарождение, и рост – это для философов доводы против предмета, более того, его отрицание. Что есть, то не становится, что становится, то не есть…
Б. Рассел:
Ницше пытался соединить два рода ценностей, которые нелегко гармонируют между собой: с одной стороны, ему нравятся безжалостность, война, аристократическая гордость; с другой стороны, он любит философию, литературу, искусство, особенно музыку. Исторически эти ценности сосуществовали в эпоху Возрождения; папа Юлий II, завоевавший Болонью и использовавший талант Микеланджело, может служить примером человека, которого Ницше желал бы видеть во главе правительства. Естественно сравнить Ницше с Макиавелли, несмотря на важные различия между этими двумя людьми. Различия эти состоят в том, что Макиавелли был человеком действия, его мнения формировались в тесном контакте с делами общества и шли в ногу с веком; он не был ни педантичным, ни систематичным, и его философия политики не образует непротиворечивого целого. Ницше, напротив, был профессором, в сущности книжником, философом, находящимся в сознательной оппозиции к доминирующим политическим и этическим течениям своего времени. Однако сходство их глубже. Философия политики Ницше аналогична философии политики, изложенной в книге «Князь» (но не в «Размышлениях»), хотя она разработана и применена более широко. У обоих – и у Ницше, и у Макиавелли – этика нацелена на власть и носит умышленно антихристианский характер, причем антихристианский характер у Ницше выступает более выпукло. Наполеон был для Ницше тем же, что Чезаре Борджа для Макиавелли: великим человеком, побежденным мелкими противниками.
Итак, homo agressus, homo bellicosus, homo invasor, homo ferus[27]27
Человек агрессивный, воинственный, захватчик, дикий (латин.).
[Закрыть].
Каин. Я хочу, чтобы она [природа] создала побольше мужчин. Я сочинил блистательную поэму, где действует множество мужчин. Я разделю их на два больших войска. Одно поведу я, другое – тот, кого я сильнее всего боюсь, кого сильнее всего хочу убить. Оба войска стараются перебить друг друга. Представляешь себе? Толпы людей сходятся, сражаются, убивают. Все четыре реки красны от крови. Торжествующие клики, исступленный рев, отчаянные проклятья, мучительные стоны! Вот настоящая жизнь! Жизнь, волнующая до мозга костей, кипучая, хмельная! Кто не видел, не слышал, не чувствовал, не пережил этого, тот жалкий глупец в сравнении с тем, кто изведал это.
А может быть, вслед за Киркегором он понял, что прогресс (то, что именуют прогрессом) есть непрерывное нарастание господства посредственности, серости, пекуса, быдла, осознал, ужаснулся и восстал против такого прогресса – сверхчеловеком? Может быть, пафос Ницше – орущий от боли и ненависти протест против грядущего хамства, против мира, которым заправляет ничтожность, против мира, в котором живем мы?
Свидетельство вл. соловьева
Явился в Германии талантливый писатель, который стал проповедовать, что страдание есть чувство низкое, что нравственность годится только для рабских натур, что человечества нет, а есть господа и рабы, что первым все дозволено, а вторые обязаны служить орудием для первых. И что же? Эти идеи, которым некогда верили и которыми жили подданные египетских фараонов и царей ассирийских, были встречены в нашей Европе как что-то необыкновенно оригинальное и свежее и в этом качестве повсюду имели grand succéss surprise[28]28
Успех неожиданности (англ.).
[Закрыть].
Так ли все просто и примитивно?
Почему же тогда вся литература эпохи греческого чуда, – нет, вся греческая литература – от Гомера до Кратина, Аристофана, Платона и Ксенофонта – столь «ницшеанская»? Как там говорится в «Афинской политии»? «Хорошие законы могут быть лишь там, где благородные держат в повиновении простых и не допускают, чтобы безумцы говорили и даже принимали участие в народном собрании».
Почему вся история мысли насыщена одами великим? Без духовной элитарности, слышу ответ, не возникла бы светская интеллигенция. Без филологического пуризма нельзя было бы овладеть новыми стилями мышления. Без эзотеричности не возникли бы величайшие шедевры мировой культуры, начиная с «Эдды», Дантовой «Комедии» и кончая «Улиссом» и «Полыми людьми».
Увы, гениальность слишком часто есть сочетание великого и смешного, трагедии и фарса, святого слова и ярмарочного вопля – от Конфуция и Сократа до Толстого и Уитмена. Создавая величественный эпос о сверхчеловеке, Ницше не подозревал, что его тысячекратно опередили: Каин, библейские патриархи, античные схолархи, Христос, римские историки… Коллективный портрет «великого человека» – Джонатана Уайльда – создавался на протяжении всей культуры и ко времени первого имморалиста к нему уже нечего было добавить.
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и славе рождены.
Да, Лаэрт – отец одного из первых сверхчеловеков и даже имя сына – Человекобог, Qutiz, Zeus, Одиссей. Передержка? – Что ж, послушаем величайшего из слепцов:
Если беду на него посылают блаженные боги,
Волей-неволей беду переносит он твердой душою.
Стойкость могучую в дух нам вложили бессмертные боги,
В ней нам средство дано против ужаснейших зол.
Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце…
И т. д.
Песнь о Гильгамеше, египетская мифология, послегомеровская культура, Архилох, Эмпедокл, Гераклит, Пифагор, Аристофан, Платон полны неистовых инвектив в адрес пекуса. Ненавистью к демосу пропитаны «Всадники» Аристофана, вся античная трагедия, Гораций с его «презираю темную толпу», учение о иерархии Платона. Чем олигархи Ницше, стоящие на высшей ступени пирамиды, отличаются от философов на троне, наделенных неограниченной властью, творцов-деспотов, интеллектуалов-варваров?
А Спарта – древнее воплощение утопической мечты?.. В «Государстве» Аристокла уже весь философ Вечного Возвращения, разве что без надрыва, исступления, экстаза. И хотя сам он считает себя гераклитиком – понятное дело! – с таким же основанием он орфик, эмпедоклик, платоник, стоик, стагиритик, разве что без добропорядочности in medio stat vertus[29]29
Добродетель посередине (латин.).
[Закрыть].
Аристократичность – разве не в ней причина греческого чуда? Ренессанс лишь унаследовал у греков рост самосознания с неизбежным для него противопоставлением анемичности толпы индивидуальной воле и эгоизму. Архилох, а за ним Алкей и Анакреонт, бросая вызов Гомеру, заявляли, что кинули в сражениях свой щит, дабы сохранить свою жизнь. Архилох – уже в манере Камю – говорит, что он не откажется из-за смерти близкого от удовольствий и празднеств, хотя и будет скорбеть. О своем нежелании считаться с мнением сограждан кричит Мимнерм. Сапфо объявляет лучшим благом в мире собственную любовь. Эпихарм требует отказа от всех установлений. Гекатей Милетский противопоставляет свои «Генеалогии» плебейско-смехотворным суждениям народа. Фемистокл требует от гражданина только одного – неповторимости. Ликий рассказывает о кружке Кинесия, гордящегося пренебрежением к общественным установлениям и объявившего себя покровителем «Злого демона». Релятивистская философия Протагора, Горгия, Антисфена, Ликофрона – разве не эпатаж сверхчеловечности? Важнейшим компонентом греческого чуда бесспорно был аристократизм, в том числе установка личности на то, чтобы превзойти окружающих в достижении своих духовных и жизненных целей.
Перебирая схолархов Греции, мы находим лишь одного, думавшего иначе. Его имя – Сократ, Христос эллинов.
Но не Христос иудеев. Ведь когда пророк из Назарета яростно вопрошает: Кто мать моя? Кто братья мои? – разве не голос сверхчеловека слышим мы? И разве не он – вопреки столь развитым родовым чувствам и племенным обязательствам сынов Израиля – разве не он отвечает ученику, испрашивающему разрешения похоронить отца: «Пусть мертвые хоронят мертвых»?
Враги человеку домашние его… Кто не оставит ради Меня отца и матери, тот не идет за Мной…
Разве есть гений, которого бы не осквернили и не извратили? не обвинили в безнравственности? не осудили? который не осудил бы себя сам?
А теперь предоставим слово Заратустре древности, говорящему уже вполне языком современным:
Мне противно всё, что носит имя человека, и меня не будут касаться ни общественные отношения, ни дружба, ни сострадание. Жалеть несчастных, помогать нуждающимся – это слабость и преступление. Я хочу окончить мои дни в уединении, как дикие звери, и никто, кроме Тимона, не будет другом Тимона… Пусть мое одиночество будет непреодолимым барьером между миром и мною – люди из этой же филы, фратрии и демы, да и само отечество – пустые бессвязные слова, которые способны услышать одни дураки.
В греческой мысли Ницше привлекала «высокая простота» – философия трагедии, воля к могуществу, внутренний накал жизненных сил, мощь дионисийской стихии, жизнь-игра…
Беда заставила греков быть сильными: опасность была близка, она подстерегала повсюду. Великолепная гибкость и ловкость тела, бесстрашный реализм и имморализм грека – не «натура» его, это его беда. Имморализм не существовал от века, он был лишь следствием. И в празднествах, и в искусствах греки имели одну только цель: почувствовать, что удалось совладать с собой, показать это другим; и празднества, и искусства были для греков средствами, чтобы восславить самих себя, порою же – чтобы вселить страх в других…
Хотя Гомер и Архилох – поэты Аполлона и поэтому прямо не входят в «корпус идей» Ницше, разве не у них почерпнута amor fati, стойкость, закаленность души, ницшеанская «формула для величия человека», о которой он писал: «Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее, – любить ее… Являешься необходимым, являешься частицею рока, принадлежащим к целому, существуешь в целом». Гомеровская парафраза: «Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце».
Если же кто из богов мне пошлет потопление в темной
Бездне, я выдержу то отверделою в бедствиях грудью:
Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах; пускай же случится со мною и это…
У Архилоха не только стоицизм, но – уже почти ницшеанское признание необходимости страданий для движения жизни:
Стойкость, могучую в дух нам вложили бессмертные боги,
В ней нам средство дано против ужаснейших зол.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.
Почти все учение Заратустры, вложенное в шесть строчек…
Мы начинаем нащупывать основной нерв гомерово-архилоховского отношения к жизни. Божественная сущность жизни вовсе не скрывала от человеческого взора ее аморального, сурового и отнюдь не идиллического отношения к человеку: жизнь была полна ужасов, страданий и самой обидной зависимости. И тем не менее, гомеровский эллин смотрел на жизнь бодро и радостно, жадно любил ее «нутром и чревом», любил потому, что сильной душе его все скорби и ужасы жизни были нестрашны, что для него «на свете не было ничего страшного». Мрачное понимание жизни чудесным образом совмещалось в нем с радостно-светлым отношением к ней.
В метафизике Гераклита Ницше привлекал образ мира как бесконечного процесса, как вечной борьбы, этого «отца всех вещей»: «всякое развитие берет свое начало из борьбы». Конкуренцию, борьбу Ницше расценивал движущей силой жизни. У Гераклита, вблизи которого он чувствовал себя «теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте», фактически заимствована идея жизни-огня, «живущего смертью вещей», и квинтэссенция имморализма: «добро и зло – одно»:
Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов и никто из людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим.
Гераклит учил, что космос пребывает по ту сторону добра и зла, что жизнь в равной мере предполагает справедливость и несправедливость, что позиция человека в мире – гордый аскетизм, презрение к страсти, отвлекающей от цели, активность – всё это вошло в корпус идей Ницше.
Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисовской философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия «бытие» — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор мыслили. Учение о «вечном возвращении», это значит, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – это учение Заратустры могло однажды уже существовать. Следы его есть, по крайней мере, у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.
Вместе с тем Ницше не приемлет скептическое отношение «темного» философа к чувствам. Чувства говорят человеку правду, но вот разум фальсифицирует свидетельства чувств, привнося в них свои ложные понятия единства, постоянства, противоречивости, запредельности. Лжет разум, утверждающий, что за пределами наших чувств существует какой-то иной истинный мир, сверхчувственный и вечный.
Переоценка всех ценностей не была у Ницше обрывом корней: его философия буквально пропитана досократическим мифотворчеством, его имморализм – дальнейшее развитие и совершенствование моральных ценностей.
…Неучастие Ницше в развитии современной ему филологии и истории философии лишь оттеняет тот факт, что образцы и модели досократовской философии проникли в плоть и кровь его мысли: тут совершалось со-отражение такого масштаба, которое для тогдашних филологии и философии не было доступно, и, как кажется, даже вольность и раскованность своей мысли Ницше почерпнул не где-либо, а именно в своем истолковании досократиков.
Досократовскую Грецию Гераклита и Эмпедокла Ницше считал вершиной культуры, самой правдивой эпохой, не питавшей иллюзий и не украшавшей трагичность человеческого существования «торжеством разума».
Более поздняя эпоха – античная классика – уже подточена изнутри теми самыми ядами, которые затем будут собраны, настояны и предложены человечеству в виде христианства и приведут мир к крушению…
Гераклиту и Демокриту Ницше предпочел Протагора, который, по его словам, объединил двух первых (надо полагать – максимой «человек – мера всех вещей», основополагающей для гносеологии Ницше). Учение софистов лучше других античных метафизик отвечало жизни и мысли-процессу. В софистах Ницше видел не только провозвестников современной теорий познания, но и первых имморалистов, предшественников его собственного учения о нравственности. У Калликла он мог усвоить целую связку идей о приоритете права «сильного», действии согласно природе, тирании большинства. Законы, писал Калликл, составляются «слабыми», «худшими», «многими» и направлены против «сильных». Увы, демократия придает количеству статус закона: лучшее – устраивающее большинство. Но ведь еще Гераклит сказал: «многие – плохи». Там, где лучше – больше, лучшим – плохо…
Не будучи пирронистом, Ницше мог позаимствовать идею сверхчеловека не только у многочисленных немецких предтеч, но и у Анаксарха[30]30
Учитель Пиррона.
[Закрыть], убедившего Александра Великого в его божественном происхождении.
В молодые годы Ницше зачитывался Фукидидом, Диогеном Лаэрцием, штудировал Платона и Эмпедокла. В начале 70-х годов он изучал тексты «учителей жизни», как они называли себя сами, – Фалеса, Гераклита, Пифагора. Наследие досократиков казалось ему более основательным, чем беспочвенные, благостные труды учеников Сократа. Ницше импонировала аристократичность и свобода этих мыслителей, к которым каждый мог без страха и обиды прийти со своей точкой зрения и со своими оценками, вступить в диспут на равных.
Сознательно его мировоззрение было эллинским, но без орфической компоненты. Его восхищают досократики, за исключением Пифагора. Он питает склонность к Гераклиту. Великодушный человек Аристотеля очень похож на «благородного человека» Ницше, но в основном Ницше утверждает, что греческие философы, начиная с Сократа и далее, были ниже своих предшественников.
Ницше не может простить Сократу его плебейского происхождения, называет его «roturier» и обвиняет в разложении знатной афинской молодежи с помощью демократических моральных принципов. Особенно он осуждает Платона за склонность к назиданиям. Однако ясно, что ему не очень хочется осуждать Платона, и, чтобы извинить его, Ницше предполагает, что Платон, вероятно, был неискренним и проповедовал добродетель только как средство удержания низших классов в повиновении. Он назвал его однажды «великим Калиостро». Ницше нравятся Демокрит и Эпикур, но его приверженность к последнему кажется нелогичной, если только ее не интерпретировать как в действительности восхищение Лукрецием.
Разгадка негативного отношения Ницше к Сократу в том, что Овод создавал знание не для себя, а для других – учил тому, чему не собирался следовать сам. В этом отношении он предтеча всех «господ мыслителей» – от Гегеля до Маркса и Ленина-Сталина.
Сократ совершил непоправимую ошибку, подчинив спонтанную жизнь правилам ума, заразив рационалистической верой последующие века. Чистый разум – рассудок – неспособен подменить обилие жизни, он сам – лишь «небольшой островок в море первичной жизненности».
Не имея ни малейшей возможности заменить ее, чистый разум должен на нее опираться, получать от жизни питательные соки, подобно тому, как каждый член организма живет жизнью целого.
Не навязывание жизни правил ума, но первичность дионисийского начала, не разумность любой ценой, но разумность как элемент воли к могуществу.
Если возникает необходимость установить тиранию разума, что и было сделано Сократом, то, вероятно, велика и опасность тирании со стороны чего-то другого. Современники Сократа открыли, что их спасение – в разумности. И сам Сократ, и его «больные» стали разумными поневоле, разумность была суровой необходимостью, последней надеждой греков. Фанатизм, с которым греческая мысль устремилась к спасительной разумности, говорит о крайне бедственном положении; грекам грозила страшная опасность, они стояли перед выбором: либо погибнуть, либо стать разумными до абсурда… Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологией, а точно так же и их почтение к диалектике. Разум = добродетель = счастье – смысл тут один: поступай, как Сократ, вопреки всем темным вожделениям не давай угаснуть свету разума, свету дня. Любой ценой будь разумным, исполненным света и ясности, ибо всякое потворство инстинктам, бессознательному увлекает вниз…
Ярчайший свет, разумность любой ценой, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, лишенная инстинктов, противящаяся инстинктам, сама по себе была болезнью, еще одной болезнью, но отнюдь не возвращением к «добродетели», «здоровью» и счастью… Инстинкты нужно подавлять: эта формула – формула декаданса. Но пока жизнь стремится вверх, счастье равно инстинкту.
Понял ли это сам Сократ, этот умнейший из всех хитрецов, перехитривших самих себя? Сознался ли в этом себе в конце концов, когда принял мудрое мужественное решение – умереть? Сократ хотел смерти: он сам взял чашу с цикутой, вовсе не Афины обрекли его смерти – напротив, это он поднес Афинам чашу с ядом… «Сократ не врачеватель, – тихо молвил он, – одна лишь смерть здесь исцеляет… Сократ сам долго был болен…»
Из римских писателей Ницше больше других чтил Саллюстия и Горация. Первый дал ему стиль, сжатость, силу, богатство содержания, холодное презрение к «красивым чувствам». «Заратустра» – наследник римского стиля, «aere perrenius»[31]31
Прочнее меди (латин.).
[Закрыть] в стиле. Оды Горация потрясли молодого Ницше, вызвали его восхищение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































