Текст книги "Ницше"
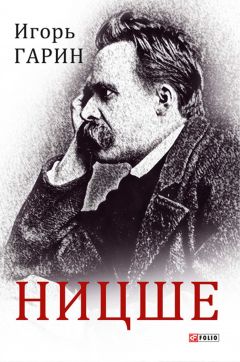
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
Достоевский, пишет Аскольдов, всеми своими симпатиями и оценками провозглашает: злодей, святой, грешник, доведшие до последней черты свое личное начало, имеют некую равную ценность именно в качестве противостоящей мутным течениям все нивелирующей среды.
Да, если кто в стране рабов и восстал против одномерности, однозначности, заданности, покорности эвримена, то – Достоевский! И нечего валить на «тлетворное влияние» Ницше!
Тема «Достоевский и Ницше» беспредельна: Шестов, Мережковский, Ясперс, Манн, Цвейг… Все наши попытки разорвать эту связь смехотворны. Оба были «подпольными мыслителями» и «ясновидящими пророками грядущего хаоса», оба не скрывали своих подлинных чувств, оба воспринимали человеческое существование как страдание и боль, оба остро чувствовали «всеобщее неблагополучие» и были духовными бунтарями, переоценивающими все ценности. То же ясновидение обнаженными нервами, та же болезненно-мучительная чувствительность, та же жестокая, неумолимая и гипертрофированная правдивость, то же «дозволение греха».
Ницше повторил открытие Достоевского – выяснил опасность «прочности убеждений», «великих идей», «единственно истинной веры». Жизнь сложна и многообразна, в ней нет устойчивости, единственности, абсолютности. Жизнь движется волей к могуществу, конкуренцией, борьбой. Без проб и ошибок, без заблуждений и фикций, без безумия и абсурда она превращается в существование, тление, убогость. Без сомнений и страданий человек не может существовать. Отказаться от ложных суждений, от эгоизма и интереса, от борьбы – значит отказаться от жизни, отрицать жизнь.
Мыслить для Ницше – не «открывать истины», но терзаться, мучиться, корчиться в судорогах. Вот почему у Ницше возникли сомнения, действительно ли приемы, рекомендуемые Спинозой и иными учителями мудрости, обеспечивают единственно верный путь к истине:
Может быть, в нашем борющемся существе и есть скрытое геройство, но, наверное, в нем нет ничего божественного, вечно в себе покоящегося, как думал Спиноза. Сознательное мышление, именно мышление философское, есть наиболее бессильный, а потому относительно более спокойный и ровный вид размышления: так что именно философ легче всего может быть приведен к ошибочному суждению о природе нашего познания…
Мы все живем в сравнительно слишком большой безопасности для того, чтобы стать настоящими знатоками человеческой души, один из нас познает вследствие страсти к познанию, другой – от скуки, третий – по привычке; никогда мы не слышим повелительного голоса: «Познай или погибни».
Вот почему в молитве своей Ницше просит у небожителей безумия – безумия, рождающего новые срезы истины и новый взгляд на жизнь:
О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я наконец сам поверил себе. Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один смертный, пугайте меня таинственным шумом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня, я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека; если я не «больше», чем закон, то ведь я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, – откуда он, если не от вас? Докажите мне, что я ваш, – одно безумие может мне доказать это.
Почти все философские баталии связаны с борьбой двух способов познания – умозрения и откровения. Здесь не время говорить о достоинствах и недостатках каждого из них, ибо сам выбор – бессознателен и индивидуален. Страстность я всегда предпочитал логике, потому что из «логиков» вышли самые страшные, самые беспощадные учителя человечества. Единственность их логики дала им право на единственность их истины и на само учительство, «пастьбу народа». Профессор Риль справедливо говорил, что Ницше не годится в учителя: в учителя годятся «истинно верующие», «господа-мыслители» – Руссо, Гегель, Прудон, Маркс, Ленин… Им всегда легче находить учеников…
Здесь пред нами еще и две принципиально расходящиеся парадигмы: абсолютной веры и сомнения как принципа мышления и жизни. Абсолютная вера во все времена рождала фанатиков и экстремистов, способность сомневаться открыла путь многообразию мысли и жизни. Выбирайте…
Там, внизу (у людей), – говорит Заратустра, – все слова напрасны. Там видят лучшую мудрость в умении забывать и проходить мимо: это я узнал от них. И кто хочет все понять у людей, тот должен на все нападать.
Лев Шестов считал, что отказ Ницше от учителей молодости подобен отказу Достоевского от Белинского: Ницше проклинает своих учителей за то, что они погубили его юность, совратив его пошлыми и отжившими идеями. Заратустра говорит:
Такое слово я скажу моим врагам: что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы сделали мне! То, что вы делали мне, – хуже всякого убийства; вы отняли у меня невозвратное: так говорю я вам, враги мои. Вы убили мои видения и милые чудеса моей юности. Вы отняли у меня товарищей моих, блаженных духов. В память о них я возлагаю здесь этот венок и это проклятие. Это проклятие вам – мои враги.
И Толстой, и Достоевский, и Ницше пытались выкорчевать из собственной души зло, эгоизм, «прежнюю жизнь». «Но эгоизм не только не ослабевал, а усиливался и все в новой форме предъявлял свои права: у него, как у сказочного змея, вместо каждой отрубленной головы являлись две новые».
Ницше прекрасно знал Достоевского, хотя познакомился с его книгами поздно, где-то около 1887 года. Познакомился и, по единодушному признанию Мережковского, Льва Шестова, Томаса Манна, попал в вечный круговорот мысли Достоевского. Его сверхчеловек – результат чтения, болезненно окрашенное воспоминание о Достоевском, гениальная литературная реминисценция. Реминисценция!
В «Сумерках кумиров» Ницше пишет, что Достоевский принадлежит к самым счастливым открытиям в его жизни. «Это психолог, с которым я нахожу общий язык». Достоевский значил для Ницше «даже больше, чем открытие Стендаля». Он давал ему «ценнейший психологический материал» и «был единственным психологом, у которого было чему поучиться». Это естественно: философ подсознательного, психолог инстинкта, Ницше тяготел к Достоевскому, художнику бездн.
Достоевский был ему близок отсутствием страха перед ужасами жизни. «Записки из подполья» – воистину гениальный психологический трюк, ужасное и жестокое самоосмеяние принципа «gnothi seauton», проделанное с дерзновенной смелостью, с упоением бьющей через край силы, опьяняющее наслаждение, признается Ницше.
«Записки из подполья» Ницше ценил за исповедальность, за то, что они «написаны кровью». Подобным образом он сам писал «Ессе Hоmо». Подпольные люди Достоевского – герои Ницше. И слова Достоевского: «Причина подполья – уничтожение веры в общие правила», «Нет ничего святого», – как бы сказаны о философии Ницше.
И разве эта философия снова-таки не сводится к фразе Достоевского – «Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать… а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть сознательно и бессознательно, хоть и врет, да живет»?
Само Евангелие он воспринимал как бы через Достоевского, через русскую жизнь:
Тот странный и больной мир, в который нас вводят Евангелия – мир словно из русского романа. Пророк, Мессия, будущий судья, моралист, чудотворец, Иоанн Креститель – всё это поводы, чтобы обознаться в типе… Можно пожалеть, что вблизи этого интереснейшего декадента не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-нибудь, кто умел бы ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского.
Ницше штудировал «Бесов», выписывал фразы Достоевского, особенно поразившие его: об утрате веры, о смысле жизни, о природе самоубийства, о провокации революции… Его потрясло совпадение мнений о революционерах-социалистах, которых Достоевский тоже именовал сволочью:
Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых»… и та направляет весь этот сор куда ей угодно… Дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди… стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать…
«Сумерки кумиров» написаны в тот период, когда настольной книгой Ницше были «Записки из Мертвого дома», а «Дневник нигилиста» навеян письмом Ставрогина («Бесы»). Можно себе представить чувства Ницше, читающего у Достоевского фразу: «Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности… когда они стали преступны, то изобрели справедливость…» Я не знаю, читал ли Ницше «Сон смешного человека», но идея «вечного возвращения» представлена здесь в ее первозданной чистоте…
У Достоевского Ницше «вычитывал» собственную жизнь и собственный характер, сочетание святой юродивости «идиота» и интеллектуального терроризма Великого Инквизитора или Антихриста. Подобная реинкарнация или метампсихоз затем происходили со многими читателями самого Ницше, держащими равнение на Заратустру, Диониса, Ариадну, сверхчеловека.
Ницше – Брандесу:
Я вижу в Достоевском ценнейший психологический материал, какой я только знаю, – я в высшей степени благодарен ему за то, что он всегда отвечает моим сокровенным инстинктам.
Ницше безоговорочно принимал слова Брандеса о соединении в Достоевском христианства с бесовством, старца Зосимы со Смердяковым:
Он великий поэт, но по строю души совершеннейший христианин и в то же время целиком садичен. Вся его мораль сводится к тому, что Вы окрестили моралью рабов.
Ницше сожалел, что эпоха зарождения христинства не имела психолога, соразмерного Достоевскому и способного «ощутить захватывающую прелесть такой смеси возвышенного, больного и детского». В отрывке под названием «Иисус: Достоевский» Ницше писал, что именно Достоевский «разгадал Христа». Он «инстинктивно уберегся от того, чтобы представить этот тип с вульгарностью Ренана…»
Говоря о «смеси возвышенного, больного и детского», Ницше вполне мог (подсознательно!) самоотождествляться с экзотическим русским вестником, у которого болезнь тоже стала «инструментом познания», открывшим величие и бездны жизни (абсурд существования – на языке Киркегора). Достоевский интересовал Ницше как истолкователь Христа, и идея Христа-идиота явно подсказана Ницше Достоевским, так же, как Заратустра – Великим Инквизитором.
Параллельность текстов Ницше и Достоевского позволяет говорить об инвариантности, конгениальности,
Ф. М. Достоевский:
…Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних.
Ф. Ницше:
Вы жметесь к ближнему, и для этого у вас есть прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе… Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему.
Ф. М. Достоевский:
Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек.
Ф. Ницше:
Человек есть нечто, что должно превзойти… Свободен к смерти и свободен в смерти…
Ф. М. Достоевский:
…Новому человеку позволительно стать человекобогом… и уж, конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона!
Ф. Ницше:
Ну что ж! вперед! высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек!
Ф. М. Достоевский:
…Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!
Ф. Ницше:
Перед ним открывается край, где в радостных аккордах дивно замирает диссонанс, и тонет страшная картина мира.
Ф. М. Достоевский:
Что такое живая жизнь, я не знаю. Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто и естественно, проходя мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.
Ф. Ницше:
Новой воле учу я людей: желать того пути, которым слепо шел человек: и назвать его хорошим, и больше не красться от него в сторону, подобно больным и умирающим!
Написаны тома и тома относительно того, что, произнося близкие слова, Достоевский и Ницше идейно несовместимы, антитетичны, антиподичны: «в то время как Достоевского ужасают его предвидения, Ницше они, наоборот, приводят в экстаз»; «Ницше идентифицируется со своим проектом, а Достоевский свой осуждает» и т. п. И сам Ницше считал Достоевского зорким художником, которому не хватало силы объявить изображаемую им правду вечной, объявить движителем жизни, а затем преодолеть – новой моралью и новым человеком. Достоевский впадал в болезненное, не имеющее выхода блуждание мысли современного человека и в этом уподобился своим героям. Ницше внушали отвращение folie circulaire, покаяния и искупления. «Преступники Достоевского были лучше него, так как обладали самоуважением». Вот почему нет ничего более противного сверхчеловеку, чем человекобог Достоевского. Первый – воля к жизни, жизненность, побеждающая саму смерть; второй – мертвенность, разрушение, смертельный исход.
И все же, мне представляется, все сказанное – только видные планы, выходящие на поверхность. Конечно, с рационалистической точки зрения Ницше и Достоевский – антиподы, а с глубинной, бессознательной, психоаналитической?.. В «Многоликом Достоевском» многое сказано о героях-проекциях души. Не буду повторяться…
Ницше и Достоевский – экзистенциальные мыслители, прямо противоположным образом преодолевающие отчаяние, но одинаково реабилитирующие человеческие качества и порывы. Оба – безбоязненные искатели смысла жизни, не страшащиеся осуждения снобов. Их многое разделяет, но по зоркости они не уступают друг другу.
Достоевский всеми своими героями-богочеловеками с неотразимой художественной убедительностью показал, что «человеческое, слишком человеческое» в человеке неустранимо…
Не было непреодолимой пропасти, разделяющей двух великих скитальцев[37]37
С. Цвейг обратил внимание на тот факт, что скитания Достоевского по Европе происходили почти в те же годы и в том же убожестве, что и Ницше.
[Закрыть], русского писателя и немецкого философа, – НЕ БЫЛО! То, что Достоевский глубоко скрывал, Ницше бесстрашно выставлял на всеобщее обозрение! Достоевскому требовались подпольные люди, чтобы выговаривать правду жизни, Ницше пользовался прямой речью – вот вся разница. Никто лучше самого Ницше не высказал этого в предельно сжатом определении, данном философом автору «Бесов»: «глубочайший человек».
Ницше осознавал непоследовательность Достоевского, несовместимость вскрываемой им правды жизни с сюсюканьем, подполья – с ханжеством «моральки», но, тем не менее, понимал, что именно Достоевский – его предтеча, именно Достоевский начал говорить то, что договорил он, Ницше.
Достоевский – это единственный психолог, у которого я мог кой-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни.
Он принадлежит к прекраснейшим счастливым случаям моей жизни, даже в большей степени, чем открытие Стендаля… Этот глубочайший человек, который был десятки раз прав, презирая поверхностность немцев, воспринял совершенно иначе, чем ожидал он сам, сибирских каторжников, среди которых он долго жил, сплошь тяжких преступников, для которых не было больше никакого возврата в общество, – (убедившись), что они как бы вырезаны из лучшего, прочнейшего и ценнейшего дерева, которое вообще вырастало на русской земле.
Чтение Достоевского придало смелости Ницше, так что самые эпатажные мысли Ницше – результат «достоевских» штудий. Достоевский утвердил Ницше в том, что присутствие жестокости в мире тождественно изначальности зла. Если хотите, философия Ивана Карамазова, отражающая один из ликов Достоевского, аутентична философии Ницше.
Я категорически не согласен с характеристикой Достоевского и Ницше как выразителей кризисной культуры. Подполье – не кризис, а правда жизни, норма, спрятанная человеком от самого себя. Достоевский и Ницше и выражали то, что пытались спрятать их предшественники, именно поэтому и стали Достоевским и Ницше! Оба – «жестокие таланты»…
Шестов и Томас Манн, не сговариваясь, называли их «братьями-близнецами», «братьями по духу». Те же главные темы и проблемы – богооставленность, вседозволенность, «высшие» и «низшие», воля к власти, преступность, бесовство, масса, революция, христианство, личность Иисуса Христа. Для обоих творить – мыслить новые миры. (Камю, например, считал Достоевского и Ницше провозвестниками абсурдного мира или мира абсурда.)
Конечно, Ницше и Достоевский по-разному относились к Христу и придерживались полярных взглядов на функции этики. Достоевский воспринимал мораль как данную Богом и в исполнении категорического императива видел путь к достижению полноты жизни и постижению мировой гармонии. У Ницше мораль Священного Писания – то, что дóлжно превозмочь, то, что препятствует жизни и процветанию на земле. А жизнь не имеет смысла, она сама смысл всего.
Конечно, Достоевский и Ницше – эталоны, символы двух разных культур: статичной культуры соборности, всемства и динамичной культуры личности, Заратустры. Нет сомнений в том, что идея сверхчеловека не могла возникнуть в России, хотя вся ее история изобилует Иванами Грозными, Петрами Великими, Лениными и Сталиными…
Говоря о Достоевском как о предтече Ницше, надо знать, что последний напрочь отрицал массу, а Достоевский, знавший куда больше о психологии масс и «сверхчеловеков», чем вся наука о них, страстно искал путь к народу и только в нем видел спасителя Руси. Достоевский близок ему подпольем, но не русской всечеловечностью и не совестливостью, которые больше идеология, чем правда подполья.
При всей противоречивости отношения Ницше к Достоевскому, при отрицании в нем поборника морали рабов и русского пессимизма, преобладающим все-таки является инстинкт родства, высочайшая оценка Достоевского-художника. Подпольный герой – их общее детище, как бы каждый из них к нему ни относился.
Мы видим: атмосфера была пропитана ницшеанством еще до появления Ницше. Андре Жид говорил: «Мы ждали Ницше еще до того, как его узнали; ведь ницшеанство возникло гораздо раньше появления самого Ницше». Индивидуализм и аристократизм, зачатые в глубокой древности, выпестованные Ренессансом, поставленные на ноги романтизмом, заматеренные Штирнером и накануне смерти гальванизированные Достоевским и Ницше, констатировали тот непреложный факт, унаследованный затем модернизмом, что разрушительность цивилизации, стремление к прогрессу, повергает свои собственные творения: Бога, этику, разум…
Кроме Достоевского, Ницше читал Гоголя, Тургенева, у которого, по одной из версий, заимствовал понятие «нигилизм»[38]38
Термин «нигилизм», от латин. nihil– ничто, Ницше позаимствовал у Поля Бурже, который, возможно, взял его у Тургенева.
[Закрыть], был знаком – в небольшом объеме – с творчеством Толстого, любил русскую музыку, знал многие русские пословицы. Он был лично знаком с дочерьми Герцена – Ольгой и Натальей, пианисткой М. Ф. Мухановой, Лу Андреас-Саломе.
У Тургенева есть модернистское стихотворение в прозе «Насекомое», созвучное настроениям позднего Ницше: идеалист отказывается признать существование кружащегося вокруг него чудовища, и оно убивает его…
Насекомое
Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.
Между нами женщины, дети, старики… Все мы говорим о каком-то очень известном предмете – говорим шумно и невнятно.
Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною… влетело, покружилось и село на стену.
Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские, жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки, да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки ярко-красные, точно кровавые.
Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки… потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате – и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.
Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас… Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «гоните вон это чудовище!», все махали платками издали… ибо никто не решался подойти… и когда насекомое взлетало – все невольно сторонились.
Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами сталось и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого – не слышал зловещего треска его крыл.
Вдруг насекомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз… Молодой человек слабо ахнул – и упал мертвым.
Страшная муха тотчас улетела… Мы только тогда догадались, что это была за гостья.
Особняком, ни на кого не похожий, не имеющий ни предтеч, ни последователей в собственной стране, но сказавший много нового, во многом упредивший Ницше, Гобино, Шпенглера, одиноким мечтателем стоял «супротив всех» К. Н. Леонтьев, остро поставивший проблему судьбы культуры, много предвидевший и от многого не сумевший предостеречь.
Не будучи жестоким человеком, он проповедывал жестокость во имя высших ценностей, совсем как Ницше. К. Леонтьев – первый русский эстет, он думает «не о страждущем человечестве, а о поэтическом человечестве»… Для него нет гуманных государств. Гуманистическое государство есть государство разлагающееся. Всё болит у древа жизни. Принятие жизни есть принятие боли… Чистое добро некрасиво; чтобы была красота в жизни, необходимо и зло, необходим контраст тьмы и света.
К. Н. Леонтьева называли «русским Ницше» за воспевание сил жизни, бурных эпох истории, конкуренции и борьбы, а также за неистовые инвективы в адрес либеральных и социалистических идеологов. Прочтя одну из первых русских статей о Ницше, В. Розанов воскликнул: «Да это же Леонтьев, без всякой перемены». Впрочем, «перемена» была: Леонтьев преклонялся перед византийским христианством и восточным деспотизмом.
«Эстетический аморализм», «трансцендентный эгоизм», восхваление Возрождения (совершенно так же, как у Ницше прославляются – героизм, трагедия и даже «демонизм» эпохи Возрождения) – все это определяет Леонтьева как прямого предшественника Ницше. Как верно заметил Джордж Клайн, Леонтьев даже очень близко подошел к идее «сверхчеловека».
Сам В. Розанов попал под влияние К. Леонтьева задолго до знакомства с Ницше. Как они оба, он был противником омассовления, уравнительного принципа, социалистических идей, а в критике христианства пошел дальше Ницше. Стиль книг Розанова уже вполне ницшеанский – афористически фрагментарный.
Индивидуализм и адогматизм Розанова не сближали его с Ницше, но удаляли от него: неправильно поняв имморализм как брутальное отрицание нравственности, автор «Уединенного» писал, что о нравственности нельзя судить как о вещи, нельзя ставить под вопрос ее необходимость – «Можно ее отрицать, но пока дело не коснулось нас в жизни».
Ницше не был знаком с текстами К. Н. Леонтьева, поразительно – вплоть до интонации – совпадающими с его собственными:
Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий буржуа в безобразной комической одежде своей благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия… Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки.
Леонтьев тоже отрицал универсальность морального мерила и в своих этических исканиях тоже исходил из имморализма, позиции «по ту сторону добра и зла».
К. Н. Леонтьев был человеком иного времени, иной культуры и иной земли. Ренессансный, даже средневековый человек, он был рыцарем, аристократом, русским Дон Кихотом, создавшим неведомый России культ женщины, культ личности и культ красоты. Он принадлежал к тому редкому на Руси типу людей, которые «больше думали о развитии собственной личности, чем о пользе людей».
К. Н. Леонтьеву принадлежит идея прекрасного как максимально разнообразного: жизненно и прекрасно лишь общество, основанное на многообразии, стратификации, дифференциации, неравенстве. Унификация, эгалитарность, равенство смертельны для общества, ибо убивают саму жизнь.
Нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм, наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений… Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее – вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения!
Человек «нестерпимо сложных потребностей», К. Н. Леонтьев не терпел «среднего человека», мещанства, пошлости буржуазной жизни, морализма и «любви к человечеству». Он любил конкретных людей, много делал для своих близких, но впадал в неистовство, когда слышал о «вселенской любви» вместо «возлюби ближнего своего». Он был «реакционером», но гораздо более свободным, чем все «прогрессисты» и «революционеры» вместе взятые. И в отличие от них, ясно осознавал роль боли и страдания в человеческой культуре:
Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской…
Как искупительны страдания Христа, так и человеческие страдания имеют смысл, непостижимый в пределах земной жизни, но необходимый для самой жизни. Все христианские мыслители, пишет Леонтьев, находили, что зло, обиды, горе в высшей степени полезны, даже необходимы. Уничтожить страдания и боль – значит уничтожить жизнь.
С христианской точки зрения можно сказать, что воцарение на земле постоянного мира, благоденствия, согласия, общей обеспеченности и т. д., т. е. именно того, чем задался так неудачно демократический прогресс, было бы величайшим бедствием в христианском смысле.
Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение, всё это только и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обида, жестокость.
Добро нуждается во зле, совершенство – в несовершенстве. Леонтьев не терпел морализма, ибо видел в нем подмену религиозных начал гуманистическими.
Н. А. Бердяев писал, что Леонтьев был добрым и мягким человеком и жестоким и суровым социологом. Ибо общество, как и органическая природа, живет разнообразием, конкуренцией, антагонизмом и борьбой. «Прогресс равномерного счастья» невозможен и готовит лишь почву для еще большего неравенства и новых страданий.
Благоденствие земное — вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле – вздор и даже обидная неправда, обида лучшим. Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях…
В обличении равенства и однообразия Леонтьев поднимался до пафоса Заратустры, которого своим творчеством упредил:
О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь. Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, неизобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью! Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идолом однородного, серого рабочего, только рабочего и безбожно-бесстрастного всечеловечества! Возможно ли любить такое человечество?..
Леонтьев потому и не мог смолоду «терпеть бесцветности, скуки и буржуазного плебейства», что видел в современной ему Европе не раскрытие личностного начала, а торжество «среднего человека». Оттого вся его любовь отдана не современному Западу, а Западу средневековому, рыцарскому, безвозвратно ушедшему:
В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов, воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны громаднее, философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (напр., эллино-римской), аристократия резче римской…
Равенство чревато однообразием, однообразие – признак дряхлости, умирания, смерти. Предсказывая до Шпенглера закат Европы, Леонтьев главной причиной заката видел усиливающееся стремление к идеалу однообразной простоты. Русский де Местр, он считал однообразие антисоциальным и признавал единственную мораль – могущества, дерзания, красоты, силы. Однообразию, равенству, царству окончательной правды он предпочитал драматизм истории с ее борьбой, конкуренцией, контрастами, светом и тьмой, добром и злом. И спасения он искал личного, а не мирового.
На излете европейского просветительства русская идея питалась рационализмом картезианства и гуманизмом Возрождения. На смену Гегелю уже пришли Шопенгауэр и Киркегор, а русские писатели все еще «пасли народы» и пели гимны человеку и человечеству. К. Н. Леонтьев, один из всех противостоящий «вере в человека», в брошюре «Наши новые христиане, Достоевский и граф Л. Н. Толстой» писал, что «гордо-своевольная любовь к человечеству может довести обоих великих писателей «до кровавого нигилизма». Это было некоторое преувеличение, но не в глубинном смысле: сегодня мы знаем, что революции споспешествуют не только отрицание и разрушительные призывы, но, иногда, не в меньшей мере, «дух реакции» – «вторая щека», ксенофобия, «патриотизм», мессианство, просто «Идея». Та, о которой сам Достоевский говорил: «идея съела»…
Первый русский философ жизни, Леонтьев писал: «Поэзия жизни обворожительна, мораль очень часто – увы! – скучна и монотонна…» Леонтьева отталкивал морализм русской литературы, убивающий цветение жизни и культуру. Леонтьев поднимался до настоящего пафоса в обличении утилитаризма, плебейского прагматизма и любых проявлений стадности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































