Текст книги "Ницше"
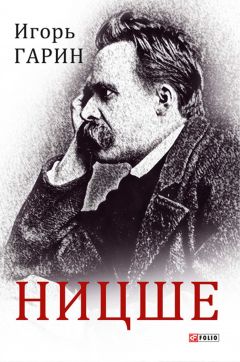
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Останься чист»
Он падает – кричат они, хохочут.
А он всего лишь – к ним спуститься хочет.
Он слишком счастлив был с самим собой.
Он – слишком свет, чтоб не пойти за тьмой.
Ф. Ницше
Несправедливость и грязь бросают они вослед одинокому; но, брат мой, если хочешь ты быть звездою, ты должен светить им, несмотря ни на что!
Ф. Ницше
Оставь меня! Пусти! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не прикасайся ко мне! Разве мир мой не стал совершенным?
Слишком чиста кожа моя для рук твоих. Оставь меня, бестолковый, темный, удушливый день! Разве полночь не светлее тебя?
Самые чистые должны господствовать над землей, никому не ведомые, непризнанные и сильные, души полуночи – полуночи, что светлее и глубже всякого дня.
О день! тяжелой поступью ходишь ты за мной! Ты протягиваешь руку за счастьем моим? Я, одинокий, богат для тебя, я для тебя – кладезь сокровищ, хранилище золота?
О мир, ты хочешь меня? Разве принадлежу я миру? Разве я набожен? Или божественен? Но, день и мир, слишком вы неуклюжи:
– пусть ваши руки будут более ловкими, протяните их за глубочайшим счастьем и столь же глубоким несчастьем, ловите какого-нибудь бога, но не меня;
– мое несчастье, мое счастье глубоки, о удивительный день, однако не бог я и не божий ад: глубока боль мира.
Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно тревожная впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость – что говорю я? – самое сокровенное, или «внутренность», всякой души я воспринимаю физиологически – обоняю… В этой впечатлительности содержатся мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная воспитанием, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся со своей стороны с предосторожностью к моему отвращению: но от этого запах от них не становится лучше… Как я себя постоянно приучал – крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, – я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне общение с людьми настоящим испытанием терпения; моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить, что я чувствую его подле себя… Моя гуманность есть постоянное преодоление самого себя. – Но мне нужно одиночество: я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха… Весь мой «Заратустра» есть дифирамб одиночеству, или, если вы меня поняли, чистоте.
Ницше был разносторонне одарен, творческие инстинкты поэта, музыканта, философа, ученого не сталкивались, а сосуществовали в нем, рождая жажду творческого созидания и неукротимое стремление к новой, неведомой другим истине. Я не согласен с мнением Д. Алеви, будто Ницше приходилось жертвовать одним из своих устремлений ради другого. Если он чем-то и жертвовал, то, по его же словам, «собою ради нарождающейся культуры».
Полная самоотдача, самозабвение присущи Ницше не только как философу или писателю, но Ницше человеку – студенту, военному, профессору. В армии он стал лучшим кавалеристом, в казарме – образцовым рекрутом, в университетской библиотеке – экстатическим «пожирателем» книг. Человек, казалось бы, несовместимый с солдатчиной, и в солдатчине пытался обрести полноту существования: «Солдатская жизнь не особенно удобна, но она, пожалуй, даже полезна. В ней есть постоянный призыв к энергии, которая особенно хороша как противоядие против парализующего людей скептицизма».
Нереализованный пылкий темперамент Ницше сублимировал в творчество, черпая энергию из боли, страдания, превращая мучения в «избыток воинственной энергии и счастья».
Его страсть к познанию переходит в алчность. Сам он говорит о себе, что у него – ненасытная душа, «которая хочет всем обладать, смотреть глазами множества индивидов и схватить их руками, как своими собственными, простирать свое господство даже на времена прошедшие, она ничего не желает утратить из того, что может только ей принадлежать. О пламя моей алчности! О если бы я мог возродиться в сотнях существ! Кто на собственном опыте не испытал силы этого вздоха, тот не знает, что такое страсть к познанию!»
Человек огромной творческой воли и энергии, подвижного и восприимчивого ума, он был настоящим трудоголиком, с замечательным упорством превозмогавшим собственную хворь. Его гениальные интуиции буквально рождались из его боли: «Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью», – каждый шедевр сопровождался сокращением его «шагреневой кожи».
Недостаток жизненной силы, о которой Ницше так пекся в своей философии, имел своим последствием не только частые смены настроения или творческие метания, но – дефицит силы воли, просто работоспособности. У Ницше никогда не оказывалось достаточного промежутка времени – «шести лет молчания и размышления», – дабы продумать нечто до конца. Все его работы не завершены, замыслы сумбурны, действия экзальтированы и лихорадочны.
Пламенность Ницше – его беззаветное служение тому, во что он верит в данную минуту, и столь же решительное отвержение этой веры – обращает его жизнь в гибельность вулканических извержений. Легко говорить и писать, что Ницше вначале обожествлял кумиров молодости – Шопенгауэра и Вагнера, а затем сбросил их с олимпа, трудно пережить те экстатические чувства, которые он испытывал, обожествляя и свергая.
С. Цвейг:
Вся его душа объята этим пламенем духовной любви, и потому отпадение от Вагнера наносит ему зияющую, почти смертельную рану, которая постоянно гноится и сочится и никогда не закрывается, никогда не заживает. И каждое духовное потрясение – для него землетрясение, превращающее в щепы всё здание его убеждений; всякий раз Ницше должен строить себя заново. Ничто не вырастает в нем тихо, мирно и незаметно, естественно и органически; никогда не напрягается его внутреннее «я» в скрытой работе, постепенно приводящей к обогащению: все, даже собственные мысли, разряжаются в нем, как «удар молнии»; всякий раз он должен разрушить свой внутренний мир, чтобы возник в нем новый космос. Беспримерна эта грозовая сила идей у Ницше: «Я бы хотел, – пишет он, – быть свободным от экспансии чувства, вызывающей такие последствия: у меня часто является мысль, что я внезапно умру от чего-нибудь подобного». И действительно, при каждом духовном обновлении что-то в нем отмирает: всякий раз что-то разрывается в его внутренней ткани, как будто в нее вонзился нож, разрушающий все прежние сцепления. Всякий раз переплавляется в огне нового откровения вся духовная оболочка. Судорога смерти, судорога родов сопровождает у Ницше всякое превращение. Быть может, не было человека, который бы развивался в таких муках, всякий раз сдирая с себя окровавленную кожу. Поэтому все его книги – не что иное, как клинические отчеты об этих операциях, методика подобных вивисекций, своеобразное акушерство – учение о родах свободного духа. «Мои книги говорят только о моих преодолениях» – это история его превращений, история его беременностей и разрешений, его умираний и воскресений, история безжалостных войн, которые он вел с самим собою, экзекуций и карательных экспедиций и, в совокупности, – биография всех людей, которыми становился и был Ницше за двадцать лет своей духовной жизни.
Огненный пафос Ницше – страстное нежелание быть «как все»: «Люди не равны – и того, что я желаю, не должны желать они». Даже в отношении собственных книг он предостерегал, что они, ободряющим и укрепляющим образом действующие на одних людей, опасны и вредны для других.
Ницше был не просто вдохновенным, экстатическим творцом, но дал одно из лучших описаний такого состояния, привлекательное глубиной, выстраданностью, живостью:
– Имеет ли кто-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли вдохновением? Если нет, то я это опишу. – Действительно, при самом ничтожном остатке суеверия в душе почти невозможно отказаться от представления, что являешься только воплощением, только мундштуком, только посредником сверхмощных сил. Понятие откровения, в том смысле, что внезапно, с невыразимой достоверностью и тонкостью нечто становится видимым, слышимым, нечто такое, что глубоко потрясает и опрокидывает человека, – только описывает факты. Не слушаешь, не ищешь; берешь – и не спрашиваешь, кто дает; будто молния сверкнет мысль, с необходимостью, уже облеченная в форму, – у меня никогда не бывало выбора. Восторг, неимоверное напряжение которого иногда разрешается потоком слез, восторг, при котором шаг то бурно устремляется вперед, то замедляется; полный экстаз, пребывание вне самого себя, с самым отчетливым сознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлажнений, охватывающих тело с головы до ног; глубина счастья, в которой самое болезненное и мрачное действует не как противоположность, а как нечто обусловленное, вынужденное, как необходимая краска среди такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, оформляющий обширные пространства, – протяженность, потребность в широком ритмическом охвате может почти служить мерой для силы вдохновения, как бы противовесом давлению и напряжению. Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в урагане ощущения свободы, безусловности, божественности, мощи… Самое замечательное в этом – непроизвольность образа, сравнения; утрачивается всякое понятие об образе, о сравнении, все дается как самое точное, самое верное, самое естественное выражение. Действительно, кажется, говоря словами Заратустры, будто предметы сами приходят к тебе и сами сочетаются в сравнения («Тут все предметы, ласкаясь, приходят в твою речь и льнут к тебе; ибо они хотят ездить на твоей спине. Здесь раскрываются перед тобой все слова и все ларцы слова; всякое бытие здесь хочет стать словом, всякое становление хочет учиться у тебя речи»). Вот мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что нужно вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет: и мой тоже.
Утонченность и экзальтация, основные черты натуры Ницше, придают жгучую пряность философии, до него казавшейся уделом нудной профессуры. Ницше выставлял напоказ то, что тщательно камуфлировали предшественники, – интеллектуальную инстинктивность, способность безоглядно броситься в пучину мгновенного увлечения, духовную ненасытность, страстность и неутомимость. В его философии перед нами открывается вся панорама человеческой души, так напоминающая природные стихии.
Хотя я не разделяю традиционную оценку философии Ницше как иррациональной – скорее, витальной, жизнеутверждающей, – рациональные критерии совершенно неприемлемы к мифотворчеству, параду масок, эйфории, жизненному порыву, болезни, пограничному состоянию, экзальтации – качествам, отличающим жизнь и творчество «пороговых людей», юродивых, аутсайдеров, «несчастнейших», иными словами, харизматических пророков, ощущающих в себе божественный голос.
Ницше – типичный «человек границы», прекрасно сознающий собственное пороговое положение-существование, свою амбивалентность, неустойчивость, отверженность, отчужденность, неприкаянность, внемирность…
Счастье моего существования, возможно, уникального, лежит в его судьбе: я существую еще, если это можно выразить в загадочной форме, в то время как мой отец уже умер, и подобно моей матери я еще живу и стал старым. Это двойное происхождение равным образом из более высокой и низкой лестницы жизни, одновременно Decadent и Anfang – это и есть то, что объясняет нейтральность, свободу от пристрастности по отношению к общим проблемам жизни, которые меня, возможно, характеризуют.
Ницше прекрасно осознавал особенности своего сознания: «Я – авантюрист духа, я блуждаю за своею мыслью и иду за манящей меня идеей». На самом деле он не шел, а бросался за ней сломя голову, невзирая на последствия…
Антигуманные и некрофильские фразы Ницше (скажем, человек – болезнь природы, смерть – праздник) неотрывны от жизненных обстоятельств поэта и его эпатирующего стиля мышления, болезненной страсти к «переоценке» ценностей. «Синтетическая» этика Ницше предельно далека от расхожей поляризации бытия на добро и зло, любовь и ненависть, да и нет. Мизантропия – один из ликов любви к человеку («Кто в сорок лет не стал мизантропом, тот никогда людей не любил»), пессимизм и антигуманизм – другая сторона человечности («Я люблю людей: и больше всего тогда, когда противодействую этому стремлению»).
При всей аффектации и склонности к крайностям, Ницше – сторонник беспристрастности («Для меня не должно быть человека, который вызывал бы у меня отвращение или ненависть»). Конечно, «ликующее чудовище», которое «после своих варварских подвигов гордо и с легкой совестью, точно после студенческой проделки, возвращается домой, даже не вспоминая, как оно резало, жгло, пытало, насиловало», – это не беспристрастность – скорее это уже психическая болезнь, – но, находясь вне пограничных состояний, Ницше умел усмирять протуберанцы, вырывающиеся из больного бессознательного и наличествующие в бессознательном вполне здоровом (смотри Фрейда!).
«Сострадание должно погибнуть», «оно патологично», «толкни падающего», «не щади ближнего», «твой друг – твой враг», «слабые и неудачники должны погибнуть» – все это символы-экстремумы, требующие не остракизма, но понимания контекста, дешифровки, деэкстремизации.
Война, агрессия, поединок отнюдь не выражение милитаризма Ницше – это символы его философствования, о чем прямым текстом сказано в «Ессе Ноmо»:
Моя практика войны выражается в четырех положениях. Во-первых, я нападаю на вещи, которые победоносны, – я жду обстоятельств, когда они будут победоносны. Во-вторых, я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один – где я только себя компрометирую… Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это мой критерий правильного образа действий. В-третьих, я никогда не нападаю на личности – я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого «образования» – так поймал я это образование на деле… Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на инстинкт двойственности нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых – с великими. В четвертых, я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подкладки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательности, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: «за» или «против» – это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, – самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства de rigueur[17]17
Необходимый, обязательный (франц.).
[Закрыть], далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.
Было бы большой ошибкой представлять Ницше только как стихийного бунтаря, ниспровергателя, нигилиста, разрушителя существующих ценностей. Он сам неоднократно признавался, что испытывал невообразимый ужас от каждого своего прикосновения к новому, открывающемуся ему знанию. Я вполне допускаю, что будь «как все», не открывай «новых миров», не слышь грозного голоса: «познай или погибни!» – он остался бы «благонамеренным и покорным», чуждым терзания и мук, эврименом, каковым, если признаться, является «население», все мы, добропорядочные…
Ницше признавался, что и сам он, бывая на людях, думает, как все. Только наедине с собой он чувствовал свою мысль свободной. Не потому ли искал уединения? И на этот вопрос дал ответ – сам: «В одиночестве ты сам пожираешь себя; на людях – тебя пожирают многие: теперь – выбирай!»
Нонконформизм проявился очень рано. Настоящий немецкий бурш, весельчак, любитель песен и прогулок верхом в двадцатилетнем возрасте внезапно призывает студенческую корпорацию отказаться от табака, пива, бездумных пирушек, «времяпрепровождения». Реакция очевидна. Вся жизнь Ницше – это уход, отказ, утрата, усиливающееся одиночество. Он как бы сознательно отрезал себя от мира, вся его жизнь – вызов. Единственно, что мне непонятно, так это был ли эпатаж результатом самоизоляции, или самоизоляция – следствием тотальной переоценки общепринятого.
«Стройте жилища у подножия Везувия!» – не было красным словцом, Ницше действительно стремился к краю вулкана, тяготел к риску, искал опасности, бросал вызов, не боялся «все потерять и все начать сначала», говоря словами Киплинга. Он и был киплинговским конкистадором в сфере духа.
Модернизм «молодого льва», пронесенный им до ухода в ночь безумия, выросший из огромной личной культуры, проявлялся не столько в отрицании, сколько в отказе от общепринятого, исхоженного, истоптанного другими. Как это свойственно всем модернистам, он отказался даже от своего прошлого, от своих первых произведений, от собственного профессорства:
Юмор моего положения в том, что меня будут путать – с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!
Ничто не диссонирует с личностью «последнего ученика Диониса» сильнее, чем его базельское «профессорство»: «Попасть из единственно уместной (в личном плане) монашеской кельи в университетскую аудиторию, да еще в маске «профессора», – право, «музыкант», сидящий в Ницше (в сущности внутренний censor vitae), должен был бы зажать уши от этого диссонанса».
Насколько бедна событиями его внешняя жизнь, лишенная впечатляющих событий и бурь, настолько бурной была жизнь внутренняя. Перед нами типичный интроверт, забившийся в свою нору единственно для того, чтобы будоражить свое глубинное «я». Одиночество – главный ландшафт его жизни, необходимый для самососредоточения, для написания картины внутренней жизни, для проговаривания тех монологов, какими, в сущности, являются его собрания афоризмов.
Ницше – один из самых интровертированных писателей, давший в своих произведениях исчерпывающую характеристику самому себе. Из его самонаблюдений можно составить очень точный психологический портрет человека, для которого большая часть мира находится не вовне, а внутри него:
Я ясновидящий, но совесть моя неумолимо освещает мое предвидение, и я сам воплощенное сомнение.
В Германии жалуются на мою «эксцентричность». Но поскольку никто не знает моей сущности, то очень трудно разобраться в том, где и когда мне случается быть эксцентричным.
Я совершенно не могу приспособиться к реальной жизни. Когда я не могу забыть обо всех окружающих меня мелочах, они угнетают меня.
Но худшим врагом, какого можешь ты только встретить, всегда будешь ты сам… Ты будешь для себя и еретиком, и ведьмой, и предсказателем, и глупцом, и сомневающимся, и нечистым, и злодеем. Ты должен сгореть на своем собственном пламени: как хочешь обновиться ты, не обратившись прежде в пепел?
Тот, кто может хоть отчасти угадать, к каким последствиям ведет всякое глубокое подозрение, кому знакомы ужас и холод одиночества, на которое обрекает нас всякое безусловно отличное от общепринятого мировоззрение, тот также поймет, как часто приходилось мне, чтоб излечиться от самого себя, чтоб хоть на время забыться, искать себе убежища в благоговении пред чем-нибудь, во вражде, в научности, в легкомыслии, в глупости; и почему я в тех случаях, когда не находил того, что мне нужно было, искусственно добывал его себе – пускался на фальсификации, выдумывал (а что другие делали поэты? И зачем вообще существует искусство?).
Во мне нет ни одной болезненной черты; даже во времена тяжелой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моем существе черту фанатизма.
Я знаю только одно отношение к великим задачам – игру: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле – все это будет возражением против человека и еще больше – против его творения!..
Одна из основополагающих идей Ницше, прошедшая мимо внимания большинства исследователей, связана с личностным характером философии: «…Я в каждой системе хочу выделить лишь то, что составляет часть личности». «Личность» – трагедия, событие, то, что совершается, то, в чем бытийcтвует истина и проявляется бытие. Не поняв личности, мы не поймем философию.
Философия – только исповедь, только точка зрения, только личное видение, «не то, что нужно найти, но то, что нужно создать».
Всякая великая философия представляла до сих пор самопризнание ее творца и род невольных, бессознательных мемуаров. Сознательное мышление даже у философа в большей своей части ведется и направляется на определенные пути его инстинктами. И позади всякой логики и кажущейся самопроизвольности ее движения стоят оценки – точнее говоря – физиологические требования сохранения определенного рода жизни.
Ницше многократно подчеркивал, что относит самого себя к тому психологическому материалу, из самонаблюдения которого черпаются наисубъективнейшие идеи.
Надо иметь в виду, что «психологическим материалом» было собственное дионисийство, или, как определил он сам, вакхическое начало: «таинственное слияние скорби и восторга, нанесение себе ран и поклонение себе как божеству – та высочайшая напряженность чувств, в которой все контрасты взаимно обусловливаются и взаимно поглощаются».
Он был рожден, чтобы стать психологом, и психология была его доминирующей страстью; в сущности, познание и психология у него одна и та же страсть, и ничто так не свидетельствует о внутренней противоречивости этой великой и страждущей души, всегда ставившей жизнь выше науки, как ее самозабвенная, беззаветная приверженность к психологии. Ницше был психологом уже в силу признания шопенгауэровского тезиса о том, что не интеллект порождает волю, а, наоборот, воля порождает интеллект, что воля есть первичное и главенствующее, между тем как интеллект играет по отношению к ней роль чисто служебную, второстепенную. Интеллект как подсобное орудие воли – исходная точка всякой психологической теории, всякой психологии, видящей свою цель в обличении и в «подозрении»; и естественно, что Ницше, апологет жизни, бросается в объятия психологии морали.
Главные черты Ницше-писателя – бескомпромиссность, предельная смелость, безоглядность, абсолютная честность, неприспособляемость. Приспособляемость – страшная сила, – пишет он другу, – мы сразу много теряем, лишившись инстинктивного предубеждения против пошлости и низости обыденной жизни.
Там, где покидает меня честность, я становлюсь слеп; там, где я хочу познать, я хочу быть честен, то есть строг, жёсток, жесток, неумолим.
Ницше – типичный экстремист собственной правды, буквально следующий принципу: «Fiat veritas, pereat vita»[18]18
Да свершится правда, пусть погибнет жизнь (латин.).
[Закрыть] – пусть осуществится правда даже ценой жизни. «Все мы готовы скорее согласиться на гибель человечества, чем на гибель познания». Это опасная доктрина, не раз подводившая человека, но в устах Ницше она обретает не тоталитарный оттенок, а отражает высшее устремление духа, вызов всему, «во что верили до сих пор как в святыню».
С. Цвейг:
Как у всякой демонической натуры, страсть – у него страсть к правдивости – постепенно превращается в мономанию и пожирает своим пламенем все достояние его жизни; как всякая демоническая натура, он в конце концов не видит ничего, кроме своей страсти. Поэтому пора наконец раз навсегда оставить школьные вопросы: чего хотел Ницше? что думал Ницше? к какой системе, к какому мировоззрению он стремился? Ницше ничего не хотел: в нем наслаждается собой непреодолимая страсть к правде. Он не знает никаких «для чего?»: Ницше не думает ни о том, чтобы исправлять или поучать человечество, ни о том, чтобы успокоить его и себя; его экстатическое опьянение мышлением – самоцель, самоупоение, вполне своеобразное, индивидуальное и стихийное наслаждение, как всякая демоническая страсть. Это неимоверное напряжение сил никогда не было направлено на создание «учения» – он давно преодолел «благородное ребячество начинающих – догматизирование» – или на создание религии. «Во мне нет ничего напоминающего основателя религии. Религии – дело черни». Ницше занимается философией как искусством, и потому, как истинный художник, он ищет не результата, не холодной законченности, а только стиля, «крупного стиля в этике», и, вполне как художник, он живет и наслаждается всем трепетом внезапных откровений.
Неустрашимость честности и правдивости – один из ключей к личности человека, свято соблюдавшего заповедь: «Останься чист». «Предельная чистота во всем» – даже не нравственная догма Ницше, но первичное условие существования: «Я погибаю в нечистых условиях». «Мне свойственна совершенно сверхъестественная возбудимость инстинкта чистоты – в такой мере, что я физиологически ощущаю – обоняю – близость или тайные помыслы, внутренности всякой души».
«Раssio nuova[19]19
Новая страсть (итал.).
[Закрыть], или Страсть к справедливости» – гласит заглавие одной из задуманных в юности книг Ницше. Он так и не написал ее, но – и это нечто большее – он воплотил ее в жизнь. Ибо страстная правдивость, фанатическая, исступленная, возведенная в страданье правдивость – вот творческая, эмбриональная клетка роста и превращений Фридриха Ницше…Но всякая борьба за недостижимое возвышается до героизма, а всякий героизм неумолимо приводит к своему священному завершению – к гибели.
Такое фанатическое стремление к правдивости, такое неумолимое и грозное требование, какое ставил Ницше, должно неизбежно вызвать конфликт с миром, убийственный, самоубийственный конфликт. Природа, сотканная из многих тысяч разнородных элементов, с необходимостью отвергает всякий односторонний радикализм. Вся жизнь в конечном счете зиждется на примирении, на компромиссе (и Гёте, который так мудро повторил в своем существе существо природы, рано понял и воспроизвел этот закон). Для того чтобы сохранить равновесие, она, как и люди, нуждается в равнодействующих, в компромиссах, в соглашениях, в примирении противоречий. И тот, кто, живя в этом мире, ставит противное природе, абсолютно антропоморфное требование отказаться от поверхностности, от терпимости, примиримости, кто хочет насильственно вырваться из тысячелетиями сотканной сети обязательств и условностей – невольно вступает в единоборство с обществом и природой. И чем непримиримее индивид в этом требовании чистоты, тем решительнее ополчается против него действительность. Подобно Гёльдерлину, он хочет претворить в чистую поэзию эту прозаическую жизнь или подобно Ницше, внести «ясность мысли» в бесконечную путаницу земных отношений – всё равно это неблагоразумное, хоть и героическое требование означает мятеж против условности и быта и обрекает отважного борца на непроницаемое одиночество, на величественную, но безнадежную войну. То, что Ницше называет «трагическим умонастроением», эта решимость достигнуть крайних пределов чувства – переступает уже за грани духа в область судьбы и «порождает» трагедию.
Эмиль Фаге обнаружил связь учения Ницше с такими чертами его характера, как абсолютная правдивость, гордость, внутренний аристократизм: «Он был лоялен, ненавидел лицемерие… Наконец, из сочетания его лояльности и гордости родилась в нем неустрашимость мысли».
Неустрашимость мысли рождалась, прежде всего, из амбивалентного радостно-горестного чувства свободы. В письме к Ф. Овербеку Ницше сам называл себя «самым независимым человеком в Европе». Чтобы стать Дон Жуаном познания, необходимы были эти свобода и неустрашимость, которые своим происхождением обязаны высочайшей культуре – позиции, позволяющей, стоя на вершине «духа Европы», усвоив этот «дух», – бросить вызов наследию веков: «Я вобрал в себя дух Европы – теперь я хочу нанести контрудар».
Наши обвиняют Ницше в мегаломании, мании величия, крикливой саморекламе. Они хотели бы видеть человека, намерением которого было – ни много ни мало – переоценить все ценности, эврименом, середняком, одним из…
Конечно же, Ницше полностью отдавал себе отчет в масштабе своего творчества, знал диапазон собственной души и не без оснований искал себе место среди равных – Платон, Вольтер, Гёте, Будда… Знал он и о том, что скромность – не сестра таланта, а добродетель человека-термита, человека-саранчи.
К. А. Свасьян:
Читателя, воспитанного на усредненных представлениях о масштабе индивидуального и чересчур переоценивающего косметическую семантику скромности, эти заявления, пожалуй, смутят; но когда дело идет об объявлении войны тысячелетним ценностям и о переоценке всех ценностей, было бы более чем странным, если бы subjectum agens этой переоценки представился скромным «филологом» или «философом», неким «ufficiale tedesco», согласно одной из последних туринских масок Ницше. Заметим: все кривотолки и недоразумения, связанные с именем Ницше, коренятся именно здесь; в сознании среднего (да и не только среднего) европейца он и по сей день пребудет этаким моральным пугалом, от которого впору уберечь юные души.
Радикализм, экстремизм, безрассудность Отшельника Сильс-Марии были результатом его последовательного понимания вольтеровских слов: «Надо изречь истину и пожертвовать собою ради нее». Ницше действительно был безогляден: он писал так, как чувствовал, никогда не задумываясь о последствиях. Именно таким образом он понимал верность себе.
Ницше крайне обижало весьма распространенное среди немецких профессоров мнение о нем как разрушителе ценностей, безоглядном отрицателе. Сам он видел в себе только моралиста, глашатая доблестей, творца новых культов и новой душевной ясности. Но даже ближайшие его друзья не понимали этих его намерений.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































