Текст книги "Ницше"
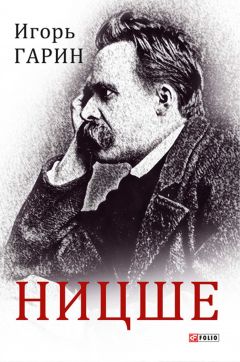
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Ницше не ощущал разрыв с Вагнером бесповоротным, окончательным. Плюралистически ориентированный мыслитель, он защищал право каждого человека говорить то, что он думает, полагая, что высказанная личная правда не должна вызывать разрыва с тем, о ком она сказана: «Такое прощание, когда люди расстаются потому, что по-разному думают и чувствуют, невольно опять ведет их к сближению, и мы изо всей силы ударяемся о ту стену, которую воздвигла между нами жизнь».
В начале 1879 года Элизабет Ницше написала Козиме Вагнер примирительное письмо. Была ли это ее личная инициатива, или за ее спиной стоял брат, мы не знаем. Козима ответила:
Я не говорю о «Человеческом, слишком человеческом»; единственное, о чем мне хочется вспомнить, когда я пишу тебе, это о том, что твой брат когда-то написал для меня несколько самых лучших страниц из всего, что я знаю. Я не сержусь на него; его сломили страдания, он потерял власть над самим собой, и этим объясняется его измена.
Этот год принес Ницше нечеловеческие страдания: страшную мигрень, рвоту, запоры, ознобы, спазмы, обмороки, желудочные боли, резкое ухудшение зрения. Врачи не смогли диагностировать болезнь, но высказали опасение в грозящем ему безумии. Он сам догадывался об этом. О поездке в Венецию, где он должен был встретиться с П. Гастом, не могло быть и речи. Ницше заперся в своей базельской комнате, тщательно изолировавшись от солнечного света. Немногие оставшиеся друзья были крайне озабочены его состоянием… Даже Вагнер выразил свое беспокойство и написал Овербеку письмо, выражающее участие и сострадание:
Могу ли я забыть о нем, моем друге, который с такою яростью покинул меня… Я ныне прекрасно понимаю, сколь нелепо требовать уважения от человека с такой разбитой и измученной душой, как у него. Надо умолкнуть и проникнуться состраданием. Меня очень угнетает то, что я ничего не знаю ни о его жизни, ни о его болезни. Не будет ли это нескромным, если я попрошу Вас присылать мне известия о нашем общем друге?
Вот как в «Ecce Homo» описывает свои чувства Ницше, впервые осознавший сразу два кризиса – человеческой культуры и собственной личности:
В тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности – я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время… я покинул профессуру в Базеле… Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности и, наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на… работу инстинкта вырождения – таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт…
Истинным опытом сверхчувствительного человека, обладавшего очень низким болевым порогом и привыкшего следить за малейшими функциональными изменениями своего тела, стало искушение в своем страдании найти пищу для собственной психологической любознательности, сделать самого себя «объектом эксперимента, лабораторным кроликом». Существует версия, согласно которой страдания великого диагноста культуры самоусиливались посредством собственной психики – пристального вслушивания в себя, сосредоточенности на себе:
Непрерывно, острым пинцетом – врач и больной в одном лице – он обнажает свои нервы и, как всякий нервный человек и фантазер, повышает их и без того чрезмерную чувствительность. Не доверяя врачам, он сам становится собственным врачом и непрерывно «уврачевывает» себя всю свою жизнь. Он испытывает все средства и курсы лечения, какие только можно придумать, – электрические массажи, самые разнообразные диеты, воды, ванны: то он заглушает возбуждение бромом, то вызывает его всякими микстурами. Его метеорологическая чувствительность постоянно гонит его на поиски подходящих атмосферных условий, особенно благоприятной местности, «климата его души».
В конце 1878 года Ницше окончательно убеждается в том, что состояние его здоровья абсолютно несовместимо с продолжением работы в университете.
Мое состояние – истинная мука и преддверие ада – этого я не могу отрицать. Вероятно, оно прекратится вместе с моими университетскими занятиями, может быть — с занятиями вообще…
Ничего мне не помогает, боль слишком сильна – все говорит: выноси, откажись! Увы – и терпение, наконец, надоедает. Нужно быть бесконечно терпеливым для того, чтобы терпеть!
Ницше выхаживали Овербек с женой, вызвавшие из Наумбурга Элизабет. Сестра немедленно приехала и с трудом узнала во внезапно сгорбившемся, осунувшемся, разбитом, постаревшем человеке брата. Перед ней был полуслепой инвалид, почти старик, которому еще не исполнилось 35 лет…
О работе не могло быть и речи. Ницше подал в отставку, и университет назначил профессору-пенсионеру ежегодную пенсию в размере трех тысяч франков. Состояние несчастного казалось безнадежным, он даже дал сестре указания на случай смерти, завещав похоронить его без пышной церемонии и с участием только ближайших друзей.
Вскоре после этого он оставил профессуру, и его навсегда охватило одиночество. Отказаться от своей преподавательской деятельности ему было тяжело – ведь это было в сущности отрешением от всякой дальнейшей специальной научной работы. Голова и глаза мешали ему с этих пор разрабатывать свои идеи путем научных занятий. Он сам называет себя «больным, который теперь, к сожалению, почти слеп и может читать лишь какие-нибудь четверть часа, и то с сильными страданиями».
Ночь окутывает теперь Ницше. Его прежние идеалы, его здоровье, его рабочая сила, его деятельность – все, что давало его жизни свет, яркость и тепло, – все одно за другим исчезало под развалинами. Началось для него время тьмы.
Чтобы вернуть брата к жизни, Элизабет увезла его в долину Верхнего Энгадина на юге Швейцарии. Брат и сестра поселились в местечке Сильс-Мария, окруженном поросшими лесом горами и маленькими голубыми озерами. Это был прелестный малонаселенный в ту пору уголок.
Мягкость и необыкновенная чистота воздуха успокаивают и умиротворяют его, а вид освещенных солнцем лугов благотворно влияет на его утомленное зрение. Ему нравятся разбросанные тут и там озера, напоминающие ему Финляндию, деревушки со звучными названиями, население с тонкими чертами лица, говорящими о близкой соседней Италии, по ту сторону ледников… «Здешняя природа родная мне, – пишет он Рэ. – Она меня не поражает; между мною и ею возникло какое-то взаимное доверие». Жизнерадостность выздоравливающего охватывает его; он пишет мало писем, но аккуратно ведет свои заметки, и теперь сведения о его жизни, которые раньше давала нам его переписка, мы можем получать из его произведений.
Здесь я засел и ждал, в беспроком сне,
По ту черту добра и зла, и мне
Сквозь свет и тень мерещились с утра
Слепящий полдень, море и игра.
И вдруг, подруга! я двоиться стал —
И Заратустра мне на миг предстал…
Одинокий скиталец
Покуда к тебе относятся враждебно, ты еще не превозмог своего времени: ему не положено видеть тебя – столь высоким и отдаленным должен ты быть для него.
Ф. Ницше
Несмотря на признаки выздоровления, Ницше все еще не уверен, что избежал смерти. Ему кажется, что времени почти не осталось и, несмотря на страдания и слабость, он не прекращает работу, исписывает тетрадь за тетрадью. В страшный для Ницше год им созданы две книги: «Пестрые мысли и изречения», продолжающие «Человеческое, слишком человеческое», а также «Странник и его тень». Пересылая рукопись последней книги П. Гасту, Ницше сопроводил ее письмом:
Может быть, Вам передастся то удовольствие, которое я сам сейчас испытываю при мысли, что мое произведение уже окончено. Кончается 35-й год моей жизни, «середина жизни», как говорили тысячу лет тому назад; именно в эти годы Данте посетили те видения, о которых он рассказал нам в своей поэме. Теперь и я достиг половины моей жизни, но со всех сторон на меня глядит смерть, и я ежечасно жду ее прихода, жизнь моя такова, что я вынужден ждать мгновенной смерти в припадке судорог[7]7
Намек на сумасшествие отца Ницше, умершего в этом возрасте.
[Закрыть]. И потому я чувствую себя очень старым, тем более что сознаю, что дело моей жизни я уже сделал.Мои постоянные жестокие страдания до сих пор не изменили моего характера. Наоборот, мне даже кажется, что я стал веселее, добродушнее, чем когда-либо. Откуда только берется эта укрепляющая и оздоравливающая меня сила? Конечно, не от людей, которые все, за исключением очень небольшого круга друзей, «возмутились против меня»[8]8
Библейская реминисценция – слова Иисуса Христа.
[Закрыть] и не стесняются дать мне понять о своем ко мне отношении. Прочтите, друг мой, мою рукопись от начала до конца, и сами посудите, обнаруживаются ли в ней какие-либо следы страданий и уныния. Я думаю, что нет, и эта уверенность дает мне право полагать, что в моих мыслях должна быть какая-то скрытая сила; вы не найдете в моей рукописи ни бессилия, ни усталости, которые будут отыскивать в ней мои недоброжелатели.
Хотя боль мало-помалу отпускала его, Ницше был уверен, что конец близок. 14 января 1880 года он написал г-же Мейзенбуг письмо, напоминающее духовное завещание:
Хотя мне строжайше запрещено писать, мне еще один раз хочется написать Вам, которую я люблю и уважаю, как любимую сестру. Это будет уже в последний раз, так как ужасные, непрекращающиеся муки моей жизни заставляют меня призывать смерть и некоторые признаки указывают мне на то, что я близок к последнему, спасительному припадку. Я уже так страдал, от стольких вещей отказался, что, я думаю, во всем мире Вы не найдете такого аскета, который мог бы со мной сравниться и чья жизнь была бы похожа на мою жизнь в течение этого последнего года. Но тем не менее я многого достиг. Моя душа приобрела много мягкости и нежности, и для этого мне не понадобилось ни религий, ни искусства. (Вы замечаете, я немного горжусь этим, мне нужно было дойти до полного изнеможения, чтобы найти в самом себе тайный источник утешения.) Я полагаю, что настолько хорошо сделал дело своей жизни, насколько мне позволило время. Но я знаю, что многим людям я дал надежду, что благодаря мне многие обратились к более высокой, чистой и светлой жизни. Я хочу дать Вам несколько разъяснений: когда мое «человеческое я» перестанет существовать, это именно и скажут. Никакое страдание не могло и не может совратить меня к ложному осуждению жизни, такой, какой я ее знаю.
Я всегда с неизменною благодарностью думаю о Вагнере, так как знакомству с ним я обязан наиболее сильным стремлением к духовной свободе. Мадам Вагнер, как Вы сами знаете, самая симпатичная женщина, которую я когда-либо встречал. Но отношения наши кончены, а я не из числа тех людей, которые связывают порванные нити, теперь уже слишком поздно.
Примите, мой дорогой друг, сестра моя, привет молодого старика, для которого жизнь не была жестокой, но который все-таки вынужден желать смерти.
Хотел было написать: Ницше выжил – но это было бы неверно. Ницше внушил себе, что должен умереть, и ждал смерти, которая не знала, что ее поджидают. У меня есть подозрение, что страдания свои этот чувствительнейший из людей несколько преувеличивал, ибо для тонких, нежных душ они всегда безмерны. Ницше считал, что завершил дело своей жизни, не подозревая, что главные произведения, благодаря которым он войдет в историю человеческого духа, всё еще впереди.
В феврале 1880-го, почувствовав возвращение жизненных сил, он направился в Италию, куда его давно звал П. Гаст. После месячного отдыха в Лаго ди Гарда он приехал в Венецию, сразу очаровавшую его. Здесь он окончательно убедился, что пугал себя смертью и что силы вновь к нему вернулись. Письма родным из Италии полны надежд и радости выздоровевшего. «Красота Венеции приносит ему освобождение, и он с улыбкой вспоминает о своей прежней тоске». Время пребывания на Адриатике скрашивает Петер Гаст, сопровождавший старшего друга в его прогулках, читавший ему вслух, игравший любимые музыкальные вещи и вообще исполнявший секретарские обязанности.
Судя по всему, именно здесь, в Венеции, Ницше осознал существование силы, ставшей затем ключевым понятием его философии, – воли к могуществу (обычно употребляемое выражение «воля к власти», как мне кажется, хуже передает смысл того, что вкладывал в это понятие Ницше). Убедив себя, что ему удалось вернуться оттуда, Ницше пришел к заключению, что жизнь обладает свойством самосохранения, расширения, роста. Ее силы безграничны, она стремится ко все новым завоеваниям. Ее трудно уничтожить из-за огромного сопротивления жизни. Ницше еще не знал, как определить сделанное им открытие, и продиктовал П. Гасту:
Наши поступки никогда не бывают тем, чем кажутся. Громадного труда стоило нам понять, что внешний мир вовсе не таков, как нам кажется. То же можно сказать и о внутреннем мире. В действительности наши поступки «нечто иное» – большего сейчас сказать мы не можем, и существо их пока остается неизвестным.
В Италию пришла жара, и Ницше уехал долечиваться в Мариенбад – на воды. Он уже давно подозревал, что его здоровье сильно зависит от климата – температуры, ветра, сырости, тумана. Заложник природных условий, он отныне обречен на вечное бегство в поисках места на земле, которое бы в данный момент соответствовало его иллюзорному идеалу природы. М. Пруст, задыхаясь от удушья, изолировал себя в пробковой комнате, Ф. Ницше метался между горами Швейцарии, Наумбургом, «водами», Лазурным берегом Франции и излюбленными местами Италии – Сорренто, Генуя, Венеция, Лигурийское побережье…
Проследить маршруты метаний Ницше за десятилетие, предшествовавшее безумию, задача не из легких. Зимой и осенью – Капри, Стреза, Генуя, Рапалло, Мессина, Рим, Ницца, Рута, Турин, летом – Сильс-Мария, Наумбург, Базель, Люцерн, Грюневальд, Лейпциг, пансионы, мансарды, крестьянские дома, самые дешевые харчевни, trattorie, убого меблированные холодные комнаты…
…Редкие одинокие прогулки, спасавшие от бессонницы ужасные средства – хлорал, веронал и, возможно, индийская конопля; постоянные головные боли; частые желудочные судороги и рвотные спазмы – 10 лет длилось это мучительное существование одного из величайших умов человечества.
К этому следует добавить – существование нищенское, вынуждавшее его довольствоваться самыми дешевыми комнатами и самым дешевым питанием, что также не могло не сказаться на его здоровье. Но и на это денег часто не хватало…
И вот он снова в маленькой, тесной, неуютной, скудно обставленной chambre garnie; стол завален бесчисленными листками, заметками, рукописями и корректурами, но нет на нем ни цветов, ни украшений, почти нет даже книг, и лишь изредка попадаются письма. В углу тяжелый, неуклюжий сундук, вмещающий всё его имущество – две смены белья и второй, поношенный костюм. А затем – лишь книги и рукописи, да на отдельном столике бесчисленные бутылочки и скляночки с микстурами и порошками: против головных болей, которые на целые часы лишают его способности мыслить, против желудочных судорог, против рвотных спазм, против вялости кишечника… Грозный арсенал ядов и снадобий – его спасителей в этой пустынной тишине чужого дома, где единственный его отдых – в кратком, искусственно вызванном сне. Надев пальто, укутавшись в шерстяной плед (печка дымит и не греет), с окоченевшими пальцами, почти прижав двойные очки к бумаге, торопливой рукой часами пишет он слова, которые потом едва расшифровывает его слабое зрение. Так сидит он и пишет целыми часами, пока не отказываются служить воспаленные глаза: редко выпадает счастливый случай, когда явится неожиданный помощник и, вооружившись пером, на час-другой предложит ему сострадательную руку.
И эта chambre garnie – всегда одна и та же. Меняются названия городов – Сорренто, Турин, Венеция, Ницца, Мариенбад, – но chambre garnie остается, чужая, взятая напрокат, со скудной, нудной, холодной меблировкой, письменным столом, постелью больного и с безграничным одиночеством. И за все эти долгие годы скитания ни минуты бодрящего отдыха в веселом дружеском кругу, и ночью ни минуты близости к нагому и теплому женскому телу, ни проблеска славы в награду за тысячи напоенных безмолвием, беспросветных ночей работы.
Отныне здоровье Ницше находилось в состоянии крайне шаткого равновесия: каждая мысль, каждая страница будоражили его, грозили опасностью срыва. Больше всего теперь он дорожил немногими хорошими днями, каникулами, предоставленными ему болезнью. Каждый такой день он воспринимал как дар, как спасение. Уже с утра он задавался вопросом, что принесет ему новое солнце.
При первых лучах солнца я ухожу на одинокий утес, омываемый волнами и, вытянувшись на нем под зонтиком во весь рост, как ящерица, лежу и вижу перед собой только море и чистое небо.
Перед моими глазами расстилается море, и я могу забыть о существовании города. Далекие колокола звонят Ave Maria, и до меня доносятся на грани дня и ночи эти грустные и немного нелепые звуки; еще минута и все смолкает! Отчего не может говорить это бледное, еще светящееся от солнца море! Окрашенные в самые тонкие неуловимые цвета, облака пробегают по небу на фоне ежедневно повторяющейся вечерней зари; и небо тоже молчит. Небольшие утесы и подводные камни скрылись в море как бы в поисках последнего убежища. Все молчит, все лишено дара слова. Душа моя растворяется в этом подавляющем, красивом и жестоком молчании.
Болезнь совершенно не затронула интеллектуальной мощи «последнего ученика Диониса». Может быть, даже обострила ее. В центре его внимания – проблема человеческой энергии, источник побуждений и желаний. Он много размышляет об истоках морали, о связи нравственности и свободы, о конкуренции человеческих воль. Он приходит к выводу, что человек свободный хочет зависеть только от самого себя, а не от условностей общества или традиций. Высшим авторитетам, традициям, пишет он, повинуются не потому, что они велят нам полезное, а просто потому, что велят. Традиция правит миром исключительно как сила, а не как истина. Поступок, нарушающий традицию, выглядит безнравственным, даже если в его основе лежат мотивы, положившие начало традиции.
Ницше работает над новой книгой – «Утренней зарей». Он с трудом переписывает рукопись – дрожат руки, почти не видят глаза… Зрелость пришла к Ницше как раз в период его болезни. Отныне болезнь будет воровать у него 200 и больше дней в году. Он признается, что «Утреннюю зарю» сочинял с минимумом сил и здоровья. У него кончались силы, но то, что выходило из-под его пера, было прекрасным…
Куда мы идем? Хотим ли мы отправиться за море? Куда влечет нас эта всемогущая страсть, подчиняющая себе все наши другие страсти? Зачем этот отчаянный полет по направлению к той точке, в которой до сих пор «склонялись и гасли» все солнца? Возможно, о нас тоже скажут в один прекрасный день, что, правя рулем на запад, мы надеялись достичь неизвестного пути в Индию, но что наша судьба состояла в том, чтобы погибнуть пред бесконечностью. Но куда же, друзья мои, куда же?
Работая над «Утренней зарей», Ницше ставил себе цель «безраздельно отдаться» одной из открывшихся ему бесчисленных идей, выразить ее с присущей ему силой.
Главная мысль «Утренней зари», которую с равным правом Ницше мог бы назвать «Великим полднем», – не столько даже отказ от морали самоотречения, сколько – от навязанной свыше морали, от абсолютной морали, от необходимости веры в незыблемые категорические императивы. Это книга о происхождении моральных ценностей, о проблеме, которую Ницше считал определяющей для грядущего человечества:
Требование, чтобы верили, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в Божественном руководстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесенное обратно в реальность, есть стремление не дозволить раскрыться истине…
Объясняя происхождение и настроения «Утренней зари», Ницше писал:
В этой книге вы видите подземного человека за работой – как он роет, копает, подкапывается. Вы видите, если только ваши глаза привыкли различать в глубине, как он медленно, осторожно, с кроткой неумолимостью идет вперед, не слишком выдавая, как трудно ему так долго выносить отсутствие света и воздуха; можно, пожалуй, сказать, что он доволен своей темной работой. Начинает даже казаться, что его ведет какая-то вера, что у него есть свое утешение… Ему, может быть, нужна своя долгая тьма, ему нужно свое непонятное, таинственное, загадочное, ибо он знает, что его ждет свое утро, свое избавление, своя заря.
«Утренней зарей» Ницше, по собственному признанию, начинает поход против морали, хотя во всей книге «не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости». Это действительно солнечная книга, страницы которой отражают яркий свет Генуи, моря, выловленных из морских пучин «тайн».
«Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» – скрытый, заимствованный у индусов символ «переоценки всех ценностей», начатой в этой книге. Ницше теперь видел свою цель в утверждении и доверии «ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали».
Эта утверждающая книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на одни дурные вещи, она возвращает им снова «душу», чистую совесть, право, преимущественное право на существование. На мораль не нападают, ее просто не принимают более в расчет… Эта книга оканчивается словом «или?» – это единственная книга, которая оканчивается словом «или?»…
Необычна уже сама увертюра к книге: «Шутка, хитрость и месть» – мастерский зингшпиль в 63 крохотных актах, настоящий шедевр дидактических капризов и притворствующих «моралите», окунающий саму мораль в посвистывающую уленшпигелевскую стихию немецкого языка и демонстрирующий скандальное – на этот раз – рождение пародии из духа музыки. Характерная и более чем психологическая параллель: Моцарт, пишущий Папагено уже на смертном одре и даже напевающий его в бреду; послушаем же теперь, как рождался этот Папагено: «Непрекращающаяся боль; многочасовые приступы дурноты, схожие с морской болезнью; полупаралич, во время которого у меня отнимается язык, и для разнообразия жесточайшие припадки, сопровождаемые рвотой (в последний раз она продолжалась три дня и три ночи, я жаждал смерти)» (Письмо к Отто Эйзеру в январе 1880 г.). Это уже нечто совсем закулисное и неинсценируемое – так окупаемая веселость: некий род адской расплаты за «искусственный рай» сверхчеловечности – расплаты, которая, впрочем, всякий раз оборачивается неожиданной провокацией к новой книге: «Говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории…»
«Веселая наука», написанная зимой 1881/82 года, продолжает линию «Утренней зари». С этой книги берет свое начало то, что часто называют нигилизмом Ницше: «Я вобрал в себя дух Европы – теперь я хочу нанести контрудар». Воистину автор книги – «поле битвы» и одновременно возвышенный мир тончайших переживаний. Именно на страницах этой самой жизнерадостной, наполненной карнавальным роскошеством, книги впервые появляется на свет человек будущего, или сверхчеловек, Фридриха Ницше.
Декларируя главные идеи книги, напоминающей читателю об искусстве провансальских трубадуров, автор на первые места ставит красоту и абсолютное приятие жизни такой, какова она есть:
Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить. Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum. Сегодня каждый позволяет себе высказать свое желание и заветнейшую мысль; что ж, и я хочу сказать, чего бы я желал сегодня от самого себя и какая мысль впервые в этом году набежала мне на сердце – какой мысли сподобилось стать основой, порукой и сладостью всей дальнейшей моей жизни! Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу вести никакой войны против безобразного. Я не хочу обвинять, я не хочу даже обвинителей. Отводить взор — таково да будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу однажды быть только утвердителем!
На место принципа «искусства для искусства» в «Веселой науке» ставится «искусство для художника», то есть мощь творческого начала, право творца создавать собственную действительность. Творчество здесь объявлено прежде всего жизнетворчеством, высшим проявлением дионисийской стихии, в которой сливаются радость и скорбь, наслаждение и ужас как способы освобождения художника от юдоли страдания и зла. «…Художник спасается от этого мира путем изображения его в символах, то есть путем созерцания, и то наслаждение, которое художник испытывает от созерцания, и служит для него искуплением мирового зла и страдания».
Кстати, русский символизм многим обязан «Веселой науке». Когда К. Д. Бальмонт в сборнике «Горные вершины» пишет, что «гармония сфер и поэзия ужаса – это два полюса красоты», а Вяч. Иванов открывает свой первый стихотворный сборник («Прозрачность») стихотворением «Красота», это можно рассматривать как дань эстетике Фридриха Ницше.
В «Веселой науке» мастерство самого Ницше достигает своего пика – «моцартовской виртуозности и творческой свободы». Филигранная отделка, великолепная образность, отточенность каденсов делают максимы самодостаточными шедеврами немецкой прозы.
Цель, декларируемая автором «Веселой науки», – возвышение человека, возвышение его духа, напоминание «о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур».
Это означало перемену в философском мышлении Ницше, смену маски; свободный дух входил в соприкосновение с искусством, свободным как от метафизики, так и от рабской привязанности к реальности, с музыкой юга, а также с рыцарской, возвышенной моралью. Философия понимается здесь как веселая наука, смеющаяся над позитивистской верой в эмпирическую данность, в факт как единственную основу знания о жизни, она – озорство духа, благословляющего себя и изготавливающегося к долгим и страшным решениям, веселость отбрасывает в сторону незыблемую уверенность науки и морали в непротиворечивости своих оснований; философия приближается к любящей маску игре, освобождающей знание от онтологизации и открывающей мыслящему уму игру самой жизни, а вместе с ней и новые горизонты жизни, скрытые для педантичного ума.
Апология жизни, игры, «веселой науки» (жизненного знания) противопоставлены здесь рациональному самоугнетению, серьезности, хмурости «воли к знанию». Рассудочности противопоставляется инстинктивность, дискурсии – жизненность. Свобода созидания несовместима с самоограничением или авторитетом, ибо последние свидетельствуют лишь об ослаблении инстинкта жизни. Жизнь расточительна, изобильна, могущественна. Эти ее качества и необходимо использовать творцам «веселой науки».
К. А. Свасьян считает, что «Веселой науке» принадлежит исключительное место в творчестве Ницше, «как самой открытой и вместе с тем самой секретной из всех книг Ницше, к тому же самой срединной («средиземноморской»), так как соединяющей в себе период тактической подготовки (первые четыре книги) с периодом бесповоротно перейденного Рубикона (пятая книга, открывающаяся эпиграфом из маршала Тюренна)». Здесь имеется в виду переход от первого боя Ницше («Рождение трагедии») к тотальной войне, объявленной прошлой культуре в конце жизни («По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали», «Сумерки кумиров», «Антихрист», «Ессе Ноmо» и др.)
«Веселая наука» – дальнейшая радикализация философии Ницше. Она перебрасывает мост от эпикурейского сада «Человеческого, слишком человеческого» к нонконформизму и катастрофизму последних книг:
Говоря символически: если в «Человеческом, слишком человеческом» речь шла о своего рода психоаналитическом разоблачении юношеского идеализма с предоставлением роли главного консультанта Вольтеру, то здесь уже ревизии подвергается сам Вольтер. Иначе: Вольтер, взятый в союзники против испорченной вагнерианством «грандиозной греческой проблемы», и Вольтер в роли сделавшего свое дело мавра… речь шла о задачах, «которые и не мерещились Вольтеру».
Эта алхимия внутренних превращений приходится как раз на период создания «Веселой науки». Ницше называл ее комментарием к «Заратустре», написанным до текста; таков, можно сказать, ее «реалистический» аспект (ante rem), но позволительно учесть и «номиналистический» (post rem), где она оказывается своего рода комментарием к уже написанному тексту, собственно к «Человеческому, слишком человеческому», символически – все к тому же вольтерьянскому оскалу, сюрреалистически прорезавшемуся сквозь «лица необщее выражение» недавнего Зигфрида и вагнеровского «верного Личарды».
Модуляция и тональность «Веселой науки» прокидывала уже мост от подобной подглядывающей оптики «человеческого, слишком человеческого» к провидческой оптике «сверхчеловеческого», в идеале – «слишком сверхчеловеческого»; сама раздвоенность книги безошибочно фиксирует перевал, существенный для всего ницшевского мировоззрения: от «человеческого, слишком человеческого» к «сверхчеловеческому, слишком сверхчеловеческому» — в сущности, от вольтерьянски-сент-бёвской парадигмы первого «слишком» к крестным мукам второго.
В «Веселой науке» бытие впервые истолковывается Ницше как «вечное возвращение того же самого»: «Песочные часы бытия, отмеряющие вечность, будут переворачиваться снова и снова, и ты вместе с ними, мелкая песчинка, едва отличимая от других!»
Во фрагменте «Безумный человек» впервые возникает тема «смерти Бога». Ставя диагноз глубинной ситуации эпохи, покинутой Богом, Ницше выражает уверенность, что ныне человеку представляется возможность вступить в пору совершеннолетия. На место авторитета Бога и церкви приходит авторитет разума и совести. Сверхчувственный мир идей должен уступить свободной человеческой деятельности. Эпоха Платона кончилась, начинается эпоха «веселой науки», «ужасных истин», которые предстоит мужественно открыть человеку.
Пятая книга «Веселой науки» написана уже после создания «Заратустры». Соответственно меняется и тематика – преодоление кризиса европейской цивилизации, дальнейшее развитие идей воли к могуществу и вечного возвращения. Это – прелюдия к последним работам философа, посвященным проблеме всех ценностей, созданных европейской культурой.
«Утреннюю зарю» принял один Пауль Рэ, среди публики успеха она не имела. Немецкая публика не привыкла к книге фрагментов, воспринимаемых приученными к логике буршами как нагромождение, хаос. Впрочем, холодный прием, к которому Ницше уже привык, не обескуражил его. Он воспротивился даже приезду лучшего друга, выразившего желание лично выразить свой восторг, потому что был одержим новой идеей и не мог терять даром ни одной минуты. Этой идеей стала мысль о вечном возвращении. Это случилось летом – 1881-го. Он давно предчувствовал близость откровения, которое пришло к нему во время прогулки в окрестностях Сильс-Марии. Он присел отдохнуть у подножья скалы, и тут-то его осенило…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































