Текст книги "Ницше"
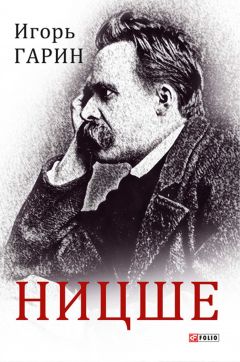
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
Гёте совмещал в себе силу, высокое образование, физическую ловкость; он умел сдерживать себя, умел по заслугам уважать себя; он мог позволить себе пользоваться естественностью во всем ее объеме и изобилии – его мощь давала ему на то право.
Гёте – последний немец, перед которым я преклоняюсь; его отношение к трем жизненным явлениям одинаково с моим; мы сходимся с ним и во взгляде на «страдание».
Такой ставший свободным дух стоит с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверждается, – он не отрицает более… Но такая вера – высшая из всех возможных вер: я окрестил ее именем Диониса.
Гёте и Ницше почти всегда говорили об одном: «Где первый как бы случайно приподнимает уголышек завесы, обнаружив глубину, второй старается выбросить глубину на поверхность…»
Мудрость Ницше на более углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания можно определить как стремление к теургии. И отдельные места этой мудрости явно сквозят теургизмом.
По мнению Свасьяна, Гёте задал ход мысли «Несвоевременных размышлений»: «Тон задан уже самим началом книги, исконно гётевским ceterum censeo, звучащим словно некий камертон, по которому будет настраиваться весь умозрительный оркестр рефлексии». Здесь речь идет не о воздействии определенных текстов, но влиянии духа, мировоззрения Гёте в целом: «…гётеанизм второго «Несвоевременного» производит ошеломляющее впечатление, прежде всего в срезе судеб становления мысли самого автора».
…Маяк Гёте никогда не переставал светить этому одинокому Колумбу познания, – присутствием Гёте овеяны практически все его поздние сочинения. Рудольф Штейнер, познакомившийся с этими сочинениями в год роковой болезни Ницше, был поражен сродством их с собственными работами (тогда еще исключительно гётеведческими, но в перспективах гётеанизма XX в.): «Независимо от него и на иных путях, чем он, пришел я к воззрениям, созвучным с тем, что высказал Ницше в своих сочинениях «Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали» и «Сумерки кумиров». Уже в моей вышедшей в 1886 г. маленькой книге «Теория познания гётевского мировоззрения» выражены те же взгляды, что и в названных трудах Ницше».
Гёте – величайший германский предтеча «последнего ученика Диониса»: помимо огромного количества прямых «пересечений», в его творчестве можно обнаружить мотивы, придававшие смелости молодому дионисийцу. Гёте и сам был дионисийцем, в котором «стучала кровь», который всегда считал мир гениальнее своего гения и видел в античности не только пропорции, но и стихию: «…Мы желаем брать у античности неизмеримое». Многие его мысли сегодня вполне читаются как ницшеанские:
Мои работы не что иное, как сохраненные радости и страдания моей жизни.
Кто хочет быть всеобщим, не делается никем…
Лучшая радость – жить в самом себе.
Суха, мой друг, теория везде,
А древо жизни пышно зеленеет!
Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником.
Гёте видел неискоренимость борьбы, страдания, трагедии и, упреждая Ницше и вагнеровского Вотана, писал: «Где буйные силы клокочут, открыто зову я к войне».
Гёте предвосхитил Ницше идеей первичности жизни, ее самоценности и самодостаточности: «Жизнь существует просто для того, чтобы ее прожить». Ницшеанство – философия жизненности, заимствованная у Гёте. Всё, что хотел сказать Ницше – сверхчеловеком, Заратустрой, «белокурой бестией», – это производность культуры, философии, религии, этики от жизни, от жизненной мощи и жизненного разума.
Х. Ортега-и-Гассет:
Открытие имманентных жизни ценностей, совершенное Гёте и Ницше (несмотря на чрезмерно зоологический язык последнего), было гениальным предвидением будущего, событием огромного значения – открытием этих ценностей, мироощущением целой эпохи. Провиденная, возвещенная гениальными авгурами эпоха наступила – это наша эпоха.
О, как был бы он счастлив, если бы знал, что «Гёте» означает: «изливающий», «производитель», «жеребец», «самец».
Ницше пошел дальше. Он не просто позаимствовал у Гёте имморализм, не просто выставил трагедию напоказ, но утвердил превосходство могущества жизни, вскрыл творческое начало борьбы для развития жизни.
Неумолимый инквизитор, безжалостно допрашивает он свою совесть о каждом своем убеждении и переживает испански-мрачное, сладострастно-жестокое наслаждение при виде бесчисленных аутодафе, пожирающих убеждения, которые он признал еретическими. Постепенно влечение к самоуничтожению становится у Ницше страстью: «Радость уничтожения сравнима для меня только с моей способностью к уничтожению». Из постоянного превращения возникает страсть противоречить себе, быть своим собственным антагонистом: отдельные высказывания в его книгах как будто намеренно сопоставлены так, чтобы одно опровергало другое; страстный прозелит своих убеждений каждому «нет» противопоставляет «да», каждому «да» – властное «нет»; бесконечно растягивает он свое «я», чтобы достигнуть полюсов бесконечности и электрическое напряжение между полюсами ощутить как подлинную жизнь.
«Душа, убегающая от самой себя и настигающая себя на самых дальних путях».
У Ницше огромное количество точек соприкосновения с Гёте, и все-таки они взаимоисключительны: по стилю жизни, по характеру горения, по духовной эволюции. Жизнь все больше умудряет Гёте: пламенный юноша становится рассудительно-деятельным мужем, затем убеленным сединами схолархом: «Из революционера он становится консерватором, из лирика – ученым, самосохранение сменяет юношескую расточительность».
С. Цвейг:
Ницше идет обратным путем: если Гёте стремится к достижению внутренней прочности, плотности своего существа, то Ницше всё более страстно жаждет саморастворения: как всякая демоническая натура, с годами он становится всё более торопливым, нетерпеливым, бурным, буйным, хаотичным. Даже внешние события его жизни обнаруживают направление развития, противоположное обычному. Жизнь Ницше начинается старостью. В двадцать четыре года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, пьют пиво на корпорантских пирушках и устраивают карнавалы, Ницше – уже ординарный профессор, достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете.
Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого; его жизнерадостность замурована в старческую манию, его задор – в профессорское достоинство, его взор – в книги и научные проблемы. В двадцать семь лет «Рождением трагедии» он прорывает первую, пока еще скрытую штольню в современность; но автор еще не снимает строгую маску филолога, и лишь первые подземные вспышки намекают на будущее – первые вспышки пламенной любви к современности, страсти к искусству. В тридцать с лишним лет, когда нормально человек только начинает свою карьеру, в возрасте, когда Гёте получает чин статского советника, а Кант и Шиллер – кафедру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии.
Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность – трагический, несвоевременный Ницше, со взором, обращенным в будущее, с чаянием нового, грядущего человека. Он вступил на путь непрерывных молниеносных обращений, внутренних переворотов, резких переходов от филологии к музыке, от суровости к экстазу, от терпеливой работы к танцу. В тридцать шесть лет Ницше – философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант – переживает «лучшую юность», чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего, грядущего человека. Так годы развития, вместо того чтобы сообщить жизни художника устойчивость, прочность, целенаправленность, как это бывает обычно, с какой-то страстностью разрывают все жизненные отношения и связи. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В сорок лет язык Ницше, его мысли, всё его существо содержат больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в семнадцать лет, и отшельник Сильс-Марии шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец поступью, чем преждевременно состарившийся, двадцатичетырехлетний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает всё большую интенсивность: всё стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, всё злораднее и циничнее становятся его превращения.
А клейстовский «Гискар» – разве не символ силы, стоящий по ту сторону добра и зла? Разве самого Клейста, ненавидящего Наполеона, не соблазняла сила, не ищущая оправданий? А «живи опасно» – разве не от Клейста, для которого «жить с осторожностью – значит умереть, обратить во прах свою высшую жизненную силу»?
Кстати, слова «эвримен – фабричный товар природы» вполне могли быть навеяны Ницше чиновником Гофманом, сказавшим чуть иначе – Fabrikarbeiten, изделие фабричной работы.
А отношение к массе – ведь это от Рольфа, который говорил: «Природа повсюду жертвует массой».
Арндт, как у нас Достоевский или Вл. Соловьев, в своей «Речи о мире» заявлял, что войны необходимы, «потому что иначе мы погрузимся в ничтожность, изнеженность и лень». Арндт произнес слова, которые мы затем найдем у Ницше: Живи опасно: будь весел в смерти. Viva salvatoribus mundi! Vac victis![34]34
Слава спасителям мира! Горе побежденным! (Латин.).
[Закрыть]
Мы дали себя убаюкать и обмануть лжеучениями о чувствительном гуманизме и филантропическом космополитизме (так возвышенными иностранными словами называют это убожество), будто военной доблести мало, будто мужественность тупа и стойкость тягостна; полулень и бабские добродетели выставляются нами как высочайшие жизненные образцы – поэтому мы и ищем тщетно те прежние достоинства.
Ладно, пусть Арндт, Фихте, Ян – «предтечи фашизма», но разве Фридрих Шлегель не проповедовал в «Люцинде» иммораль как принцип проявления индивидуальности, разве не он положил в основу морали парадокс противостояния личности нормам пекуса? «Первым проявлением моральности является оппозиция по отношению к положительным законам и условной юрисдикции». Разве Шлейермахер теоретически не оправдывал индивидуализм, когда, «направляя взор к внутреннему «я», сразу оказывался в области вечного». Вильям Ловель, герой Тика, гордился тем, что меняется, как хамелеон, а Фауст боялся остановиться, чтобы не стать рабом. А гофмановский Дон Жуан? «Глубоко презирал он общепринятые житейские понятия, чувствуя себя выше их». А Медард, отведавший эликсир дьявола, – разве не провозвестник другого героя, Леверкюна, однажды испробовавшего эликсир любви?
В диком, бешеном веселье пляшем мы над раскрытыми могилами! Так будем же ликовать! Те, что спят здесь, не услышат нас. Веселее, веселее! Танцы, клики – это шествует дьявол с трубами и литаврами.
А Бетховен – певец оргийных таинств духа с его Durch Leiden Freude[35]35
Радость в страдании (нем.).
[Закрыть]?
А вся немецкая философия? Разве не Штирнер в «Единственном» во всеуслышание заявил: станьте эгоистами, пусть каждый из вас станет всемогущим «я».
Я вывожу всякое право и всякое правомочие из себя. Я имею право на все, что в моих силах. Я имею право изгнать Зевса, Иегову, Бога и т. д., если я могу это сделать.
Или:
Того, кто становится на моем пути, я пожираю, чтобы утолить голод моего эгоизма.
А Шеллинг со своим взятым у Горация девизом: «Ненавижу толпу невежд и держусь от нее вдалеке»? Разве его философия откровения не находится по ту сторону добра и зла? Разве не Шеллинг требует отбросить чуму морали, обратясь к вере, равно распространяющейся на доброе и злое.
И уж от кого нам не уйти, так это от духовного отца Ницше, правда, преданного сыном анафеме. Ведь именно Шопенгауэр, а не Неистовый Дионисиец стал Орфеем бессознательного, именно он внес в метафизику надрыв, экстаз, вдохновенность. Ницше унаследовал у Шопенгауэра слишком многое: психологичность, лиризм, личностность, благодаря которым даже самые сомнительные стороны его учения приобрели привлекательность. Философия жизни уже была немыслима без поэтичности. После Киркегора и Шопенгауэра нельзя было писать бесталанно, а Ван Гог языка, то бишь Ницше, возвел философию-поэзию в норму последующей мудрости: Сантаяна, Марсель, Мережковский, Соловьев, Бердяев, Шестов, Валери, Сартр, Камю, Ортега, Шоу, Голдинг…
Идею единства и борьбы аполлоновского и дионисийского начал жизни Ницше заимствовал у Шопенгауэра и Вагнера. Муки шопенгауэровской «воли» многими чертами напоминают искания художника Ницше, а вагнеровская демоническая музыка отражается в дионисийском духе метафизики Ницше. Пластические виды искусства (архитектура, скульптура, танец) отвечают аполлоновскому началу (фигуральное влечение духа), музыка – дионисийскому (нефигуральное влечение). Борьба двух начал – основа древнегреческой трагедии.
«Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра стал философским потрясением Фридриха Ницше в первый год обучения в лейпцигском университете. Он набрел на книгу в лавке букиниста. «Я не знаю, какой демон шепнул мне, чтобы я купил эту книгу. Придя домой, я с жадностью раскрыл приобретенную книгу, весь отдавшись во власть энергичного, мрачного, но гениального автора». Шопенгауэр сразу покорил неофита интеллектуальной красотой построений, тонким вкусом и широким размахом мысли. Ницше казалось, что книга написана и обращена именно к нему – так, во всяком случае, он воспринял слова об истине:
Я убежден, писал Шопенгауэр, что вновь открытая кем-либо истина или новый луч света, брошенный им на некую неизведанную область, могут поразить другое мыслящее существо и привести его в состояние радостного и вдохновляющего возбуждения; к нему обращается автор в эту минуту, с ним говорит, как это случается с родственными душами, успокаивающими нас в пустыне жизни.
Ницше буквально проглотил огромный фолиант, развенчивающий утопические химеры человечества и рисующий суровую и жестокую картину жизни. Его поразила мощь мировой воли, стоящей над разумом и управляющей миром. Как в дальнейшем не будет меняться отношение Ницше к Шопенгауэру, понятие воли войдет краеугольным камнем в его философию.
В течение нескольких недель Ницше живет этой книгой, спит несколько часов в сутки, буквально доводит себя до исступления. Идеи Шопенгауэра упали на благодатную почву, многие из них и раньше приходили ему в голову, прежде всего мысль о поиске истины, сколь бы ужасной и отвратительной она ни была. Он приемлет и мрачный шопенгауэровский мир, напоминающий ему Эсхила.
Шопенгауэр пробуждает интерес Ницше к философии, тот начинает посещать философские семинары и убеждается в правильности страстных выпадов вновь обретенного учителя против жалких профессоров. С тем большей жадностью он набрасывается на философские первоисточники.
Говоря о великом «отце» по духу, Ницше сравнивал Шопенгауэра с рыцарем Альбрехта Дюрера – рыцарем, которого не собьют с дороги его ужасные спутники, смерть и дьявол, «без надежды, но спокойно едет он вперед – один со своим конем и верною собакой». «У него не было надежды, но он хотел истины», – пишет Ницше о Шопенгауэре, подразумевая молодого себя, услышавшего первый манящий зов Диониса. Ему и Шопенгауэру «матери бытия» напевали свой соблазнительный напев, он и Шопенгауэр слышали торжественный шум «победного шествия Диониса от Индии до Греции», и оба – не свернули с пути. Их, Шопенгауэра и Ницше, вело великое сострадание и милосердие (в «Рождении трагедии» Ницше еще признавал эти слова), и они бесстрашно шли вперед.
У Шопенгауэра Ницше воспринял до крайности негативное отношение к грядущим переворотам и презрение ко всем недовольным общественным укладом жизни. Жизнь трагична в своей основе, надо стоически относиться к ее угрозам. Никакого «светлого будущего» не будет, ибо жизнь без боли, страданий, борьбы вырождается в растительное существование – это все у Ницше от Шопенгауэра.
Книга «Мир как воля и представление» произвела на него огромное впечатление. Страшен мир в изображении Шопенгауэра. Не Бог им управляет, а слепая, разрушительная Воля. Все феномены мира суть лучеиспускание этой Воли, она же неизменна и бесконечна, но раздирается на части, а поэтому страдает. Жизнь как проявление Воли – страдание; прогресс – бессмысленная выдумка философов. Ницше с жадностью проглотил все две тысячи страниц шопенгауэровского текста, развенчивающего ребяческие иллюзии человечества. Рано осиротевший, он называет Шопенгауэра «отцом». Он определяет великого пессимиста как «единственного немецкого философа XIX столетия». В своей статье «Шопенгауэр как воспитатель» (1874 г.) он также утверждает, что всегда мечтал о таком философе, которому можно было бы подчиниться и доверять больше, чем самому себе. Ницше относит Шопенгауэра к лучшим представителям человеческой расы – великим художникам, философам и святым, озаряющим темные глубины природы светом своего сознания.
Книга Шопенгауэра потрясла Ницше, перевернула его представления о мире, послужила отправной точкой собственного творческого пути, дала мощный импульс к изучению античной философии и искусства. Хотя в зрелости автор «Заратустры» разошелся с Шопенгауэром, он сохранил глубокую признательность своему крестному отцу. Юношеским восторгом дышат письма зрелого Ницше, в которых идет речь о кумире молодости: он признается в мучительно-радостном состоянии духа, напоминающем упоение музыкой, которое рождает эта философия.
Надо признать, что, называя Канта и Шопенгауэра «своим отцом» и «величайшим учителем», Ницше в «Рождении трагедии» «приспосабливает» «отца» и «учителя» довольно своеобразно, приписав им собственные идеи, весьма далекие от контекста их учений.
…Если бы Шопенгауэр прочел его сочинение, он, наверное, отыскал бы в своем неистощимом лексиконе самую отборную брань для своего «сына». С Кантом Ницше сойдется ближе во втором периоде, когда он, по своему обыкновению, выхватит из его учения одну часть, именно – отрицательную оценку Кантом сострадания и любви как этических мотивов, и отбросит его теорию категорического императива. Тогда повторится на наших глазах довольно обычное в истории мысли, а в истории этики чуть ли не постоянное, явление двух мыслителей, утверждающих одно и то же на диаметрально противоположных основаниях.
В «Рождении трагедии» Кант привлекал Ницше как создатель «вещи самой по себе», указавшей на границы познавательной способности человека. Она, по словам «сына», свела философию к «учению о воздержании», «которое не идет дальше порога и добросовестно отнимает у себя право входа».
Еще больше, чем к Вагнеру, изменилось отношение Ницше к Канту. В «Рождении трагедии» перед нами «всесокрушитель», обрушивающийся всей мощью своего гения (имеется в виду непостижимая «вещь сама по себе») на самодовольный и самоуверенный разум, успевший стать верховным судьей жизни. Кант расчистил место в философии для шопенгауэровской воли и в поэзии для Фауста Гёте, для глубочайшего понимания смысла жизни и сил, движущих ею. В «Антихристе» перед нами «кенигсбергский китаист», «роковой паук», первый декадент:
Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции… И почему только категорический императив Канта не воспринимали как жизнеопасный!.. Только богословский инстинкт и взял его под защиту!.. Когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было правильным, а для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом против… Ничто так быстро не разрушает, как работа, мысль, чувство без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автоматическое исполнение «долга»! Прямой рецепт décadence, даже идиотизма… Кант сделался идиотом… И это современник Гёте! Роковой паук считался – нет, все еще считается первым немецким фисософом!.. Ошибочный инстинкт во всем, противоестественность инстинктов, немецкий décadence в философском обличье – вот вам Кант.
«Переоценка всех ценностей» в первую очередь касалась кумиров самого Ницше. Благоговейное отношение большей частью оборачивалось глубочайшим разочарованием, «горечью обманутых надежд». Ницше был верен собственному учению: никто не должен становиться идолом: завороженность опасна – она ослепляет. Кумиры должны быть свергнуты, дабы не тормозить жизнь.
«Рождение трагедии» из духа музыки обязано Вагнеру, великому мифотворцу, выразителю страстной активности духа, мощи жизненных начал, мировой воли – всего того, что Ницше не хватало у Шопенгауэра. Музыку Вагнера молодой Ницше воспринимал как персонифицированную метафизику воли и героического пессимизма, игрища страстей и «мировой несправедливости»:
В произведениях композитора с огромной художественной силой переданы страсти, переживания лиц; в ярких, певучих мелодиях, хоровых сценах, симфонических вступлениях и эпизодах представлены их драматические коллизии («Тангейзер» – 1845 г., «Лоэнгрин» – 1850 г.). Основная идея оперы «Тристан и Изольда» (1865 г.) находится в полном соответствии с пессимистическим учением Шопенгауэра: только в смерти любящие существа могут обрести подлинное счастье. 1848 год – начало работы Вагнера над музыкально-драматической композицией «Кольцо Нибелунгов» (по скандинавскому эпосу VIII–IХ вв. «Эдда» и средне-верхнегерманскому эпосу начала XIII в.). В оперной тетралогии – «Золото Рейна» (1853–1854 гг.), «Валькирия» (1854–1856 гг.), «Зигфрид» (1856–1871 гг.) и «Гибель богов» (1870–1874 гг.) – композитор как бы передал, по Ницше, философско-этические мотивы «мировой несправедливости» и ее преодоления в жизненной драме. Борьбу против власти золота призван осуществить идеальный герой, лишенный пороков современной цивилизации. Эта борьба приводит к гибели Зигфрида, а вместе с ним и к гибели всех богов германской мифологии во главе с Вотаном: «власть золота», ненасытная, вечно неудовлетворенная «воля к жизни» умерщвляют людей и богов.
С Вагнером Ницше сближает философская идея: музыка – это язык человеческих чувств и страстей. Реформатор музыкального театра борется против современного оперного спектакля с его внешне развлекательной интригой, вокальным виртуозничеством и отсутствием связи между текстом, музыкой и сценическим действием. Вагнер стремится к монументальности и философской значимости искусства и избирает темы, очищенные от конкретно-исторического и современного. Отсюда его тяготение к героическим мотивам, переосмыслению древней мифологии и средневековых легенд в синтезе музыки, текста и жеста; Вагнер называл свои произведения музыкальными драмами. По Ницше, это драматическое искусство раскрывает тайну человеческого бытия.
Во всем сущем Вагнер подметил единую мировую жизнь, пишет Ницше, у него все говорит и нет ничего немого: он погрузился в утреннюю зарю, леса, туманы, ущелья, горные вершины, ужасы ночи, блеск месяца и подметил в них затаенное желание: они тоже хотят звучать. Если философ говорит, что в одушевленной и неодушевленной природе существует воля, жаждущая бытия, то музыкант прибавляет: и эта воля на всех своих ступенях хочет бытия в звуках.
Вагнер представлялся молодому Ницше воплощением шопенгауэровской гениальности, сумевшим выразить в музыке сам дух философии мировой воли. Ницше импонировала энергия вагнеровской музыки, спасающей культуру от кризиса.
Вагнер был для Ницше модернистом, радикально обновившим миф и музыку: «И художник слышал ясно веление, обращенное к нему одному, – вернуть мифу его мужественность, освободить музыку от завораживающих ее чар и дать ей возможность заговорить».
Они оба тяготели к мифологическому мышлению, позволявшему погрузиться в архетипические глубины собственных душ и – одновременно – овладеть, упорядочить, придать эстетическую форму и смысл той необозримой панораме анархии и суетности, которая называется современной историей, выражаясь словами Т. С. Элиота.
Поэтическое творчество Вагнера Ницше истолковывает как сугубо бессознательное, мифологическое. «Поэтический элемент Вагнера, – утверждает он, – сказывается в том, что он мыслит видимыми и чувствуемыми событиями, а не понятиями, т. е. что он мыслит мифически, как всегда мыслил народ. В основе мифа лежит не мысль… но он сам есть мышление».
В четвертой части «Несвоевременных размышлений», целиком посвященной Вагнеру, Ницше противопоставляет «детям жалкого века» – «властную душу», нового Эсхила, соединившего миф и музыку, возродившего трагическое чувство и саму витальность.
Обычно отношения Ницше и Вагнера описываются как вспыхнувшее пламя, которое, перегорев, оставило душный чад: как говорится, от любви до ненависти – один шаг. Это большое упрощение реального хода событий. Во-первых, Ницше – даже в молодости, даже в годы ничем не омраченного общения со своим старшим другом, отнюдь не стоял в подобострастной стойке: сохранилось его письмо к Герсдорфу, датированное октябрем 1866 года, в котором он пишет, что от чтения «Валькирии» у него осталось неопределенное впечатление: «Великая красота сочетается с неменьшим безобразием и уродством, плюс и минус дают в результате нуль». В это время Ницше явно предпочитал Шумана, а о будущем друге писал: «Вагнер – это нерешенная проблема».
Отношение Ницше к Вагнеру изменилось не враз, не внезапно, а претерпело длительную эволюцию. В последние дни пребывания Вагнера в Трибшене это был уже другой человек – не герой, не первопроходец, не обновитель искусства, но – эгоист, умело приспосабливающийся к обстоятельствам, к успеху, к славе, увлекаемый страстями человеческими: «Он становится шовинистом с шовинистами, идеалистом с идеалистами, галлофобом, если необходимо; для одних он воскрешает трагедию Эсхила, для других оживляет древнегерманские мифы, он охотно становится пессимистом или, при желании, христианином; но все же каждую минуту он не перестает быть искренним. Этот великий руководитель человеческих сердец и великий поэт искусно подчинял своему влиянию общественное мнение своей родины».
Я не утверждаю, что Ницше и Вагнер были абсолютно несовместимы, но разделяло их очень многое. Первый – при всем своем визионерстве – часто впадал в утопии, второй отличался прагматизмом, способностью хорошо подать себя, приспособиться к вкусам публики. Ницше всегда пренебрегал общественным мнением, был склонен к эпатажу, не выбирал выражений. Вагнер остерегался крайностей, нередко предостерегал младшего друга от опасностей, которые сулят ему вызовы, бросаемые коллегам, обществу, миру. С некоторых пор, продолжая поддерживать отношения с Ницше, Вагнер сам опасался резкости и непредсказуемости его языка.
Возможно, Вагнер любил Ницше настолько, насколько он был способен любить. Окруженный слишком покорными учениками и поклонниками, Вагнер ценил пылкий темперамент Ницше, его потребность отдаваться целиком, его свободолюбивый характер. Часто Ницше сердил Вагнера, выводил его из терпения, но Вагнер обычно прощал его. Хотя Вагнер до конца не понимал, он все же угадывал трагические кризисы, переживаемые Ницше в его жизненных исканиях, и тогда с неподдельной добротой ободрял его. Но Ницше страдал от снисходительного отношения еще сильнее, он еще яснее чувствовал всю ценность того, с кем ему предстоит расстаться.
Явные признаки ухудшения отношений Ницше и Вагнера появились тотчас после переезда последнего из Трибшена в Байрёйт. Вагнер, привыкший видеть в молодом друге верного оруженосца и пропагандиста собственных идей, с раздражением и неприязнью воспринимал «шокирующую резкость» его суждений, полемический эпатаж и стремление к радикальному пересмотру моральных и религиозных ценностей старого мира. Поиск новых ценностей казался ему опасным и провокационным. Ницше, однако, все еще не терял надежды, что Байрёйт – усилиями Вагнера – станет центром возрождения европейской и мировой культуры в духе обновленных им ценностей.
По-видимому, Вагнер не выдержал испытания «медными трубами». Еще до переезда в Байрёйт он сильно изменился. Продолжая выказывать Ницше свое расположение, он утратил открытость и прямодушие, в нем появились снисходительность и тираничность. Властолюбие породило в нем недоверие и подозрительность. Радикализм сменился нетерпимостью. Ницше удручали эти перемены, эти явные признаки диктата. В своих заметках этого времени Ницше писал: «Вагнер не обладает способностью делать окружающих его людей свободными и великими; Вагнер недоверчив, подозрителен и высокомерен».
Ницше удручало не столько даже изменение характера Вагнера, сколько нарастающее лицемерие, стремление творить «на потребу»: «Обнимитесь миллионы», – пел под руководством Вагнера хор байрёйтского театра. Пели хорошо, слаженно, но Ницше от этого пафоса бросало в дрожь. В «Лоэнгрине» он слышал только поток романтической фальши и не скрывал от друзей своего отрицательного отношения к этой «поделке».
Разрыву Ницше с Вагнером приписывали самые разнообразные причины; его объясняли чисто идеальными побуждениями – непреодолимым стремлением к истине, а также мотивами, которые он сам потом называл «человечными, слишком человечными» (Menschliches, Allzumenschliches). В действительности оба эти мотива переплетались, подобно тому как это было в первом периоде развития Ницше, по отношению к вопросам религиозным. Именно то обстоятельство, что он нашел полное довольство, душевный покой, что миросозерцание Вагнера мягко и гладко «облегало» его, «как здоровая кожа», – именно это побуждало его сбросить с себя эту кожу; «избыток счастья» казался ему «горем»; он опять «ранен своим счастьем». Только в этом добровольно избранном мученичестве дух его находил надежный оплот, позволявший ему вступить в борьбу со своим старым идеалом. Конечно, Ницше должен был почувствовать большое облегчение от сознания, что, если он отказывается от возвышенного и прекрасного, то вместе с тем и освобождает себя от последних уз; но все-таки это освобождение было в некотором роде лишением, и он страдал от него.
Разрыв совершился окончательно и совершенно неожиданно для Вагнера в то время когда он, работая над своим «Парсифалем», приближался к католическим идеям, между тем как Ницше очень круто перешел к позитивной философии англичан и французов. И это идейное разногласие Ницше и Вагнера не только интеллектуально разъединило их, но разорвало связь, бывшую столь же близкой, как между отцом и сыном, братом и братом. Ни тот, ни другой из них не мог никогда ни забыть этого разрыва, ни примириться с ним.
Байрёйт все сильнее тяготил Ницше: он признался, что некоторых людей предпочитает видеть издали, но не вблизи. Трещина в отношениях все ширилась, Ницше все больше ощущал себя enfant terrible[36]36
Ужасный ребенок (франц.).
[Закрыть] в кругу Вагнера, но – при всем своем нонконформизме – долго не находил в себе сил пойти на открытую конфронтацию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































