Текст книги "Ницше"
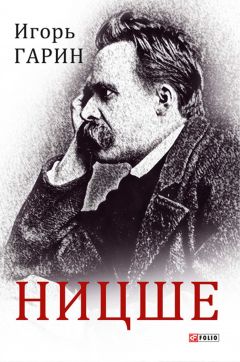
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Пестрая мозаика слов, где каждое является звуком, картиной, понятием, где сила бьет отовсюду ключем, доведенное до minimum’а количество письменных знаков и достигнутый ими maximum силы и выразительности – все это отличается римским духом и, если хотите мне поверить, то и благородством par excellence. Вся остальная поэзия в сравнении с этой является пошлой, чувствительной болтовней…
Римских стилистов Ницше предпочитал греческим: разностильный Платон – «декадент в области стиля». Его диалоги – самодовольная и ребяческая форма диалектики, «надувательство высшей марки». Платону Ницше предпочел Фукидида, излечившего автора «Заратустры» от «розовых идеалов»:
Читая его, так и сяк десять раз повернешь каждую строчку, слово за словом, иначе не доберешься до спрятанных в глубине тайных мыслей – немного найдется столь скрытных мыслителей, как Фукидид. В нем обрела свое совершенное выражение культура софистов, лучше сказать, реалистов — движение огромнейшей ценности, тем более, что оно появилось тогда, когда всюду уже пробивалось и рвалось вперед шарлатанство сократических школ по части морали и идеалов. Философия греков – упадок греческого инстинкта, Фукидид – великий итог, последнее откровение сильной, строгой, жестокой реальности факта, той, что была присуща инстинкту греков более древней эпохи. Мужество перед лицом реальности – им в конечном счете разнятся такие натуры, как Платон и Фукидид. Платон – трус, он боится реальности и поэтому прячется от нее в убежище идеала, Фукидид властвует собой и поэтому властвует и над вещами…
По мнению А. Швейцера, у Ницше были и восточные предтечи. В частности, прототипом этики жизнеутверждения и воли к могуществу можно рассматривать учение Ле-цзы о существовании природного стремления к таинственной власти над вещами. Ян-цзы создал этику, оправдывающую полное «прожигание» жизни. Этика Ницше представляет собою европейский синтез учений Ле-цзы и Ян-цзы, – заключает автор «Культуры и этики».
Современность несет на себе черты упадка и вырождения по сравнению с космизмом и метафизической глубиной Средневековья с его грандиозными готическими соборами, «Божественной комедией» или философией Фомы. Сравнивая свой век с творениями Рафаэля и Микеланджело, музыкой Баха и Моцарта, Ницше констатирует деградацию «шутов современной культуры» до уровня фельетонистов. Музыканты то псевдогероичны, как Вагнер, то бесхарактерны, как Шуман: утратив эстетическое чувство, они проявляют болезненное любопытство среднего человека то к пороку, то к угрызениям совести, то к конвульсиям души.
А Ренессанс, который мы так превозносим? Разве не итальянские гуманисты провозгласили право личности на абсолютную свободу действий без оглядок на моральные ограничения? Разве не отсюда берет свое начало макиавеллиевский Государь, считающий аморальность, жестокость и вероломство способами достижения великих целей? Разве не здесь совершал свои подвиги Заратустра под именем Медичи?
Хотя у Ницше можно обнаружить много филиппик, адресованных Лютеру, его отношение к отцу протестантизма не было однолинейным – Ницше считал себя первооткрывателем зависимости новой немецкой поэзии от языка Лютера (его перевода Библии). По мнению Л. Шестова, Ницше был первым из немецких философов, обратившихся лицом к Лютеру и Библии. Лютером, в частности, навеяна идея «философии с молотом» (у него часто встречается та же мысль о Божьем молоте). Мысли Ницше о Сократе во многом напоминают то, что Лютер говорил о падшем человеке: падший человек весь во власти чуждой ему силы и ничего уже не может сделать для своего спасения. Видимо, Ницше испытал многие из тех чувств, которые ранее пережил Лютер, и, прежде всего, – ощущение падения, формула которого – «из бездны взываю», падения как пути к озарению.
Как это ни парадоксально, но в воле к могуществу можно обнаружить проявление лютеровского sola fide, тертуллиановского «верую, ибо абсурдно».
Л. Шестов:
Лютеровская sola fide вела его к Тому, о котором он говорил: «est enim Deus omnipotens ex nihilo omnia creans» (ибо Он – Всемогущий Бог, творящий все из ничего). Но не есть ли тогда ницшевское Wille zur Macht только другие слова для выражения лютеровской sola fide? Лютер опирался на авторитет Св. Писания, на пророков и апостолов. Но у Ницше его стремление к синайским высотам родилось в тот момент, когда Библия утратила всякий авторитет в его глазах. Наоборот, все, что для Ницше еще сохранило какой бы то ни было авторитет, властно говорило ему, что Wille zur Macht есть предел безумия и что для мыслящего человека нет иного спасения, нет иного убежища, чем те блаженства, которые нам принесены были Сократом и Спинозой. Об этом он нам достаточно рассказал в первых книгах, написанных непосредственно после кризиса. И все же какая-то загадочная сила толкала его прочь от «древа познания». Как назвать эту силу? И есть ли для нее имя среди сохранивших для нас смысл слов? Подождем с ответом на этот вопрос. Но послушаем, как сам Ницше говорит о ней: «О, пошлите мне безумие, небожители! Безумие, чтоб я сам наконец поверил себе, пошлите мне бред и судороги, внезапный свет, и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, каких не испытал еще ни один человек, пугайте меня таинственным шумом и привидениями, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное: только бы мне найти веру в себя. Сомнение пожирает меня. Я убил закон, закон страшит меня, как труп страшит живого человека: если я не больше, чем закон, – я отверженнейший из людей. Новый дух, родившийся во мне, – откуда он, если он не от вас? Докажите мне, что я ваш, – одно безумие может мне доказать это».
«Пошлите мне безумие» у Ницше и «спасение верой» у Лютера отличаются разве лишь тем, что Лютер опирался на авторитет Писания и апостолов («я бы не осмелился так называть закон и считал бы это величайшим кощунством по отношению к Богу, если бы Павел этого не сделал раньше»), а Ницше после «смерти Бога» не мог ссылаться на что-либо, кроме собственного «безумия». Лютеровское «предопределение» – суровейшая доктрина, означающая необходимость каждого человека безропотно положиться на волю Божью. Хотя сам Ницше видел в Лютере «совратителя», объявившего призванием немцев сферу чистого духа вместо практического действия, это величайшее заблуждение: именно на основе «предопределения» выстроена стройная протестантская доктрина наилучшего исполнения человеком своих обязанностей как высшей формы служения Богу, прообраз «воли к могуществу» Ницше. Пафос деятельности, развязывание деловой инициативы приобретали в протестантизме значение религиозного призвания вне зависимости от профессии. Важен не характер деятельности, а «пребывание в призвании своем».
Всюду – в мастерской или мануфактуре, за прилавком или конторкой, и в море или на поле – человек обязан был всем напряжением своих профессиональных сил служить Богу, и если дело удавалось ему – он мог надеяться, что на нем почила благодать Божия. Характерны названия многих сочинений кальвинистов (пуритан) ХVII в.: «Одухотворенное мореходство», «Одухотворенный сельский хозяин», «Одухотворенный ткач», «Христианское судоходство», «Призвание торговца», «Милая торговля» и даже «Гидротеология».
«Спасение в вере» означает: спасение не в бездеятельном квиетизме, но в деятельности, если хотите, могущественности деятеля, не в пустопорожнем созерцании, а в решительной и страстной борьбе и самоутверждении. Лютер и Ницше ставили веру выше знания, оба противопоставляли сократовской культуре – бездну жизни, бездну смерти, бездну судьбы:
Бог… Всемогущий Творец, Создающий из ничего все… Но до этого своего существенного дела не допускает зловредная чума, самомнение праведности, которая не хочет быть грешной, нечистой; жалкой и осужденной, а справедливой и святой. Оттого Бог должен прибегнуть к тому молоту, именно к закону, который разбивает, сокрушает, испепеляет и обращает в ничто это чудовище с его самоуверенностью, мудростью, справедливостью и властью.
Так восклицает М. Лютер, а в § 22 «По ту сторону добра и зла» Ницше чуть ли не дословно повторяет мысль об опасности сооружения алтарей знанию, истине и добру. Ницшеанская воля к могуществу – это лютеровский Всемогущий Творец в нас, противостоящий нашему рационализму. «Спасение в вере» и «воля к могуществу» надразумны, высшие человеческие ценности неподсудны уму, логика к ним не применима.
Экономические воззрения Ницше тоже вполне протестантские: труд, много труда, нравственность обогащения, но – в меру: «Должны быть открыты все трудовые пути к приобретению небольшого состояния, но не должно допускать легкого и быстрого обогащения». Ницше страшится тех, кто не владеет ничем, но и тех, кто владеет слишком многим. То и другое чревато одним – тоталитаризмом…
Отвергая идеи Лютера и Кальвина, Ницше тем не менее пропагандирует активизм, конкуренцию, волю к власти как принцип состязания, иными словами, комплекс идеалов рыночного общества. За эпатажем имморализма кроется пропаганда творческой активности свободной личности, «невинность», дающая нам «великое мужество и великую свободу».
Христианство полагает, что человек не знает и не может знать, что для него добро и что зло: он верит Богу, который один знает это. Христианская мораль есть приказ, источник которой трансцендентен; она по ту сторону всякой критики, она обладает лишь истиной, поскольку Бог есть истина – она возникает и ниспровергается вместе с верою в Бога.
Как это ни покажется парадоксальным, ницшеанское «свержение кумиров» и корпус лютеровских идей – одно. Отбросив шелуху слов и идеологическую подоплеку, можно заключить, что стержневая идея Лютера и Ницше совпадает: Личность, Свобода, Труд – направленные на создание человека богоизбранного, ответственного, активного, творческого, творящего собственную жизнь.
Среди множества прочитанных мною книг я не обнаружил параллели Ницше – Рабле. Между тем, она напрашивается, лежит на поверхности. Карнавальности (которой, кстати, Рабле далеко не исчерпывается) можно поставить в соответствие танец, задор, веселость, «зубодробительность» Ницше (качества, которыми он также далеко не исчерпывается). Полистаем «Веселую науку»:
Поголовная насмешка над всяким нынешним морализированием. Подготовка к наивно-иронической стойке Заратустры перед всеми священными вещами (наивная форма превосходства: игра со святым).
Из этой «веселой науки» не поняли ровным счетом ничего: даже заглавия, о провансальском смысле которого забыли многие ученые.
Еще одна упущенная «параллель»: Ницше – Николай Кузанский, посрамляющий «мудрость мира сего».
А разве не Леонардо да Винчи – величайший знаток души и тела – сказал эти сакраментальные слова: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не смог существовать в этом мире»?.. (А душа?..)
А «Плеяда» во главе с Ронсаром? А Матюрен Ренье, оставивший за собой право на свободу от стесняющих правил? А Микеланджело, постоянно твердящий: искусством должны заниматься благородные, а не плебеи?
Для Данте, Тассо, Микеланджело, Бруно, Шекспира жизнь – вечная битва Героя с bête noire.
Шекспир, как греки до него, а Ницше после, не верил ни в прогресс, ни в первородный грех. Он верил в то, что большинство людей заслуживает презрения.
Ф. Ницше:
Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! Понимают ли Гамлета? Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума… Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать… Мы все боимся истины…
Восторгаясь мощью Шекспира, нередко уподобляемого Бетховену, Ницше видел в нем правдивого хрониста самой жизни со всеми ее страстями, терзаниями, корчами, нарушениями справедливости, душевной раздвоенностью и смутой. Шекспир – не просто «любопытствующий психолог», но единомышленник, имморалист: «Ошибается тот, кто приписывает театру Шекспира моральный эффект, полагая, что пример с Макбетом означает удар по злу честолюбия».
Шекспир привлекателен не только как великий художник, но и как великая личность: подлинные поэты – ровня своим созданиям. Шекспир не только рассуждал о страстях или живописал их, но «имел доступ ко многим из них». Это вообще свойственно драматургам: «Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст интересны тем, – упреждает Ницше Фрейда, – что своими произведениями “мстили за свою внутреннюю грязь”». В «Веселой науке» идея вытеснения и сублимации уже отлита в афористическую форму: «Мы, эстетики высшего ранга, не можем обойтись без преступлений, порока, мучений души и заблуждений».
Когда я ищу свою высшую формулу для Шекспира, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают — это есть или этого нет. Великий поэт черпает только из своей реальности – до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения… Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий.
Величие Шекспира – в независимости души! Именно она позволила Шекспиру – вопреки традиции – возвысить Брута над Цезарем. В самом Шекспире, считал Ницше, сидела частица Брута, поднявшего руку на Кумира.
И даже Брут, сам Брут, теряет последнее терпение, когда появляется поэт, надменный, важный, назойливый, как все поэты, словно некое существо, которое, кажется, вот-вот лопнет от распирающих его возможностей проявить величие, но не способный даже в своей житейской философии поступков подняться до высот элементарной порядочности. «Терплю я шутовство в другое время, война – не дело этих стихоплетов. Любезный, прочь», – восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, который их сочинил.
Разве Бальмонт не находил почти весь комплекс ницшеанских идей у Кальдерона, Марло, даже Сервантеса с его «Дон Кихотом»?
Летом 1875-го, находясь на лечении в Штейнабаде, Ницше вчитывался в «самую горькую книгу», «Дон Кихота». Он воспринял ее как насмешку над всеми благородными порывами. Но уподоблял ли он тогда Дон Кихоту себя самого? Думал ли вообще над собственным кихотизмом?
А демократический Чапмен, этот соперник Шекспира? «Я ненавижу чернь и посвящаю свои странные поэмы лишь тем пытливым душам, которые облагорожены знанием», – Чапмен, считающий упрощение поэзии – дорогой к варварству?
Заратустре явно не хватает дерзновенности маркиза де Сада – он не холоден, он воодушевлен!
Маркиз де Сад предвосхитил Ницше, объявив христианство религией жертв, которую, по его мнению, следует заменить идеологией силы. Но, похоже, и в человеческих отношениях он был его предтечей: я имею в виду не чудовищные сексуальные фантазии «120 дней Содома», но – чисто человеческую слабость: оба так много говорили о силе своего духа не потому, что ею обладали, а потому, что страстно мечтали о ней. Их объединяет еще одна заслуга: оба заставили насилие заговорить, наделили зло голосом.
Разве все французские моралисты и первый среди них – Паскаль – не были предшественниками Ницше, когда открывали абсурд как «изначальную бедственность нашего удела»? Так ли уж не прав Андлер?
С Паскалем, Гаманом и Киркегором Ницше сближает не только «пограничное состояние», переходящее порой в безумие, но антиакадемический стиль философствования, принципиальная бессистемность, а также та «уединенность» несчастнейших, которая дарит им самое важное в творчестве – свободу нонконформизма, ничем не скованное «Я».
К. Ясперс:
Киркегор и Ницше оба всем своим существом осознавали себя как «исключение», стоящее особняком, оба ощущали как роковое несчастье свое абсолютное одиночество. Меньше всего на свете ощущал себя каждый из них представителем чего бы то ни было, образцом для подражания, учителем, указующим путь: они сознавали себя людьми, призывающими обратить внимание, вспомнить, усомниться, попытаться.
И вот что удивительно: жизнь Киркегора и Ницше – абсолютно ненормальная, не образцовая, отпугивающая, жизнь, которую сами они хотели сделать и сделали неподражаемой и единственной – стала для современного человека одним из важнейших ориентиров. Ибо они показывают, в каком смятении живет сегодня мир, как поверхностно, туманно и иллюзорно все, что предлагается нам сегодня в качестве обоснования и оправдания нашей деятельности.
С этим связано и то, что Киркегор и Ницше, как никто другой (в отличие, впрочем, от Маркса), осмысливали собственную жизнь и реально «проживали» свои мысли, делая собственную биографию предметом рефлексии, интерпретируя смысл и смысловые возможности каждого события и переживания; так что мы и не можем представить себе их философию иначе, как пронизывающей насквозь их жизненный путь, отраженной во множестве зеркал биографических подробностей; и в конце концов их жизнь и их мысль являются нам в удивительно завершенном целом.
Они, конечно, пророки, но пророчество их – жертва, а не провозвестие нового мира: они сами целиком охвачены ужасом времени, они сами более чем кто-либо терпят бедствие утрачивающего себя, отчужденного от себя человека. И потому пророчество их роковым образом двусмысленно. Никто с такой силой не требует и не осуществляет стремления к истине, как они, но никто и не несет в себе такой разрушительной, всеуничтожающей силы. Без них сегодня не может быть никакого воспитания, но воспитанникам их грозит неслыханная опасность. Нам еще предстоит научиться, как воспитываться у них, не давая погубить себя этим воспитанием. Их мысль не просто обнаруживает уже происшедшие разрушения, она сама продолжает действовать как активная разрушительная сила. Они пробуждают наше сознание, расчищая его для новых возможностей, и в то же самое время предлагают мысли неодолимой соблазнительности, заволакивающие только что расчищенное пространство и погружающие завороженное сознание в новый волшебный сон. Порой кажется, что самая проницательность их взгляда порождает либо всеуничтожение, либо новый догматизм.
…Именно их заблуждения оказались прообразом того, что позднее воплотилось в реальной действительности. Их ошибки стали историей. То, что с точки зрения истины было их слабым местом, оказалось выражением реальности наступившего после них столетия. Они высказывали мысли, которым суждено было прийти к власти; они снабдили двадцатый век символами веры и лозунгами дня.
Киркегор и Ницше, всецело принадлежавшие XIX веку, стали нашими современниками, определившими философствование века ХХ-го. Киркегор и Ницше – два ясновидца, предсказавшие наше время и узревшие в своем истоки того, чего, кроме них, никто не увидел.
Жизнь каждого из них – напряженное переживание всемирно-исторического момента в становлении человеческого бытия; с душераздирающей ясностью они отдавали себе отчет в этом моменте и видели его в целом – в необозримом горизонте, в неслыханных масштабах. Они предвидели и предсказали грядущее, ибо видели его ростки в настоящем. В своем мышлении и делании они уже прошли тем путем, которому еще только предстоит стать действительностью этого мира.
Киркегора и Ницше объединяет радикальный антидогматизм, смелость мысли, беспокойство за будущее, страстное желание заразить своими, часто взаимоисключающими идеями других.
При всей несовместимости абсурда веры и «переоценки всех ценностей», конгениальность Киркегора и Ницше выражается в остроте экзистенциального мироощущения, экстатическом возвышении Личности, критике эпохи, ощущении пустоты знания, необходимости «любви к судьбе», восприятии жизни как лицедейства с его разглагольствованиями, скукой, опасностью омассовления и машинизации. Как и Киркегор, Ницше много писал о том, что все говорят, но никто никого не слышит, что все разлагается в потоках слов, все пробалтывается и предается.
Киркегор и Ницше (позже – Бергсон) всем своим творчеством выразили предельное возмущение духа против рационализма, господствующего в европейской мысли в ХVIII и XIX веках. Именно этой троице выпала трудная доля радикальной смены парадигмы – не «крушения разума», но демонстрации его производности от более глубоких, бытийных оснований. Одновременно это был переход от самодовольного, нарциссического гуманизма «человека-машины» к новому гуманизму – преклонению перед полнотой жизни.
Свасьян обнаружил еще одну неожиданную параллель Киркегор – Ницше – вечное «бегство» от самих себя, выражающееся через инкогнито, через смену масок – у Киркегора это фокусничество многочисленных псевдонимов, у Ницше – помимо «масок» – странничество, страсть к перемене мест, внешне напоминающая страх, болезненность мании преследования.
В давней, пронизывающей человеческую культуру тяжбе этики и эстетики Ницше и Киркегор занимают непримиримые позиции: жизнь имеет оправдание лишь как эстетический феномен для Ницше и лишь как этический для Киркегора. Для одного жизнь – безусловная красота, для другого столь же безусловное следование Богу.
Этический подход разделяет сущее на противоположности, одно отрицает, другое утверждает. В этом выражается враждебно-мстительное отношение к жизни, стремление развенчать ее первозданную полноту и мощь. Как любовь отождествляется со своим объектом, так и жизненность чужда анализа, дихотомии, вычленения плюсов и минусов. Этическая точка зрения, считал Ницше, содержит подспудно отвращение к жизни противопоставлением ей другой, потусторонней. Античность относилась к жизни эстетически, в Средние века сложилось этическое отношение к миру, сковавшее спонтанность чувств и могучую игру жизненных инстинктов. Итогом этического подхода стала деформация высших ценностей, извращение жизненных канонов и уродование жизни моральными фетишами.
Человек – это диссонанс в человеческом образе. Для возможности жить этому диссонансу требуется прекрасная иллюзия, облекающая покровом красоты его собственное существо. Бытие и мир являются оправданными лишь в качестве эстетического феномена.
Трудно отрицать эстетизм Ницше, можно даже полагать, что именно из него родился имморализм. Из двух высших критериев существования – библейского добра и эллинской красоты – Ницше явно предпочел вторую как первоначальную, лежащую в истоках культуры. И. Бродский полагал, что эстетика старше этики: «…Эстетика – мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и “зла”». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не “все позволено”». Ницше, напротив, считал позволенным все, что жизненно, мораль он оценивал с позиций «старшей сестры». Для него этика и эстетика объединены витальностью: добро и красота – то, что способствует жизни, но в этой связке красота предшествует добру.
Можно сказать, что этика Ницше эстетична, но красотой его добра является жизненность. При таком подходе исчезает напряженное состояние, извечно существующее между красотой и добром.
«И как не раз пророчествовали поэты, не нравственное, а прекрасное обречено гибели, – мог ли Ницше этого не знать?» – риторически вопрошал Томас Манн. Ницше знал больше – что все в мире смертно, что все рождается и все умирает, даже «вечная истина», даже «вечный Бог»…
Т. Манн:
«С той минуты, когда Сократ и Платон начали проповедовать истину и справедливость, – сказал Ницше однажды, – они перестали быть греками и сделались евреями или кем-то еще в этом роде». Что ж, твердые нравственные принципы помогли евреям стать хорошими, стойкими детьми матери-жизни. Евреи пронесли сквозь тысячелетия свою религию и свою веру в справедливого Бога и выжили сами, в то время как беспутные эстеты и художники, шелопаи греки, очень скоро сошли с арены истории.
Простота вывода ошеломляет: иудейская этика спасительна, греческая эстетика гибельна. Мне представляется, дешифровка приведенной мысли человека, любившего одновременно и греков и евреев, полностью лишена национальной, как, впрочем, и этико-эстетической окраски: единственная истина и единственная справедливость (талмудизм) смертельно опасны и для греков, и для евреев – их исторические судьбы (упадок одних и диаспора других) – наглядное тому свидетельство…
А Блейк? «Одинаковый закон для льва и для вола – это гнет». Или: «Желание, не сопровождающееся действием, рождает заразу». И еще: «От стоячих вод жди только заразу». А это? «В одной энергии жизнь. Энергия – вечное наслаждение». «Путь крайностей ведет во дворец мудрости». «Если бы безумец упорствовал в своем безумии, он сделался бы мудрецом». И еще, и еще, и еще… Четвертое колесо «Большой Медведицы».
А романтики? Байрон, Клейст, Клингер, Альфред де Виньи, Мюссе, Шатобриан, Мэтьюрен, Гофман, Нодье, на излете – Леконт де Лиль, Бертран, Бодлер, Лотреамон?
У романтиков Ницше заимствовал принцип эстетизма как иронии, самопародирование, осознание непреодолимого конфликта между мощью творческого порыва и его результатом. Правда, романтики возвышали творчество над жизнью, тогда как Ницше требовал возвышения самой жизни, творчества жизни, красоты жизни, стоящей по ту сторону человеческих суждений о ней, по ту сторону Добра и Истины. Впрочем, это различие нюансов. Ницше, как и романтики, исповедовал культ художественного гения, верил в примат идеалов эстетического величия над нравственными убеждениями.
А. Белый:
И по-новому воскресают перед нами романтики: Иоиль верно указывает на то, что Ницше родился на родине романтизма, он увлекается Новалисом, в «Гиперионе» Гёльдерлина он видит прообразы сверхчеловека, его пфортский учитель Коберштейн – историк романтизма, его друг Роде открывает следы романтизма в Древней Греции. После Ницше лучше понимаем мы Тика, когда этот последний говорит: «Всё – игра» и далее: убегая в глубь истории, – мы встречаем философа музыки Гераклита, орфиков и пифагорийцев. «Я чту огонь», – перекликается с Гераклитом Фр. Шлегель. «Будем писать подобно трубадурам», – восклицает Ницше. «Будем вакханками», – возглашает Новалис.
Романтизм сказался на ранних творениях автора «Рождения трагедии», но в целом ему претили романтическая меланхоличность, страстность и витиеватость, пришедшие на смену классической сжатости и строгости. «Великий стиль» Корнеля и Расина был ему гораздо ближе романтического дендизма Байрона, ценимого не столько за поэзию, сколько за «сверхчеловечность».
И понятно: в «Манфреде» – уже весь «Заратустра»:
Я презираю стадо;
Я не хочу быть вожаком и в волчьей стае.
Лев одинок – таков и я.
А разве в самом Байроне уже не весь Ницше? «Один против всех – в жизни и в смерти, во времени и в вечности. Война одного со всеми. Все что угодно, только не действительное». Anything, but reality. Да, последний из учеников Диониса лишь договорил до конца сумрачные думы байронических скитальцев, скажет имярек.
Ницше ощущал сродство с «дивным» Гёльдерлином[32]32
Лирика «Заратустры» во многом напоминает «Гипериона» и «Эмпедокла». Однако влияние Гёльдерлина, героя отроческих лет, просматривается уже в «Рождении трагедии».
[Закрыть] и с ёрничающим Гейне, борцом против аскетического «назарейства» и подвижником «языческой» красоты. У Гёльдерлина Ницше вычитал и взял на вооружение мысль, ставшую лозунгом его философии: «Порочность идей и философских систем представляется мне более трагическим явлением, чем пороки реальной жизни».
В «Люцинде» Шлегеля и «Мадонне» Мундта Ницше вполне мог уловить близкие ему настроения.
Я не согласен с бертрамовской[33]33
Э. Бертрам – ученик и последователь Стефана Георге.
[Закрыть] интерпретацией творчества Ницше как мифологического романтизма, хотя «белокурая бестия» действительно несет на себе отпечаток романтической тоски по идеалу. Скорее Ницше – антиромантик, радикальный ниспровергатель устоявшихся ценностей.
И у секамбров сверхчеловек появился задолго до последнего дионисийца. И даже слово это находилось в обороте гвардейцев «Бури и натиска». Новалис видел в страдании величие, а Шиллер ввел в обращение своего идеалиста, у которого представление о человеке и человечности «столь величественное», что ему «грозит опасность презирать людей». У Шиллера сверхчеловек постоянно вертится на подмостках, принимая образы Карла или Франца Моора, Фиеско или Валленштейна.
А разве Гёте не предупреждал об опасности «чрезмерного добра»? Художник должен иметь происхождение, должен знать, откуда он взялся, говорил Олимпиец из Веймара. От Ганса Георга Гадамера мы знаем: Отшельник из Сильс-Марии произошел от Веймарского мудреца. Не фрагментарно – целиком: и языческое восприятие жизни, и роковая героика, и сомнения в свободе и зрелости человека, и ненависть к филистерству, и «сброд людской», и «сумасшедший дом – мир», и цинизм, даже повышенный интерес к античной трагедии – все от Олимпийца-громовержца, не отличавшегося слишком лестным мнением о человеке и человечестве.
Я шел всю жизнь беспечно напролом
И удовлетворял свои желанья,
Что злило, оставлял я без вниманья,
Что умиляло, не тужил о том.
Я следовал желаньям, молодой,
Я исполнял их сгоряча, в порыве.
Фауст говорит: я похожу не на богов… я похожу на червя. И Заратустра повторяет: Вы совершили путь от червя к человеку, а многое в вас еще червь.
Блажен, кто вырваться на свет
Надеется из лжи окружной, —
разве эти заимствованные у Гёте слова не эпиграф к значительной части творчества Ницше?..
Ницше ощущал себя духовным наследником Гёте, видя в близкой ему атмосфере Фауста крест, смерть и могилу.
По словам Ю. Цайтлера, Ницше всю жизнь оставался верен двум божествам – Гёте и Греции, постоянно пробуждал их в себе и уподоблял себя с ними.
Гёте для него – символ целостности, вечного становления, совокупности знаний о мире, проникновения во все формы жизни. Гёте всегда был в гуще жизни, никогда не отрывался от ее корней, соединял жизненную волю, созерцание и мышление. Гёте – дионисиец, ставивший перед собою цель добиться жизненной целостности, собственным волевым усилием принудить жизнь творить его самого как целостность.
Гёте для Ницше – возвращение к природе, восхождение к естественности, самопреодоление восемнадцатого века.
Сильнейшие инстинкты века были ему присущи: чувствительность, обожествление Природы, антиисторичность, тяга к идеалистическому, нереальному, революционному (последнее лишь форма нереального). Он призвал к себе в помощники историческую науку, естествознание, античность, а также Спинозу, но прежде всего – практическую деятельность человека. Он окружил себя сплошными, замкнутыми горизонтами, он не отрывался от жизни, но пребывал в самой гуще жизни, он не поддавался унынию, он брал на себя, выбирал для себя, вбирал в себя столько, сколько было возможно. То, чего он желал, была тотальная цельность, он победил раздор между разумом, чувственностью, чувствами, волей (тот раздор, который Кант, антипод Гёте, проповедовал своей отпугивающей схоластикой). Он самодисциплиной добивался цельности в себе, он себя творил… В своей устремленной к нереальному эпохе Гёте остался убежденным реалистом – он говорил «да» всему в эпохе, что было ему в этом сродни: его сильнейшим переживанием осталось ens realissimus по имени Наполеон.
Гёте начертал образ человека сильного, прекрасно образованного, искушенного во всех утехах плоти, умеющего обуздать себя, исполненного уважения к себе, человека, который вправе позволить себе всю полноту естественности, все богатства естества, который имеет довольно силы для такой свободы. Гёте начертал образ человека терпимого ко всему, но не от слабости, а от силы, ибо то, от чего посредственность гибнет, он умеет применить с пользой, человека, для которого нет ничего запретного, кроме слабости, как ее ни назови, пороком или добродетелью…
Гёте для Ницше – выражение самых могущественных инстинктов жизни: богатства чувств, обожествления природы, всего антиисторического. Гёте – великий дионисиец и певец жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































