Текст книги "Ницше"
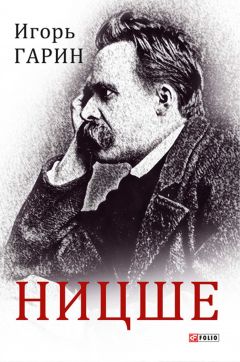
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 45 страниц)
В многоголосии Николая Гумилёва один из самых громких голосов принадлежал Ницше. «Путь конквистадоров» – вполне ницшеанский сборник молодого поэта, но и в зрелом возрасте Гумилёв относился к жизни как к эстетическому феномену, у него тоже человек, объект – «то, что следует преодолеть». В 1907 году Гумилёв с ницшеанской бравадой писал, что «он один может изменить мир». Оба верили в собственную способность – вопреки всему – «творить себя», преобразовывать болезнь в здоровье, стоически терпеть страдание, преодолевать любые физические трудности. «Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность» (Н. Гумилёв). Необходимо обратить внимание на огромное сходство типов личности Ницше и Гумилёва: внутренний аристократизм, любовь к риску, гипертрофированная чувствительность, соединение волюнтаризма и фатализма. Оба участвовали в дуэлях, добровольцами пошли на фронт, любили великих женщин, трагически погибли… Оба видели в художнике теурга, равного Богу. Адам Гумилёва наделен чертами сверхчеловека, а Гондла – вполне дионисийский герой.
Ницшеанские реминисценции соседствуют в творчестве Гумилева с христианскими влияниями. В «Колчане» поэт пытался синтезировать сверхчеловека с Христом, а в повести «Веселые братья» соединил «Заратустру» со «Столпом и утверждением Истины. У зрелого Гумилёва перекличка с дионисийством ощущается в сборниках «Костер и Огненный столп» (стихи «Я и Вы», «Детство», «Душа и тело», «Два Адама» и др.).
Андрей Белый никогда не скрывал своей близости с творцом «Заратустры», тоже временами чувствовал себя – распятым:
Относил я цветы на могилу покойного Фридриха Ницше: то было под Лейпцигом; помню: припал на мгновение к плите, лобызая ее; и – почувствовал явственно: конус истории отвалился таинственно вдруг от меня; мне казалось явственно, что событие путешествия нашего к праху почившего Ницше – событие неизмеримой, космической важности, и что я, преклоняясь к могиле, стою на вершине чудовищной исторической башни, которая – рухнула, отделилась от ног, так что я в пустоте – говорю: «Ecce Homo».
И я – «Ecce Homo».
Так мне показалось. И мне показалось еще: невероятное Солнце слетает в меня!
Переживания на могиле у Ницше во мне отразились странной болезнью… продолжились – в Базеле; часто казалось: я – распятый; так бродил над зелеными, быстротекущими струями Рейна; вонзались тернии в чело века, которое возносил я над Рейном; казалось, что гибель культуры носил я в себе; странно: тернии жизни моей обнаружились в Дорнахе мне.
Давая собственную интерпретацию сверхчеловеку Ницше, Андрей Белый в дневниковых заметках 1901 года писал:
Сверхчеловек – камень преткновения… Вот на пути-то к «сокровенной манне», к «новому имени», к белому камню, борющемуся, чтобы победить, встречаются засады, и одна из засад – сверхчеловек. «Дело в том, что здесь не сверхчеловек, – скажу я понимающему, – даже и не христианский сверхчеловек, а личность в виде знамени». Но ты, ищущий брат, этого не хотел? Иди же и сперва потоскуй до дна, будь искрен с собою, не уподобляйся страусу, когда твой дух смотрит тебе в душу, и не прячь голову в собственные перья. Тогда, быть может, ты будешь удостоен соблазна, который в лице сверхчеловека предстанет пред тобой. Тогда ты не будешь повторять за несчастными обезьянами человеческой породы: «Сверхчеловек! Дикость!», а помолишься Богу, чтобы Он наставил тебя на истинный путь. За последние года три события в литературе должны были взволновать «видящего» и «слышащего». Это: «появление «Братьев Карамазовых», «Заратустры» и «Трех разговоров». Всё это фазы, всё это новые этажи воздвигаемого здания.
Сверхчеловек Ницше для Белого – это «Личность в виде знамени», Заратустра – человек, осознавший свое назначение, ориентир для выработки доктрины самоопределения, нахождения себя в мире.
Белый, собственно, и ценил Ницше за предсказание новой личности: его сверхчеловек, писал он, это порождение тоскующей души. Безотчетная, заревая тоска породила стремление к заре, воплотила зарю в личность.
В статье «Круговое движение» Белый противопоставляет «кривоногих кретинов», обывателей Базеля, в котором написана работа, обитателю «горных высот»:
Из синеватой дали на Базель уставились великаны. Ницше странствовал по горам. Попирал их тела. Видел гнома и Саламандру. Глухонемая громада открывала певцу свои земляные зияния: обрывала песню головокружением склона. А по склону ползла злая тень Заратустры. Заратустра не раз содрогался, поворачиваясь на тень: «Не высоты пугают, а склоны» (Заратустра). Нибелунг, в образе и подобии базельного кретина, настигал Заратустру…
Заратустра учил мировому и горному. Мировому и горному учит нас и Спаситель. Оба требуют дерзновения: а дерзновение – с безумными: «С безумием… пленная воля освобождает себя» (Заратустра).
Тут символика Евангелия, если разбить на ней кору мертвого догматизма, крепко срастается с символикой Ницше, совпадая в сокровенной субстанции творческих образов.
Горы в брачных венцах.
Я в восторге, я молод.
У меня на горах
очистительный холод.
Ницшеанскими мотивами пропитаны многие стихи А. Белого:
Я вознесен, судьбе своей покорный.
Над головой полет столетий быстрый.
Привольно мне в моей пещере горной.
Лазурь, темнея, рассыпает искры.
Мои друзья упали с выси звездной.
Забыв меня, они живут в низинах.
Кровавый факел я зажег над бездной.
Звездою дальней блещет на вершинах.
Я позову теперь к вершинам брата.
Пусть зазвучат им дальние намеки.
Мой гном, мой гном, возьми трубу возврата.
И гном трубит, надув худые щеки.
Вином волшебств мы встретим их, как маги.
Как сон, мелькнет поток столетий быстрый.
Подай им кубки пенно-пирной влаги,
В которой блещут золотые искры.
Конгениальность, близкий душевный настрой, одиночество, болезнь – многое сближало Андрея Белого с Ницше, позволяло первому глубже других русских модернистов вникнуть в скрытую символику мифов второго. Хотя, как мне представляется, пароль «новой души» схвачен Белым невнятной антиномией «смерть или воскрешение», творец «Петербурга» точно определил «явление Ницше» как «разнообразие сочетаний», адогматический символизм, ориентированный на грядущее.
Все для него – мост и стремление к дальнему. Он приглашает любить страну наших детей; он запрещает смотреть туда, откуда мы идем; наша честь в том, чтобы поняли мы, куда приближаемся в детях. Но чтобы знать, куда идешь, нужно развить в себе свое будущее, т. е. иметь его: иметь образ нового человека, новое имя на камне души.
Одним из первых в России А. Белый разглядел за философом художника, за эпатирующим изгоем – чистую душу и новый стиль, за вызовом – интеллектуальную страсть. Белому принадлежит ключ к тайне Ницше: приступая к «Заратустре», следует забыть расхожие понятия и ходячие представления – образы Ницше не имеют ничего общего с привычными словами, форма – это одно, содержание – это другое.
Художественный символизм есть метод выражения переживаний в образах. Ницше пользуется этим методом: следовательно, он – художник; но посредством образов проповедует он целесообразный отбор переживаний: образы его связаны, как ряд средств, ведущий к цели, продиктованной его жизненным инстинктом: вот почему метод изложения Ницше имеет форму телеологического символизма.
Догматические утверждения Ницше – всегда только известковые отложения на какой-нибудь жемчужине…
…«Символы» Ницше… суть сложение первых зачатков грядущей природы в природе фантазии; и из символов выпадает впоследствии мир; существо символизма – строительство мира; культура поэтому символична всегда.
Задолго до К. Ясперса и Л. Шестова А. Белый разглядел за антихристианством «распятость» Ницше, внутреннюю близость распнувшего себя с распятыми людьми. Иисус и Фридрих – потому ключевые фигуры культурной эволюции, что, питаемые экстатической страстью к призракам, открыли человечеству новую мораль, отразившую переломный характер двух культур – постантичной и пострационалистической. Оба исходили из миражей мощи и величия человека, из непоколебимой веры в него. «Оба уловляли сердца людские, голубиную кротость соединили со змеиной мудростью».
Откроем любое место из «Заратустры»: оно будет ни с чем не сравнимо, но что-то в Евангелии ему откликнется. Сходство ли здесь противоположностей, противоположность ли сходства – не знаю. Но вот: белые голуби тучей любви окружают Заратустру, своего нового друга. Этим образом кончается Заратустра. Вспомним: «Заповедь новую даю вам: любите друг друга, как Я возлюбил вас». «Любите ближнего». – «Разве я призываю к ближнему? – говорит Ницше – скорее я советую вам бегство от ближних и любовь к дальним». Но ведь не в буквальном смысле заповедал любить ближних Христос, сказавши: «Я – меч и разделение». Любовь к ближним – это только алкание дальнего в сердцах ближних, соалкание, а не любовь в ближнем близкого, т. е. «мира сего». «Не любите мира сего», т. е. старого мира, ближнего, в его разлагающемся образе: любите его в образе дальнем, хотя бы и казался призрачен этот образ. «Выше, чем любовь к людям, кажется мне любовь к… призракам, – говорит Ницше, – призрак, который скользит над тобой, брат мой, красивее, чем ты… Но ты боишься и бежишь к своему ближнему». Образ Воскресшего, призрачно возникающий среди рыбарей галилейских, не был ли этим стремлением к дальнему в сердцах апостолов? В проповеди Христа и Ницше одинаково поражает нас соединение радости и страдания, любви и жестокости. «Огонь принес Я на землю, Я – меч и разделение». – «Подтолкни падающего», – мог бы сказать и тот и другой одинаково и по-разному оформить. Но смысл их не в форме, а в гипнозе переживаний, подстилающих форму.
Оба соединили кровь с вином, тяжесть с легкостью, иго с полетом. «Бремя мое легко», – заповедал Один. Заратустра, учитель легких танцев, приглашает нас вырастить кручи, чтобы образовались бездны, над которыми можно было бы танцевать. Но отсюда – бремя поднятия на кручи, отсюда – муки рождения легкости. «Создавать – это является все легким освобождением», но «для того, чтобы созидающий сам стал ребенком, снова родившимся, для этого он должен спуститься, стать также роженицей и желать болей роженицы». Вот какая легкость – легкость Заратустры: анестезия пробитых гвоздями ладоней – полет головокружительного страдания.
Вглядываясь в себя, производя свойственное человеку отождествление, А. Белый связывал творчество Ницше с его жизнью, с особенностями его психической структуры и предостерегал от опасности обстругивания Ницше, примитивизации Ницше, вульгаризации Ницше.
…Плоская доска из общих суждений о свободе личности, о предрассудках морали – вот что нас тут встречает; и эту-то сухую древесину навязали широкой публике как заправское ницшеанство!
Ницше следует слушать в себе, выуживать у него невыразимое, вместе с ним пытаться проникнуть в сокровенные глубины собственной души. Черпая у Ницше, надо черпать у самих себя.
Одним из первых А. Белый различил в творчестве Ницше маску и лицо, эпатирующую экзотику и стремление к дальним ценностям, красные слова и крестный путь.
Еще одно открытие А. Белого – философский модернизм Ницше. Любая классика – в искусстве, философии, науке – некогда была «проломом», «поворотом», новым видением мира. «Зовущую глубину содержания не разглядели мы в Ницше» – это первый признак модернизма: глубина, сокрытая новой формой. «Изломы той формы – отражение тела, ломимого духом. Подражать такой форме нельзя; можно только гримасничать».
Именно у Белого я обнаружил образ Ницше, представлявшийся мне наиболее адекватным задолго до чтения «Кругового движения»: образ Дон Кихота, но не героического сумасброда, зовущего назад, в Средневековье, но рыцаря креста, странствующего витязя вечного, еще одного библейского пророка, посланника Бога в наших умах, о котором кто-то из испанцев писал: «…Рыцарь Печального Образа – жизненный проект идальго Алонсо Киханы, который тот реализует, утверждая тем самым свободу самоосуществления личности».
К Ницше-антихристианину, как мне представляется, относятся слова Ортеги относительно человека, бегущего от реальности, полубезумца, осмеянного толпой, одержимого рыцарством, давно всеми утраченным:
Дон Кихот был одержим рыцарством, а субстрат рыцарства – христианство. Разве не называют люди сумасшедшими рыцарей Бога, героически отдающих себя делам милосердия? Они одержимы добром. Вот таким одержимым был Дон Кихот.
С удивительной проницательностью Белый описал противостояние Дон Кихота-Ницше с «карликами», не знающими ни высот, ни мук: «Вот появятся воины Ирода (для избиенья «младенца») и персонажи… сыска устроют охоту (принцип государственности – великолепный экран, которым они заслоняли ужасные действия от человечества, обреченного ими на гибель); за охраною государственных интересов стоит диаволов черный участок; и появись одаренная личность, они постараются вовремя заклеймить ее страшным клеймом государственного преступления». Здесь – не просто провидение русской «судьбы» Ницше – будущего тоталитарной культуры в целом.
Единственное, в чем можно поспорить с Белым, так это – с противопоставлением молодого Ницше-героя безумцу-Дон Кихоту: «начал жизнь как герой; кончил жизнь – Дон Кихотом». Ницше всегда оставался Алонсо Киханой, не стоящим с мечом – охраняющим идеалы культуры.
В отличие от большинства исследователей Ницше, противопоставлявших его культуре, А. Белый проследил кажущуюся, с первого взгляда, странной эволюцию экзистенциальной мысли, ведущей к Ницше:
Свет, низошедший в Распятого, Павел, Плотин, Августин, Леонардо, двоящийся Фауст, распавшийся в Канта и Ницше (Кант есть кабинеты культуры и Ницше – попытка начать восхождение), через строй этих личностей (от Августина до Ницше), их всех проницая, проходит невидимо скрытый источник, построивший палитру красок, градацию фуг и соборов, вот он запевает из Баха, рыдает в Бетховене; в нашем веке прорылся он вглубь, до источника, скрытого в нас, чтобы вырвался этот пленный источник, и – брызнул на небо, чтоб полпути, описавши спираль и отлагаясь то в линии, то в окружности, стало путем – нашим странствием к «Вечери».
Если здесь что и смущает, так это противостояние Канта и Ницше, разума и безбытийного смысла, здоровья и болезни, рассудочности и неистовости. Хотя сам Ницше избрал Канта главной мишенью для нападок (вплоть до «Кант был идиот»), Кенигсбергский затворник вел к узнику Сильс-Марии – не как последняя вершина Просвещения, но как мудрец, произнесший главную мысль Ницше: «Жизненность больше, чем рациональность», – увы, неведомую последнему. «Темные представления» и «последняя цель природы» Канта – вехи на пути к Ницше и Фрейду.
У Ницше А. Белый заимствовал мысль о музыке как форме, выражающей сущность бытия, превращающей хаос «потока жизни» в «цепь» жизненных импульсов, регулируемых «ритмами». Позже А. Блок, развивая эти идеи, будет говорить о «мировом оркестре».
Образ Диониса запал в душу многим русским искателям упоений и экстазов, подобно Федору Сологубу, писавшим вполне ницшеанские стихи:
Оргийное безумие в вине,
Оно весь мир, смеясь, колышет;
Но в трезвости и в мирной тишине
Порою то ж безумье дышит.
Оно молчит в нависнувших ветвях
И сторожит в пещере жадной.
Увы, литературные и философские интерпретации символов Ницше русскими модернистами далеки от глубины: схвачены только «первые планы», изящный стиль подменяет мудрость:
В этом священном хмеле и оргийном самозабвении мы различаем состояние блаженного до муки переполнения, ощущение чудесного могущества и переизбытка силы, сознание безличной и безвольной стихийности, ужас и восторг потери себя в хаосе и нового обретения себя в Боге, – не исчерпывая всем этим бесчисленных радуг, которыми опоясывает и опламеняет душу преломление в ней дионисийского луча.
Вяч. Иванова полагал, что «гений пафоса» возвестил миру жизни ее трагического бога – Диониса, сверхчеловека. «Обаяние Дионисово сделало его властителем наших дум и ковачем грядущего».
Сам Вяч. Иванов стал русским исследователем «эллинской религии страдающего бога», увидевшим в дионисийском экстазе отличительную особенность человека, animal ecstaticum.
Существо новой религии Иванов связывал с заимствованной у Ницше фигурой Диониса. Он любил повторять, что для Ницше дионисизм был эстетическим феноменом, для него же самого это религиозный феномен, и упрекал своего предшественника, что тот не уверовал в Бога, которого сам создал. Глашатай дионисизма, пропагандист новой религии страдающего и возрождающегося Бога, Иванов реализовывал свою задачу буквально и последовательно, всеми разнообразными средствами, которыми располагал как лидер движения, как философ и как поэт.
Вяч. Иванов в своих весьма свободных интерпретациях Ницше рассматривает «дионисийские» начала жизни (дисгармония, страсть, страдание, разъятие, гибель) как одну из сторон бытия, без которой невозможны гармония, радость, цельность, возрождение. «Бунт», революция – неизбежные свойства и этапы развития живой жизни. «Вакхическое» безумство у Вяч. Иванова ассоциируется с гибелью (в отличие от Ницше, Дионис для Иванова – не противоположность, а ипостась Христа). Но это не «дионисийское» начало – бунт, «неприятие мира». Так возникает в сознании Блока Христос – не воплощение чистой духовности («верхней бездны» Мережковского), не непризнанный мессия «Золота в лазури» Белого и не образ чистой, детской веры и покорности, как было у друга Блока Евг. Иванова), а Христос – Дионис («Христос-Демон», скажет Блок в 1907 г.), «сжигающий Христос» народных восстаний.
Для Вяч. Иванова Дионис – бог преизбыточного, оргийного, исступленного благовестия радостной смерти, страдающего ликования. За эпитетами как-то отступают страшные и темные силы жизни, судьба, хаос, первозданность. Вместо «борьбы за существование» – пляски дубравных сатиров, вместо поражения – «сладко крушение»…
«Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельной силою, неистовством только разрушительным», – пишет Вяч. Иванов в одной из статей ницшевского цикла. Для меня это равнозначно опасности полноты жизни, которой Россия, известная «синдромом сдавливания», никогда не знала…
Иванов прошел школу Ницше низвержения кумиров, переоценки ценностей далеко не в ницшеанском смысле этих понятий. Восторженный дух соседствует с чисто нашенским «не понял», «противоречит самому себе», «не уверовал в Бога, которого сам открыл миру». Мифология Ницше несовместима с уличением в лицедействе, виновности, непоследовательности, надрыве духа. «Роковая двойственность», «мессианизм», «жертва богоборства», «внутренний разлад», «игра в самораздвоение», диалектические штучки – негодный арсенал средств при анализе мифа, коим, судя по всему, была философия-поэзия еще одного Несчастнейшего.
Мне трудно согласиться с утверждениями Иванова, будто Ницше славил саморазрушение, «тосковал по огненной смерти», чуть ли не сознательно впал в безумие («Это принципиальное отрицание религиозного творчества замкнуло его душу в себе самой и ее разрушило»). Ницшевский цикл Вяч. Иванова страдает эстетством: красивости используются, дабы скрыть поверхностность, русская ментальность просвечивает сквозь европейский маньеризм, словесные пирамиды воздвигаются над пустотой…
Вяч. Иванов «перекраивал» ницшеанство на «русский лад», порой не замечая, что получается нечто несовместимое с Ницше: «Страна покроется оркестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где действие трагедии и комедии, народного дифирамба или народной мистерии воскресит народное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество – соборно), где самая свобода найдет очаги своего безусловного беспримесного, непосредственного самоутверждения (ибо хоры будут подлинным голосом народной воли)». Мы трагически осведомлены с результатами такого противоестественного перекраивания, с «хороводами» недочеловеков, усвоивших у Маркса и Ницше только приставку «сверх»…
Прежде чем русский сверхчеловек приобрел – не без помощи Вяч. Иванова – черты соборности, общинности, совершенно немыслимые в ницшеанстве, уже были произнесены сакраментально-вещие слова, еще раз доказывающие причастность русских интеллигентов к народному бесовству: «Кто не хочет петь хоровую песнь – пусть удалится из круга…» Если такое говорит поклонник Ницше, чего ждать от его хулителей?..
Поборники «русской идеи» объясняли «закат» Запада крушением морального абсолюта, веры в непреложность различия между добром и злом. Запад в лице Ницше считал, что причиной «заката» может стать именно абсолютизация добра – его вечность и неизменность, ведущая к лицемерию и обману. Не будем суесловить о том, кто прав. Новейшая история рассудит, может быть, уже рассудила…
Русскими ницшеанцами были Богданов и Базаров. Опиравшийся на К. Леонтьева, В. Розанов оказался «ницшеанцем» до Ницше, а «русские неоидеалисты» С. Франк, Н. Лосский и С. Булгаков, при всей их религиозности, находились под явным влиянием идей Ницше. Сами русские мыслители признавались, что «атеист» Ницше открыл Бердяеву дорогу к религии, Франку – к осознанию духовного мира, Шестову – к «преодолению самоочевидностей».
М. Михайлов:
Ницше – открыватель пути к духовному миру, Богу и религии! Ницше – ведущий к христианскому мистицизму! Ницше – «творец целей грандиозной моральной системы»! «Сверхчеловек» как ступенька к Богу!
Однако сомнений нет. Именно так воспринимали русские философы гениального немца. Такими словами заканчивает свою раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Нитше» (1900) Лев Шестов: «Нитше открыл путь. Нужно искать то, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога».
По мнению М. Михайлова, именно Ницше открыл молодым Бердяеву, Франку, Булгакову, увлекшимися марксизмом, опасность оносороживания, обыдливания масс уравниловкой, продемонстрировал первичность личностного начала, «я» души, духовного мира, противостоящего миру физическому и коллективному. Все они обязаны Ницше пониманием важности проблем ценностей и сущности человека: ценности обретают бытие исключительно через человеческую волю и человеческое сознание – именно воля и сознание гаранты ценностей, без которых не может существовать ни один человек. Некоторые бердяевские тексты можно отличить от ницшеанских только религиозной тональностью: «Моральное совершенство и моральная возвышенность не должна угашать фаустовского стремления к полноте жизни. Истребление творчества во имя добра, во имя закона морали – страшная реакция, препятствующая исполнению Божественных предначертаний, задерживающая наступление разрешающего конца. Силы, исключительно приверженные закону, не понимают и не принимают той высшей правды, что творчество – уже большее, чем первоначальное послушание воле Божьей, что Бог сам возжелал откровения воли человеческой». В этом отношении человек – не антитеза Богу, но созревший плод христианского духа.
Лев Шестов считал «ницшеанскими» «Смысл творчества» и некоторые другие книги Бердяева: «Даже манера писать Бердяева напоминает Ницше, и, что, особенно любопытно, Ницше самого последнего периода, когда им был написан “Антихрист”».
Когда Н. А. Бердяев говорил, что в Ницше много славянского, речь шла не только о влияниях Достоевского, но о многих параллелях – с Данилевским, Леонтьевым, деятелями Серебряного века.
Бердяев и Шестов сразу уловили, что имморализм – не отказ от морали, но очередная попытка богоискательства: «Ницше открыл путь… Нужно искать Бога». «Через Ницше новое человечество переходит от безбожного [безличностного] гуманизма к гуманизму божественному [персональному], к антропологии христианской…»
В Ницше Россия обрела благодатный материал. В его судьбе увидели подтверждение своих глубинных чаяний: философская истина есть то, за что страдает и умирает живой человек. Для многих это было освящением философии: не философия, но философ, личность, опять-таки – «распятый». Это было не только подтверждение своей правды, обретенное на Западе, но и оправдание Запада, оправдание «греха мысли», очистительная жертва, встреченная если не с готовностью, то все же с вдохновением: «Фр. Ницше – величайшее явление новой истории… Ницше – искупительная жертва за грехи новых времен, жертва гуманистического сознания… Муку Ницше мы должны разделить: она насквозь религиозна» (Бердяев).
Лев Шестов, под влиянием Ницше, интересуясь его судьбой, связью творчества и болезни, поисками Бога, пришел к выводу, что никакие идеалы не разрешают человеческую трагедию. Любая проповедь, в том числе ницшеанская, представляет собой бегство от трагичности человеческого существования, попытку преодолеть ее «идолом» мировоззрения.
Шестовские «Афины и Иерусалим» насыщены ницшеанскими реминисценциями и мотивами, которых автор не скрывает. Два примера:
Споры об истине. Отчего люди столько спорят? Когда о житейских делах идет речь, оно понятно. Не поделили чего, и каждая спорящая сторона норовит доказать свое, в расчете, что ей больше достанется. Но ведь и философы спорят, и богословы спорят, а ведь им как будто делить нечего. Выходит, что собственно не спорят, а борются. Из-за чего? Или, чтоб бороться, нет вовсе нужды, чтоб было из-за чего бороться? Война есть отец и царь всего, учил еще Гераклит: главное – бороться, а из-за чего бороться, это уже дело второе. Один скажет: человек есть мера всего; ему сейчас ответят: не человек, а Бог есть мера всего, и – нападут на него. Один провозгласит: подобосущный, ему в ответ скажут: единосущный, и опять вызов на последний и страшный бой и т. д.: вся история человеческой мысли – и философской и богословской – есть история борьбы, и борьбы не на жизнь, а на смерть. Нужно думать, что представление об истине как о том, что не выносит противоречия, имеет своим источником страсть к борьбе. Старые люди – философы и богословы ведь обычно старики, – которые не могут драться на кулаках, выдумали, что истина едина, чтоб можно было хоть на словах драться. А истина вовсе и не «едина» и совсем не требует, чтоб люди дрались из-за нее.
Мышление и бытие. Чем больше приобретаем мы положительных знаний, тем дальше мы от тайн жизни. Чем больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем трудней становится нам подойти к истокам бытия. Знания отягчают нас и связывают, а совершенное мышление превращает нас в безвольные, покорные существа, умеющие искать, видеть и ценить в жизни только «порядок» и установленные «порядком» законы и нормы. Вместо древних пророков, говоривших, как власть имеющие, нашими учителями и руководителями являются ученые, полагающие высшую добродетель в послушании не ими созданной и никого и ничего не слушающей необходимости.
Мне представляется, что перу Л. Шестова принадлежат лучшие в нашей философии книги из цикла «Запад и Восток» – я имею в виду «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», а также «Достоевский и Ницше. Философия трагедии».
С. Л. Франк, набравшись духовного опыта Заратустры, после чтения Ницше признавался:
Я был совершенно потрясен глубиной и напряженностью духовного борения этого мыслителя, остротой, с которой он заново ставил проблему религии (как прежде нам казалось, давно уже разрешенную – в отрицательном смысле – всеми просвещенными людьми).
Под влиянием Ницше во мне свершился настоящий духовный переворот… мне впервые, можно сказать, открылась реальная духовность жизни. В душе моей начало складываться новое «героическое» миросозерцание, определяемое верой в абсолютные ценности духа и в необходимости борьбы за них.
С этого момента я почувствовал «реальность духа», реальность глубины в моей собственной душе – и без каких-либо особых решений моя внутренняя судьба была решена. Я стал «идеалистом», не в кантианском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открывавшего доступ к незримой внутренней реальности бытия. Я стал философом…
Тем не менее «став философами», Бердяев, Шестов, Франк либо открестились от философии Ницше, либо попытались создать собственных «кентавров». В самой «ницшеанской» своей книге «Смысл творчества» Н. А. Бердяев следующим образом «исправлял» «ловца душ»:
Он сгорел от огненной творческой жажды. Религиозно ведомы ему были лишь закон и искупление, в которых нет творческого откровения человека. И он возненавидел закон и искупление. Ницше возненавидел Бога, потому что одержим был той несчастной идеей, что творчество человека невозможно, если есть Бог. Ницше стоит на мировом перевале к религиозной эпохе творчества, но не в силах осознать неразрывной связи религии творчества с религией искупления и религией закона, не знает он, что религия едина и что в творчестве человека раскрывается тот же Бог, Единый и Троичный, что и в законе, и в искуплении.
Ницше говорил как религиозный слепец, лишенный дара видения последних тайн. Религия Христа совсем не то, за что Ницше ее принимал. Христианская мораль не рабски плебейская, а аристократически благородная, мораль сынов Божьих, их первородства, их высокого происхождения и высокого предназначения. Христианство – религия сильных духом, а не слабых. В христианской святости был подбор сильных духом, было накопление духовной мощи. Христианская этика – этика духовной победы, а не поражения.
Даже те из русских философов, для которых Ницше не стал «ужасом», соединяли его «нигилизм» то с «русской идеей», то с Христом, то с «соборностью», то с «чистотой Писания». Естественно, получалась абракадабра…
Было бы в высшей степени ошибочным полагать, что апологет персонального начала и творец новых ценностей стал кумиром всей русской интеллигенции конца XIX – начала XX века.
Влияние Ницше – уникальный случай, когда русское богоискательство и русский идеализм отталкивались от жгучей человеческой искренности философа, возвестившего «смерть Бога» и «переоценку» всех видов идеализма. «Потрясенные силой его голоса, они двинулись по пути, приведшему их к прямо противоположному тому, о чем вещал Ницше».
Находясь под влиянием идей Ницше, русские религиозные философы, естественно, не могли принять его антихристианства: Булгаков отнюдь не случайно сравнивал его с Великим Инквизитором из «Братьев Карамазовых», а Шестов – с героем «Записок из подполья».
Октябрь 17-го прервал шествие Ницше в Россию, как вообще прервал культурные связи и возможность духовного обогащения. Большевики пели ницшеанские песни и складывали ницшеанские стихи – «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…» или «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни…» – и поносили автора «переоценки всех ценностей»… Малообразованные и потому всеядные русские марксисты не отличались разборчивостью. «Партийная философия» отрицания всей мировой культуры родилась в эпоху Великого Учителя, а Богданов, Луначарский, Горький, Троцкий, Малков еще могли себе позволить ницшеанство, фрейдизм и другие «родимые пятна» империализма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































